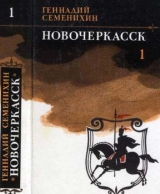
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
– Ну где же ты, Любочка? – нетерпеливо окликнул заждавшийся Григорий Афанасьевич. – Шагай смелее, моя добрая фея. Я приказал камердинеру потушить все свечи в гостиной. Проходи, пожалуйста, в спальню. Кофе можешь поставить на маленький столик. Не с кофе подобает начинать в эту чудесную ночь. Сначала выпьем на брудершафт по бокалу шампанского. Оно нас согреет и возбудит наши желания.
– Я не пью, барин, – промолвила девушка, но хриплый голос Веретенникова тотчас же ее перебил:
– Не пьешь? А я ведь и не принуждаю тебя к этому. Но шампанское – напиток королей, самый благородный и нежный из напитков. Его нельзя отвергать, Любочка.
Выстрелила пробка, и Андрейка, неслышными шагами пересекавший гостиную по ковру, уловил шипение винной струи, наполнявшей бокалы.
– Что такое брудершафт, барин? – упавшим голосом спросила Люба.
– О! – засмеялся Веретенников. – Сейчас я покажу. Брудершафт – это означает выпить по-братски и трижды при этом расцеловаться. Становись ко мне поближе, милая девушка, руку – вот так. Вот тебе в эту руку бокал. А теперь пусть зазвенит благородный хрусталь. Немножко выпьем и поцелуемся. Два раза в щеки, один – в губы.
– Барин, не надо, – вымолвила Любаша с мольбой.
Наливаясь яростью, Андрейка услышал тонкий звон бокала о бокал и торжествующий голос Веретенникова:
– Ты слышишь, моя добрая фея, это не звон, а песня. Поэзия, черт возьми! Пей же, дорогая. О как идет тебе это платье, а голубые серебряные туфельки так ясно подчеркивают прелесть твоих ножек. Ты сейчас настоящая фея, спустившаяся на землю, чтобы украсить суровое мое бытие. Не хочешь пить? Ну не пей, я вовсе не собираюсь тебя принуждать. Садись ко мне поближе и рассказывай что-нибудь хорошее на сон. Мне безразлично что. Важна сама возможность слушать твой голос и гладить твои руки. Почему они у тебя такие холодные, моя девочка?
– Я вас боюсь, барин, – отстранилась Любаша.
– Боишься? – засмеялся Веретенников. – Отчего же? А ведь я не кусаюсь. Я лишь приласкать тебя хочу.
– Барин, не надо, – громко сказала Любаша, – барин, хороший, добрый, смилуйтесь. Отпустите меня.
Голос ее дрожал от тоски и страха. Андрейка сделал несколько торопливых шагов и встал у самой двери в спальню за толстую бархатную портьеру. Забыв о предосторожности, он за что-то зацепился ногой. В пустынной гостиной раздался грохот, а следом обеспокоенный голос Григория Афанасьевича:
– Что это там? Я сейчас выйду посмотреть.
– Вам показалось, барин, там ничего. Мало ли какая вещица могла упасть, – поспешно проговорила Любаша. – Стоит ли беспокоиться.
– А ты права, проказница, – игриво откликнулся барин. – Стоит ли даже на мгновение лишаться твоего прекрасного общества? Это, наверное, каминные щипцы упали. Они весьма часто падают.
– Вот-вот, – быстро подтвердила девушка.
Андрейка застыл за душной от пыли портьерой, даже затаил дыхание, чтобы ненароком не расчихаться. Как ему хотелось, чтобы барин, пошутив, отпустил Любашу. Тяжко дыша, Андрейка вглядывался в окружающие предметы. Глаза его освоились с полумраком, мозг работал холодно и четко. Он сам удивился тому, как сейчас спокойно размышлял, готовясь любой ценой защитить Любашу. На длинном столе, очищенном от тарелок и бутылок и застеленном скатертью с длинной бахромой, стоял бронзовый подсвечник, и Андрейка с мрачной решимостью подумал о том, что этот подсвечник станет его главным оружием. Ровная полоска света падала из спальни на широкий ковер, устилающий паркет. Парень напряженно вслушивался в голоса, доносившиеся из спальни, и опять с жадной надеждой думал, что, может, все еще завершится миром. Веретенников отпустит Любашу, и белый помещичий дом погрузится во мрак. Но в соседней комнате что-то происходило не так, как ему хотелось бы, и рушило напрочь эти его мирные предположения.
– Барин, – громким голосом произнесла Любаша, видимо желая приковать к себе внимание Андрейки.
– Что, моя ласточка? – усмехнулся Веретенников.
– Вот вы говорите, что уважаете меня.
– Не только уважаю, но обожаю, и ты в этом вскоре убедишься.
– Исполните одно мое желание.
– Какое же, дорогая фея?
– Разрешите нам пожениться.
– С кем? – взревел Веретенников. – С этим грязным, чумазым парнем, которого я могу в любую минуту высечь, потому что он мой холоп?
– Я люблю его, барин. Сильно люблю.
– Ты ошибаешься, Любочка. Он недостоин твоей любви. Но если ты так уж настаиваешь, я вас поженю. Однако несколько позже.
– Когда же?
– После того, как ты наградишь меня своими ласками. Да, да, моя ласточка. Если ты не хочешь, чтобы по моей воле ему забрили лоб и на долгие годы отправили в солдаты, то не будь строптивой. Запомни, Веретенников строптивых не любит.
Андрейка услышал шум завязавшейся борьбы и весь похолодел от ярости. Во рту стало сухо, гулкие толчки сердца под старой холщовой рубахой били громче, чем барские напольные часы, стоявшие в дальнем углу гостиной. А из спальни в эту минуту донесся крик, полный отчаяния, обреченности и ужаса:
– Барин… не губите!
Андрейка метнулся к обеденному столу, схватил тяжелый подсвечник. Темная молчаливая бронза обожгла руку. Валя на своем пути стулья, он распахнул дверь в спальню. Увидел красноватый плешивый затылок и сгорбившуюся спину. Плешь все шире и шире расплывалась у него перед глазами, превращаясь в большое грязное пятно. Барин так и не успел обернуться. Андрейка высоко поднял руку и ударил бронзовым подсвечником по этой ненавистной плеши, вложив в удар всю свою ярость и отчаяние. Веретенников икнул и безвольно сполз с кровати. Большое, тяжелое тело глухо шлепнулось на пол. Распластанный на спине, он смотрел в потолок, на котором были вылеплены увитые виноградной лозой пухлые беззаботные амурчики. Глаза его стекленели. В какое-то мгновение Андрейке показалось, будто он силится что-то сказать, потому что вспухшие его губы пошевелились, но потом он еще раз икнул, коротко дернулся и закрыл тяжелые веки. Любаша в изодранном белом платье стояла на коленях в постели, комкая в руках тяжелую черную косу.
– Ты его не насмерть? – вся дрожа, спросила она.
– Не знаю, – хрипло пролепетал Андрейка.
Не сговариваясь, они опустились на пол, и парень с острасткой прикоснулся к лицу помещика.
– Ты знаешь, Любаша, он мертвый.
Девушка зарыдала, сдавив ладонями виски.
– Андрейка, – протянула она в плаче, – как же теперь? Мы же пропали. Наутро придут слуги, нас свяжут и отправят в острог.
– Тебе его жаль? – сурово спросил Андрейка.
– Такого зверя? – горько ответила Любаша. – Да ведь если бы не ты, он бы опозорил меня, как и всех других крестьянских девушек, которых ему сюда доставляли. И как бы я могла после этого жить, в глаза твои смотреть, Андрейка.
– Он бы всю жизнь стоял меж нами.
– Он и теперь будет стоять, – всхлипнула Любаша, – потому что мы его убили.
– Не мы, а я, – резко поправил ее Андрейка. Дрожали свечи в желтых канделябрах, и черными продолговатыми пятнышками прыгали тени от них по стене. – До рассвета часа три с небольшим, – сказал Андрейка, и брови его решительно сдвинулись.
– Так что? – прошептала Люба, с надеждой вглядываясь в его лицо. Она сейчас понимала, что только он один может найти выход из замкнувшегося страшного круга полнейшей их обреченности.
– Слышь, Любаша, надо бежать, – быстро, но уже твердо заговорил парень. – Коли здесь застанут – и мне и тебе каторги не миновать.
– А куда? Ведь по всей земле царской сотские да полицейские понатыканы.
– Есть такой край, до него три сотни верст с гаком от нашего Зарубино. Донской землей называется. Там вольные донские казаки живут и всех до себя принимают. У них даже поговорка на этот счет сложена: с Дона выдачи нет. Мне дед Пантелей сказывал.
– Выдумщик он, – перебила Люба, – хоть и добрый, а выдумщик.
– Все равно у нас иного выхода нет, – настаивал парень. – Или бежать, или мне казнь, а тебе сплошные страдания на каторге. До рассвета в барские покои никто не сунется, а за это время мы на лошадях хорошим галопом много верст отмахаем. – Он поднял за руки ее с пола, твердо приказал: – Забери с собой какую ни есть одежонку, Любаша, и выходи прямиком за околицу. Да побыстрее. А я тебя на лошадях догоню. Зяблика оседлаю, да кобылицу Палашку в придачу. Думай не думай, а другого выхода бог не дал.
10
Полчаса спустя Андрейка рысцой выехал за околицу, держа за уздечку лениво трусившую рядом с Зябликом Палашку. Любаша стояла у старого вяза, чуть подпаленного снизу молнией. Отсюда начиналась дорога на юг, белая и неподвижная в предутренней тиши. У ног ее лежало плетеное грибное лукошко, куда поместилась вся ее нехитрая одежонка.
– Нам мешкать несподручно, – строго оповестил ее Андрейка, – вишь, на востоке уже белая полоска появилась.
Несколько часов подряд уносили их кони на юг от оставшегося далеко позади Зарубино. Уставшие всадники спешились.
– А как же с лошадьми? – спросила растерянно Любаша, будто сейчас самым главным для нее было узнать у Андрейки, как он собирается распорядиться лошадями.
– Отпустим, – грустно вздохнул Андрейка. – Куда с ними возиться. Да и конокрадами еще назовут.
– А это лучше или хуже, чем убивцами? – горько осведомилась девушка.
Андрейка сжал сухие горячие губы.
– Зачем же ты так, Любонька? Разве я его по злому умыслу порешил? Тебя от него спасал, от зверя лютого. Или лучше было бы, если бы он опозорил тебя навеки?
Она не ответила. Грустными синими глазами всматривалась она в расплывчатую предрассветную муть и неверными петлями от них убегающую дорогу. По-разному воспринималась эта дорога, которая вела вдаль от крайних зарубинских изб. По этой дороге не однажды с подвыпившими своими дружками возвращался с буйных ярмарок Григорий Афанасьевич Веретенников. По ней же отправлял на распродажу обозы с зерном молчаливый хозяйственный управляющий Штром, все презирающий на этой чужой для него русской земле, мечтавший сколотить капиталец, чтобы рано или поздно возвратиться к себе в Саксонию, «нах фатерлянд». По этой же дороге уходили с печальными песнями молодые крепкие парни на долгую царскую службу, а возвращались состарившимися и хилыми, с выбитыми усердными фельдфебелями зубами, искалеченными в сражениях, а бывало, слепыми или глухими. По ней же уводили на каторгу самых строптивых зарубинских мужиков, не пожелавших всю свою жизнь покоряться деспоту Веретенникову.
Для Любаши и Андрея Якушева она была дорогой спасения. Андрейка посадил девушку в седло, и они решительно тронули лошадей. Сначала ехали тихо, чтобы топот копыт не мог потревожить ни одно чуткое ухо в сонном селе Зарубино, затем перешли на галоп. Дорога, уводившая их к югу, была пустынна и нема. Солнце медленно всходило на востоке. Сначала оно расплескало ярко-розовую радугу и острые зарницы. Потом зарницы померкли, исчезла и радуга. Лишь спелый огненный бок возвысился над рыхлым весенним полем. Земля оживала, согретая наступающим утром.
Чтобы не нарваться на непредвиденные неприятности, они старательно огибали хутора и проселки. Ехали молча, лишь изредка перебрасываясь односложными фразами.
– Как ты думаешь, там об этом уже узнали? – подавленно спросила Любаша, когда они отъехали от Зарубино уже на порядочное расстояние. Парень отрицательно покачал головой.
– Едва ли. Дворовые привыкли к его пьяным выходкам. Решат, что сам по барской прихоти увел из конюшни Зяблика и Палашку и ускакал к дружку своему Столбову.
– А если продать лошадей цыганам? – несмело предложила девушка. – Они бы за Зяблика хорошо дали. С деньгами на Дон полегче было бы пробираться.
– Не надо, – решительно запротестовал Андрейка. – Пусть никто не подумает, что мы воры.
– А вдруг мы лошадей отпустим, а они не придут в Зарубино? – выразила она опасение, но парень и в этом случае остался непреклонен:
– Придут. Зяблик всегда найдет дорогу. Вот тебе крест.
А когда они пересекли очередную речку и оказались на другой земле, уже не входившей в их прежнюю губернию, где, вероятно, мало кто знал и о Зарубине, и о жестоком барине Веретенникове, потому что велика Русь, Андрейка отпустил лошадей, предварительно выбросив седла в придорожную канаву. На прощание он погладил вспотевшую морду Зяблика, подставил жесткую свою щеку к его губам и обрадовался, когда Зяблик тихонечко заржал.
– Вот и простились, – сказал он печально. – И никогда больше не увидимся, Зяблик. Ты – чистый, а я – убийца. Только я по-другому не мог. – Андрейка похлопал коня по разгоряченному крупу и прибавил: – А теперь иди. Домой иди, дурашка…
Они с Любашей долго шли не оглядываясь. А когда остановились, чтобы перевести дух, и все же посмотрели назад, Зяблик все еще стоял на дороге и с недоумением смотрел им вслед. Глупая кобыленка Палашка, безразличная ко всему на свете, сойдя на обочину, равнодушно щипала траву. У Андрея будто ноги приросли к земле, и он долго стоял на пригорке, ощущая душную горечь подступающих слез. «Так ли я уж виноват, что убил этого человека? – думал он, подавляя в себе мелкую дрожь. – Люди убивают друг друга, чтобы чем-нибудь завладеть и разбогатеть. А я убил негодяя, пытавшегося искалечить две наши жизни. Убил лишь ради того, чтобы не осквернил он насилием Любашину чистоту, и все-таки дрожу как осенний лист, и призрак этого человека с остекленевшими глазами небось всю жизнь будет теперь преследовать». Любаша, вглядевшись в его посеревшее лицо, выдавила нелегкую улыбку.
– Не надо, Андрейка, гони от себя прочь черные мысли. Ты меня спас от позора, и я на любые теперь испытания с тобою готова. Ты видишь, Зяблик уходит.
Андрейка медленно поднял голову. Увидел, как по давно просохшей от росы дороге понуро побрел в сторону Зарубино белоснежный Зяблик с редкостной черной звездой во лбу, а за ним лениво и безразлично вышагивала кобыленка Палашка. Они возвращались домой по дороге, которая навсегда стала запретной для Андрейки и Любы.
– А я у тебя не такая, – вдруг сказала Любаша, не сводившая глаз с коней, исчезающих за поворотом дороги, там, где начинался тугой гребень леса.
– Что? – не понял парень.
– Не такая, – властно повторила девушка. – Ты видишь, какие они разные, гордый Зяблик и вялая Палашка. Так и у людей бывает. Мужик гордый, а жена ему не под стать, плохая опора, одним словом. И тогда не жизнь.
– А ты? – в упор спросил у нее Андрейка.
– Мы равные, – горячо подтвердила Любаша. – Что ты, что я. И ни в какой беде я тебя никогда не брошу. Так душой к тебе прикипела.
Они шли весь день и почти всю ночь. Подавленные мрачными переживаниями, издали они были похожи на нищих или погорельцев, отправившихся в неведомый путь в поисках лучшей доли. Под самое утро, вконец обессиленные, они заночевали в заброшенном амбаре подле большого, растянувшегося по берегу узкой извилистой речушки села. Когда они проснулись, солнце стояло уже высоко над степью, и яркие его лучи предвещали теплый и ясный день. С тоской оглядев длинную улицу из крепких свежеокрашенных изб под толстыми крышами, Якушев решительно сказал:
– В это село заходить не будем, Любаша. Бог его знает, какие там люди.
– Может, передохнем, Андрейка? – обессиленно сказала девушка. – Ноги аж чугунными стали. – Она присела на обочину. – Ой, не могу, глянь, волдыри-то какие.
Андрейка сострадательно покачал головой. Ее ноги действительно были багровыми, белая кожа вздулась на месте потертостей. Любаша тяжело дышала, под глазами синели полукружья, и Якушев подумал о том, как нелегко дается ей их многоверстный путь.
– Эка, кожа у тебя какая нежная, – промолвил он, – а ты сними лучше башмаки, шагай босиком, ласточка, полегчает ногам твоим. А засиживаться мы не можем. Опасно.
Любаша, не отвечая, достала из лукошка кусок ржаного кислого хлеба, разломила пополам и протянула одну половинку Андрейке.
– Бери… это последние наши запасы.
– Ничего, лукошко станет полегче, когда их съедим, – невесело пошутил парень. – Переведем дух – и дальше.
Спрятав в лукошко тяжелые башмаки, Любаша, прихрамывая, пошла. Под босыми ногами приятно теплела согретая весенним солнышком земля. И опять повела их вперед сухая, пыльная дорога, которой, казалось, не было и конца. На четвертый день беглецов догнала телега, запряженная довольно бодрой лошадью. В ней сидел мужик в новой чистой рубахе и сапогах, густо смазанных дегтем. Он недоверчиво оглядел путников:
– Куда путь держите, странники?
– В Белую Калитву, – степенно пробасил Андрейка, стараясь придать своему голосу наибольшую уверенность. – Часом, с пути не сбились?
– Да нет, – продолжая их внимательно разглядывать, отрицательно ответил мужик таким же недоверчивым голосом. – А что у вас за нужда такая? До нее вон как далеко. Сотня верст будет.
– Тетка ее тяжело заболела. Боимся, помрет, вот и торопимся, – соврал Андрейка.
– А-а, – протянул мужик, – ну, бог вам на помощь. А то тут поблизости, верстах в десяти, солдат ужасть сколько понаехало. И пеших, и конных. Цепочкой рассыпались, ищут кого-то.
– Бог с ними, – весь похолодев, произнес Андрейка, – У солдат свои заботы, у нас свои.
– Ну как знаете, – отозвался мужик и погнал свою лошаденку дальше. Грохот удаляющейся телеги показался Андрейке оглушительным. Ощущая, как затяжелели ноги, он тихо обратился к Любаше:
– Этот дяденька прав. Нас они ищут.
– Неужели? – вскрикнула девушка.
Андрейка недолго осматривался по сторонам. Слева – голая степь в буераках и впадинках, с зелеными чистыми всходами засеянной с осени пшеницы. Но сколько бы по ней верст ни пошел – везде будешь виден как на ладони, и нет тебе нигде спасения от погони. Справа – невзделанная бугристая целина, прорезанная сверкающей речушкой, за которой начинался по-весеннему пышный лес.
– Быстрее к ельнику, Любаша, – взволнованно выкрикнул Якушев. Они побежали по целине от бугра к бугру, преодолевая на своем пути лощины, и, запыхавшиеся, остановились на илистой отмели. Узкая речушка была впереди. Мутная, с плавающими у берегов водяными лилиями. Почти по пояс вымочившись, они ее перешли. Любаша старательно выжимала сарафан и была этим так занята, что не сразу оборотилась на встревоженный возглас Андрея:
– Любаша, оглянись на бугор.
Девушка оглянулась и оцепенела. С бугра, откуда широкий тракт, по которому они все время двигались на юг, сворачивал влево, ровной цепью шли люди. Конные – по дороге, пешие – сбоку.
– Смотри, аж двенадцать штук, – пересчитал их Андрейка. – Бежим лесом, Любаша, а то поздно будет.
По топкому берегу бросились они вперед и сразу же попали в густые заросли камыша. Осока больно резала ноги, но останавливаться не было времени. Когда они перебегали поляну перед лесом, позади раздались угрожающие окрики.
– Поспешай! – прокричал Андрейка.
Он бежал первым, раздвигая камыши, и все время слышал тяжелое дыхание уставшей Любаши у себя за спиной. Оконечность леса состояла из мелкого колючего кустарника, росшего на тонкой болотистой почве, и Андрейка сразу подумал, как будет легко обнаружить преследователям их следы. Ни слова не говоря об этом Любаше, он петлял то влево, то вправо, пока не углубились они в чащу. Вода перестала чавкать позади, и стена камышей замкнулась. Темные верхушки деревьев скрыли их теперь, как ему показалось, до того надежно, что уже не было слышно никаких отголосков погони.
– Я больше не могу, – вздохнула Любаша. – Ноги вот-вот подкосятся.
– Погодь, сейчас отдохнем, – пообещал он.
У огромного, древнего, но уже зачахшего дуба чернела широкая яма. «Мертвое дерево и могила», – испуганно подумал парень, но иного выхода не было.
– Ложись, – позвал он за собой Любу и спрыгнул первым.
Любаша с коротким стоном повалилась на холодное земляное дно, пахнущее замшелой листвой и черноземом. Он наломал свежих веток и забросал ими девушку с ног до головы, так что ее невозможно было увидеть даже с близкого расстояния. Потом лег рядом и, плотно прижавшись к ней, шепотом спросил:
– Боишься?
– Нет, – широко открыла девушка загоревшиеся глава. – Там, где ты, мне не боязно. Даже если на лютую казнь поведут. А погибать придется, то смерть рядом с тобой приму, не вздрогнув.
Андрейка не успел ответить. Чутко вслушиваясь в лесной полуденный воздух, он первым уловил треск сучьев под тяжелыми шагами преследователей и явна приближающиеся голоса.
– Это они, – тоскливо вздохнула Любаша, и плечи ее затряслись.
– Нишкни, – откликнулся парень.
Голоса наплывали, и усталое дыхание шагавших по лесу людей слышалось совсем рядом.
– Ух, не могу, – просипел один из них. – Давай, Осин, сядем передохнем. Сапоги у меня до коленок болотной водой полнехоньки. Так и хлюпает, проклятущая, под ногами.
– Надо бы еще малость вперед пройти, – недовольно откликнулся его спутник. – Господин прапорщик ругаться будут. Это я как в зеркале вижу.
– Да оставь, Осип. Никто, по-моему, из наших за нами даже не пошагал, когда мы в эту топь метнулись. Это господину прапорщику после вчерашнего пьянства померещилось, будто сюда парень и девка бегли.
– Да нет, я своими глазами точнехонько видел. Бегли парень и девка. А это как раз и соответствует описаниям. Такие по приметам и есть злоумышленники.
– А что они сделали, Осип? От барина свово, что ли, сбежали?
– Если бы только сбежали, Порфишка. Пристукнули его по всем правилам.
– Ой ты. И за что же, скажи на милость?
– Темное дело, Порфишка. Прапорщик считает, что ихний помещик девку эту к себе на ночь призвал. Позабавиться хотел, одним словом. А парень ейный сильно ее любил и не стерпел по этой причине. Чем-то тяжелым по черепу барина своего саданул. Из того и дух вон.
– Скажи на милость. Знать, смелый был парень.
– Смотри так при прапорщике нашем не выразись. Шомполов отведаешь.
– Да я чего, моя хата с краю. Я человек приказной. Приказали искать, вот и ищу. Только дивлюсь, с какой экстренностью наш отряд в погоню послали. Почитай, в день убивства снарядили. Видать, именитым был тот барин.
Они помолчали, и голос первого наполнился неожиданной тоской:
– А ведь если разобраться, парень этот и не виноват. За девку вступился. Ну почему так устроено в мире нашем: прежде чем бедный парень на красивой девке женится, барин с ее должон пенки снять? Слушай, Осип, что я тебе скажу. Давай по цигарке выкурим и до прапорщика подадимся. Скажем: так, мол, и так, не нашли никаких следов от беглецов энтих самых. Ну на кой нам черт этот парень и его девка!
– Да я что, – недовольно сопя, отозвался второй. – Я не против. Только прапорщик наш ух как требовал, чтобы мы их нашли. По целому штофу водки обещал. И еще, знаешь, что говорил? Тут, говорил, по дороге прямиком ровно сорок верст до земли Войска Донского осталось, а по той земле нам их преследовать циркуляра нет. Казаки не любят, чтобы без спросу к ним нос совали.
– Занятные люди казаки, что с Дона.
– Говорят, там полная свобода была когда-то, Порфишка.
– Ой ты! И даже помещиков никаких?
Солдаты замолкли и, судя по всему, стали медленно удаляться. Сучья под их ногами потрескивали все тише и тише. Потом все смолкло, только жаворонок, скользнувший со стороны поля над лесом, вылил в тишину короткую свою трель. Гладя Любашу по волосам, Андрейка захлебывался радостным шепотом:
– Слышь, Любаша, слышь, про что они говорили. Еще сорок верст, и донской край начинается. А там мы и до самого атамана доберемся. Скажем: беглые, от лютого барина спасаемся, убежище и работу просим.
– Ой, Андрейка, давай только не спешить. Не ровен час, они нас на тракте еще дожидаются.
Лишь ночью глубокой продолжили они путь. Шли по тракту мимо сонных деревень, пугаясь даже собачьего лая. Опасность удваивала силы. Уже занялся яркими красками новый день и откричали последние петухи, когда вошли они в большое село, разрезанное пополам длинной улицей, с площадью, широкой и чистой, перед двуглавой церквушкой с зелеными куполами. Село как село, лишь не совсем обычными были деревянные домики под камышовыми, черепичными и железными крышами. У колодца-журавля, срубленного посередине улицы, стоял человек в расстегнутой белой неподпоясанной рубахе и синих шароварах. Низко на лоб была нахлобучена барашковая шапка, из-под которой свисал светло-рыжий чуб. У ног стояло новенькое жестяное ведерко. Расстегнутая рубашка открывала сильную грудь с впечатанным в нее белым крестиком.
– Дяденька, что это за село? – спросил нерешительно Якушев.
Человек равнодушно почесал волосатую грудь и презрительно сказал:
– Это не село, родимые. Это станица.
– А почему не село? – нелепо проговорила растерявшаяся Любаша.
– А потому, – продолжал человек, пристально разглядывая незнакомую девушку и все добрее и добрее улыбаясь, – что села и деревни остались на кацапщине, а вы зараз на земле Войска Донского находитесь, и у нас большие поселения завсегда станицами именуются. Вот так-то, родимые. А вы откуда бредете?
Было в этом еще молодом казаке что-то нагловато-веселое и до того доброе вместе с тем, что Андрейка всем своим существом почувствовал: правду надо говорить. Всю как есть, кроме той ночи, при воспоминании о которой у него стыло тело и обрывались мысли.
– Беглые мы, господин казак.
– Ишь ты, величаешь как, – ухмыльнулся детина со светло-рыжим чубом. – Да будет тебе известно, что я никакой тебе не господин, а казак Войска Донского Митрий Бакалдин. Понимать надо, любезный. От барина, что ли, бежали?
– От барина, – вступила в разговор Любаша, опасаясь, что Якушев начнет вывираться и они сразу потеряют у неожиданного знакомого доверие. – Уж такой он у нас лютый! Посмотрите, как по его приказанию Андрейке спину исполосовали.
Желая, чтобы у казака не возникли сомнения, Якушев задрал рубаху. Бакалдин без особого интереса скользнул глазами по темным следам от давно заживших рубцов, в короткие пшеничные усы буркнул «да-а», потом оживился и грубовато спросил:
– А чего ж ты его саблей не зарубил?
– Так у меня и сабли нету, – растерялся Андрейка, – какая сабля, я же как есть крепостной.
– Да-а, – вторично бормотнул Бакалдин и вдруг повеселел. – Голодные небось, как собаки, а?
– Есть немного, – подтвердил Андрейка, тогда как Любаша стыдливо отвела глаза.
– Послушай, хлопец! – воскликнул казак. – Да ведь ты такой богатырь, что голой рукой подкову сломать мождешь. Пособи-ка чуток. У меня жинка по характеру добрая, она только для виду кричит. А тут промашка вышла. Загулял вчерась до петухов, вот она, будто атаман какой станичный, условие и поставила. Залей бочку водой, тогда и прощение от меня получишь. А мне воду ох как таскать с похмелья трудно. Слушай, парень, христом богом прошу – пособи, а потом у нас в курене и поснедаем.
– Где бочка-то? – спросил Андрей.
Казак указал на ворота ближайшего дома и открытую калитку, через которую просматривалось подворье и распряженная телега с поставленной на нее новенькой, ведер на сто бочкой, крепко сбитой обручами.
– Полную наливать будем, что ль? – дрогнувшим голосом спросил Андрейка, но казак усмешливо покачал головой.
– Сдурел? Ты что, мою Нюшку не знаешь? Зачем полную? Ей не ведра, а мое уважение надобно. Ведер по двадцать каждый снесет, и баста.
– Я вам тоже буду помогать, – встрепенулась было Любаша, но казак ее решительно осадил:
– Сиди, длинная коса – девичья краса. Отдыхай с дороги.
Он ловко подцепил ведро и бросил его вниз. Ведерко долго неслось в жуткую темь колодца, пока наконец не шлепнулось глухо о воду.
– Давай вытащу, – предложил Андрейка.
– Не возражаю, – согласился Митрий Бакалдин, – мне зараз знаешь как покурить захотелось. Аж руки чешутся. Ты пока поноси, а я табачком побалуюсь. Сам-то не куришь?
– Нет.
– Вот и правильно делаешь.
Андрейка раз двенадцать успел пройтись с полными ведрами от колодца к бочкам, прежде чем Бакалдин явился на подмогу.
– Зараз каких-нибудь восемнадцать ходок осталось, – заметил он рассудительно. – По девять на брата. Мы это быстро. – И, поплевав на руки, он потянулся к ведрам.
За неполный час они выполнили работу, и казак веско изрек:
– Вот теперь все справно. Посидите чуток туточки, а я до бабы своей, вроде бы как парламентер перед штурмом неприятельской крепости, схожу.
Но штурмовать крепость ему, видимо, не пришлось. Высокая, осанистая казачка в пестром платье с широкими раструбами коротких рукавов выбежала со двора и, бегло оглядев незваных гостей черными косящими глазами, подбоченясь, воскликнула:
– Странники мои бедные! Да чего ж это вы стоите туточки как неприкаянные? Да идите в горницу, накормлю я вас чем бог послал, ничего не жалеючи. Ведь сами мы с Митрием бежали лет пятнадцать назад вот так же из-под Воронежа. Как же не помочь вам, мои хорошие.
Она не только щедро их накормила и снабдила узелком с продуктами на оставшуюся часть пути, но и дала адрес проживавшего близ становища Хутун брата Сергея, а когда Любаша застенчиво высказала предположение, что тот может усомниться, от нее ли они, казак Митрий хлопнул ладонью по столу.
– Слышь, Нюша, жена моя верная и разлюбимая. А ведь деваха-то истину гутарит. Серега мужик отличный, ан может и засумлеваться. А если убедится, что с нашего согласия они пришли, станет им лучшим советчиком и помощником. Словом, погодьте.
Он выбежал в соседнюю комнату и быстро возвратился оттуда с табакеркой, отделанной дорогими каменьями.
– Эка переливаются! – восхищенно воскликнул Андрейка. – Ни дать ни взять, такая не меньше сотенной стоит.
– Может, и более, – польщенно откликнулся Бакалдин. – В бою с басурманами взял. А что с бою взято, то свято. Так ты возьми эту табакерку и у Сереги, когда свидишься, оставь. Мы так часто делаем. Если табакерку с кем передаю, значит, тому человеку должен он беспрекословно верить.
– Позволь! – закричал ошарашенный Андрейка. – Это ты мне, незнакомому совершенно парню, так доверяешь? А если я ее вдруг тово?..
– Что «тово»? – передразнил Бакалдин.
– Сопру, одним словом.
– Эх ты, – вздохнул хозяин куреня укоризненно. – А еще в казаки собираешься. Да ты знаешь, что у нас, у казаков, по станицам воровство давным-давно извели. Мы хат не запираем, когда на поле работать уходим. Даже распоследнему горькому пьянице кошель пустой домой принесут, ежели он его утеряет. Все за одного, один за всех. Вот, стало быть, как! – И тыльной стороной ладони Бакалдин провел по своим негустым усам.
– Извини, что я невпопад, – пробормотал Андрейка под неодобрительным взглядом Любаши.
– Вы, ребя, вот что… вам пора, – озабоченно поглядев в окно, сказал Митрий. – Тут иногда посты выставляют, чтобы людей ненашенских останавливать да паспорта требовать. А какие у вас паспорта! Зараз вам лучше будет в путь-дорогу собираться. Значит, запомни, парень: как в тот Хутун войдешь, пятый дом слева, Сергей Чумаков. Вот и весь вам мой сказ.
– Запомню, – весело отозвался Андрейка. – Только не знаю, как тебя за это отблагодарить, дорогой Митрий.





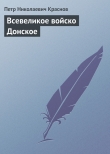


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)