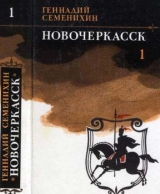
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
– Наденька, зайди ко мне на минуту. Я в кабинете.
– Молоко убежит, Саша, – ответила она сдержанно.
– А ты Гришатке его поручи.
Переступив порог кабинета, она увидела Александра Сергеевича сидящим за столом и крайне взволнованным. Венька стоял в углу с зареванными глазами и усиленно протирал их кулачками.
– А ну, повтори! – сердито приказывал отец сыну. – Ибо, если не повторишь, я тебя как последнего арестанта весь день держать в углу буду. Иначе ваше поколение не образумишь.
– Что у вас тут случилось? – спокойно спросила жена.
– Вот ты ей, Венечка, надежда всего якушевского рода, и продекламируй, – ехидно выкрикнул отец.
– А пороть не будешь? – деловито осведомился Венька.
– Не буду, – заверил Александр Сергеевич.
– Тогда слушайте, – обратился к ним младший сын и продекламировал частушку, смысл которой так и остался ему непонятным:
Муж в Москве, жена в Париже,
А рожает каждый год.
Значит, дело по антенне
Через радио идет.
– Тебе ясно теперь, дорогая Наденька? – язвительно продолжал отец и небрежно кивнул Веньке на дверь. – А теперь иди, мы с мамой одни поговорим. Но Венька, выйдя из комнаты, остался у двери, чтобы подслушать их разговор.
– Я понимаю, Наденька, – донесся до его слуха ворчливый голос родителя. – Новочеркасск город провинциальный. Театр оперы и балета здесь еще никем не выстроен. Да и арию Ленского некому петь.
– Как некому? – засмеялась Надежда Яковлевна. – А ты?
– Оставь шутки, – нахмурился Александр Сергеевич. – Лучше объясни, зачем водить мальчика на импровизации этого пьяницы дяди Темы? Не могу понять!
– Он не пьяница, он хорошо поет! – закричал из-за двери Венька. – А я вот и еще одну его частушку знаю. Только он ее не сегодня пел, а в запрошлую субботу.
– Ну-ну, – с ухмылкой опытного инквизитора сказал отец, – вернись и повтори, дабы я имел о вашем дяде Теме полное представление.
– А не побьешь?
– Нет, разумеется.
Скрипнула дверь. Венька остановился на пороге и, озираясь по сторонам, продекламировал:
Я мать свою зарезал,
Отца похоронил.
А бабушке Матрене
Я титьки отрубил.
– Какое потрясающее вдохновение, какая изумительная память, – зловеще отозвался Александр Сергеевич.
Неизвестно, чем бы закончилась сцена, если бы в эту минуту в коридоре не раздался громкий восторженный смех. Две сильные руки подхватили мальчика и, оторвав его от пола, подбросили почти до самого потолка.
– Ай да лихой же ты парень, Венька! Да с такими задатками тебе лишь один-разъединственный путь – к нам в кавалерию. В интеллигентном обществе такого орла не поймут.
Венька увидел бритое, пахнущее одеколоном лицо дяди Павла, его командирскую фуражку со звездочкой и синим кавалерийским околышем и понял, что это пришла защита.
– Это ты, братишка? – с некоторым удивлением воскликнул Александр Сергеевич.
– А что? Уже не нравится, что зачастил? Терпи. Я ведь однажды уже тебе сказал, что буду не раз в год визиты наносить.
– Да нет, что ты, что ты! – испуганно перебил его Александр Сергеевич.
Павел опустил Веньку на пол.
– Пока ты тут педагогическим воспитанием сына занимался, мы с Гришаткой и молоко вскипятили, и телятину с макарончиками жареными с плиты сняли в самом что ни на есть готовом виде. Так что, родители, пора и за стол, – с шутливой чопорностью поклонился он.
– Ну и молодец же вы, – рассмеялась Надежда Яковлевна, – с таким гостем хозяйке действительно нечего делать.
Пока она накрывала на стол, братья остались в кабинете, и Павел Сергеевич негромко заговорил:
– Я, разумеется, к тебе не беспричинно, Саша. – Он снял фуражку, положил ее на стопку книг, лежавшую на полу, растопыренными пальцами откинул назад густые разметавшиеся волосы, и они, как ручейки, заструились между пальцев. Александр Сергеевич откровенно залюбовался им.
– Повезло тебе, братишка. Ишь какую копну волос сохранил. А моя голова голая, как глобус…
– Посоветоваться с тобою надо, брат. С кем же еще, как не с тобою, – перебил его Павел.
– Я тебя слушаю. Что-то случилось?
– Случилось, – подтвердил Павел. – Утром все шло чин по чину. Провел вместе со своим комиссаром построение полка, на котором подвели итоги боевой и политической подготовки за последний месяц. Распустил личный состав, чтобы все занимались по расписанию, и вдруг звонок из горкома партии. На двенадцать ноль-ноль вызывает первый секретарь, чтобы сообщить предложение крайкома. Короче говоря, ему поручается провести со мною предварительную беседу. А вариантов два: либо на учебу в академию Генштаба, либо остаться здесь, в Новочеркасске, и временно исполнять обязанности председателя горсовета. Что бы ты мне посоветовал в такой ситуации?
Александр Сергеевич потер небритый подбородок, сипло дыша, без одобрения в голосе произнес:
– Странные вы люди.
– Кто это мы? – осведомился Павел.
– Вы – большевики.
– Чем же?
– Царя с буржуями скинули и уже полагаете, что все сделано и вы самого господа бога схватили за бороду. А по-моему, управлять государством еще труднее, чем врагов победить. Вы же с необыкновенной легкостью за все беретесь. Без какой-либо эрудиции. Да что там эрудиция! Без элементарного образования даже. Или вы всерьез верите, что каждая кухарка в состоянии управлять государством, и, основываясь на этом, полагаете, что выведете Россию из разрухи?
– Выведем, – жестко ответил Павел, – и еще увидишь, какой она станет лет этак через двадцать. А Ильича ты не трогай. Не для того он эти слова сказал, про кухарку, чтобы их за догму принимали. Это же образ, зовущий всех нас вперед! Вот как в ваших операх образ, так и этот. А что касается нас, большевиков, одно тебе скажу: да, мы лицеев и сорбоннских университетов не кончали, но на баррикады революции нас привела великая идея борьбы за Советскую власть. И раз мы ее ценою собственной крови завоевали, то и распоряжаться ею научимся, и знания для этого подходящие приобретем, потому что не боги горшки обжигают.
Александр Сергеевич снял очки с таким видом, словно без них лучше мог запомнить лицо своего старшего брата.
– Не знаю, не знаю. Честное слово, не знаю. Может быть, я и на самом деле многого не понимаю в окружающей нас действительности.
– Еще научишься понимать, Саша, – вздохнул Павел. – Однако мы с тобой отклонились от темы. Я так и не получил от тебя совета.
– Как тебе поступить? – медленно произнес хозяин дома и поднял на брата подслеповатые глаза. – Я все время думаю, – неожиданно улыбнулся он. – Спорю и думаю. Нелегкая у тебя жизнь, братик. Спина жандармскими плетками исполосована, на фронтах голову пулям не раз подставлял. Госпожа смерть в глаза твои, если разобраться, не однажды ведь заглядывала. Получается, что по всем законам классической логики тебе теперь одна дорога – к самой высокой военной карьере. Следовательно, военная академия в самый раз по плечу.
Павел молчал, только серо-синие глаза его немного сузились под широкими бровями. Александр Сергеевич глубоко вздохнул, давая понять, что он еще недоговорил, и костяшками пальцев постучал по письменному столу. Зеленое сукно скрадывало звуки, и стука старший брат не расслышал.
– Это с одной стороны, – вздохнул он. – Ну а с другой… Ведь ты же донской казак, Павлик. Даже коней своих в память о нашем знаменитом деде Зябликами именуешь. И если тебе дорог родной Новочеркасск, уже не «столица белой Вандеи», как его называли недавно, а красный Новочеркасск, то…
В эту минуту растворилась дверь и на пороге появилась приодевшаяся Надежда Яковлевна.
– Братья дорогие, скромный наш завтрак уже остывает.
– Погодите, друзья, – улыбнулся Павел, – где-то я читал, что у какого-то народа женщины были жрицами.
– Совершенно верно, например, в той же самой древней Греции, – подсказал Александр Сергеевич.
– Вот-вот, – улыбнулся старший брат. – Представим на мгновение, что мы и есть древние греки, а Надежда Яковлевна на нынешнем семейном совете – наша жрица, и мы ждем ее слова как решающего приговора.
У Надежды Яковлевны удивленно засверкали глаза.
– Я вас не понимаю, Павел, – заинтригованно сказала она.
– Сейчас поймете. Мне сегодня предложили либо стать слушателем военной академии в Москве, либо занять здесь, в Новочеркасске, кресло исполняющего обязанности председателя горсовета. – Что вы скажете?
– Павел! – восторженно воскликнула хозяйка. – И вы еще раздумываете? Да как вы можете! Или вам не дорог казачий край? Немедленно соглашайтесь исполнять обязанности председателя горсовета! Тут и думать, скажу вам, нечего!..
– Вот видишь, Саша, какая у нас мудрая верховная жрица, – рассмеялся Павел Сергеевич. – Она развеяла мои последние колебания. Именно так я и поступлю.
– Значит, в следующий раз прибудешь к нам не на своем Зяблике, а на каком-нибудь дребезжащем «форде»?
– Нет, – улыбнулся старший брат, – с Зябликом так просто никто меня не разлучит.
Человек, отворивший дяде Теме тяжелую резную дверь голубого особняка с кукушкой в простенке, был ему хорошо знаком. Коротким кивком стриженной под полубокс головы он молча указал на полузатемненный коридор и, пропустив его вперед, пошел сзади. В коридор выходило несколько белых дверей с затейливыми позолоченными вензелями, но лишь одна из них была приоткрыта, и оттуда под ноги идущим ложился пучок дневного света. Потянув ее на себя за ярко начищенную ручку, Артемий Иннокентьевич переступил порог и оказался в просторной, богато обставленной гостиной. Из высоких, задернутых тюлевыми занавесками окон струился на ярко натертый паркет солнечный свет, стены были украшены картинами на библейские сюжеты в позолоченных багетах, и среди них – такая неожиданная и неповторимая грековская «Тачанка», скромно подписанная автором в уголке. Кресла с фигурными замысловатыми подлокотниками в кажущемся беспорядке расставлены вокруг круглого полированного столика, диван у стены и большая люстра с хрустальными подвесками под высоченным потолком. Взявшись за руки, по карнизам этого потолка бежали от стены к стене белогипсовые амурчики. Крышка рояля была поднята, ноты раскрыты.
Артемий Иннокентьевич старательно щелкнул каблуками и отрапортовал:
– Есаул Моргунов. Извините, не опоздал?
Ему навстречу из-за стола шагнул, отодвинув кресло, коренастый человек в темно-синей гимнастерке, подпоясанной узким кавказским ремешком. Сверкнули на солнце три ордена боевого Красного Знамени. Скуластое смуглое лицо под шапкой разметавшихся курчавых волос и темные глаза с большими белками делали его похожим то ли на пожилого негра, то ли на батьку Махно, каким его изображали в годы гражданской войны на страницах газет и на белогвардейских плакатах, и даже на временных, не внушающих доверия денежных знаках. Бросалась в глаза разорванная шрамом мочка правого уха. Это и был хозяин квартиры Николай Модестович Прокопенко.
– Вы точны, как в лучшие времена нашей жизни и службы, – сказал он вошедшему, грустно улыбаясь. – Знакомьтесь, господа. Это один из наших самых мужественных членов группы «Белая астра», есаул лейб-гвардии казачьего полка Моргунов. А теперь, любезнейший Артемий Иннокентьевич, познакомьтесь и вы с нашими гостями.
Почтительным кивком головы Прокопенко указал на седеющего брюнета с картинными завитками усов и надменно застывшими голубыми глазами.
– Полковник генерального штаба его императорского величества Игорь Владимирович Темников. – Отрекомендованный удостоил Артемия Иннокентьевича лишь тем, что опустил на мгновение веки и поднял их снова. Ни одна черточка на его лице не пошевелилась больше.
– А это князь Думбеков, – подошел Прокопенко ко второму, смуглому, лет сорока горцу с заостренными чертами узкого лица, в белой черкеске с газырями. – Наш мужественный разведчик, связывающий ныне сынов вольного Дона с сынами вольного Кавказа, не приемлющими большевистский строй и ведущими против него мужественную борьбу. Полковник Зигмунд Сташинский. Пробрался на Дон из самой Варшавы, чтобы от имени благородного ясновельможного панства сражаться в наших рядах. А вот поручика Рюмина я вам представлять не стану, памятуя, что вы ею превосходно знаете, – небрежно кивнул Прокопенко на долговязого блондина и вслед за этим в почтительной позе остановился перед тучным лысоватым человеком в костюме-тройке из дорогой черной шерсти, на пальцах которого сверкали дорогие перстни. Лицо гостя отливало багровым румянцем, а подбородок был отмечен небольшой родинкой. – Это представитель парижского центра борцов за свободную Россию, – шепнул есаулу Прокопенко, зная, что самый важный гость даже кивком не удостоит Артемия Иннокентьевича.
Потом все опять чинно расселись вокруг стола, утонув в креслах, и Прокопенко, обнажая в улыбке ослепительно белые зубы и оставаясь в то же время предельно холодным, обратился к присутствующим:
– Господа, у нас время на вес золота. Сами понимаете, что в таком составе долго заседать мы не можем. Конспирация этого требует, а она наша очень заботливая мать на данном отрезке времени. Слово имеет представитель парижского центра борьбы за освобождение святой Руси от большевиков и за восстановление порушенной ими монархии. По вполне понятным причинам более подробно я вам представить его не имею права.
«Человек без имени и фамилии из Парижа. Да и без родины также, – с неожиданно закипевшей злостью подумал Артемий Иннокентьевич. – Дожили. Не сами командуем подготовкой всеобщего восстания, а беглецам повинуемся. Ишь, какой провидец отыскался! Он оттуда, видите ли, лучше нас обо всем способен судить. Сбежал в Париж и жрет там с удовольствием устриц и артишоки всякие, а нам хоть заживо в гроб тут ложись, потому что каждый лишний шаг обдумываешь, чтобы не провалиться».
Тем временем именитый гость из французской столицы вынул из кармана золотые часы на длинной цепочке и распахнул крышку с монограммой. В наступившей тишине по комнате поплыл мелодичный звон. Механизм играл «Боже, царя храни». Долговязый поручик Рюмин, издав фальшивое рыдание, поднес платок к глазам, всплакнул и Темников, в недалеком прошлом полковник царского генштаба, издал какой-то непонятный гортанный звук князь Думбеков. Один Прокопенко сидел молча, сжав кулаки, и по его серой щеке сползла одинокая слезинка. Часы замолкли, их обладатель заговорил. Фразы у него были четкие, рубленые, и уже по одному этому Артемий Иннокентьевич безошибочно угадал, что это бывший военный, к тому же в звании не ниже полковника.
– Господа, буду предельно краток, – начал он. – Центр поручил мне передать вам ободряющее известие. Большевики накануне краха. Россия действительно во мгле, как написал об этом в своей книге знаменитый Герберт Уэллс. Кругом разруха, голод и запустение. Во многих крупных городах созданы и успешно действуют подпольные группы. Петроград, Москва, Минск, Киев, Ташкент, Хабаровск. И, разумеется, великий Дон, который всегда был оплотом царя и отечества. Центру известно, что ваша группа не сидит сложа руки. Центр ставит перед вами задачу. Непрерывно пропагандируйте неизбежный крах Советской власти. Приближайте к себе заслуживающих доверия лиц, а самым надежным давайте задания вести подрывную работу. Чтобы не было в ваших рядах потерь, после совершенного акта любой член организации будет получать пособие для годичного существования, документы на новую фамилию и явку или постоянную квартиру в другом городе Совдепии. В чем смысл подрывной работы? Диверсии, диверсии и диверсии. Где? На железных дорогах, заводах, элеваторах, шахтах. Распускайте как можно больше провокационных слухов, сеющих сомнения в умах людей. Цель: подрыв доверия к Советской власти и различным ее представителям. Формирование ненависти к ней и отчужденности. Отдельно о террористических актах. Без них мы победу не приблизим. Многие подпольные организации в этом уже преуспели. Остановка за вами. Не надо гнаться за числом. Можно поджечь десять овинов и уничтожить десять коммунистов, но ничего этим не достигнуть. Достаточно уничтожить одного, но видного, пользующегося доверием большевистского вожака, как волна растерянности и страха перед силой борцов за святую Русь пойдет гулять широко. Готовьте такие акты тщательно и без осечек. Ваша активность должна нарастать по мере приближения дня нашего всеобщего наступления во всех городах и селах земли российской. Вопросы есть? Тогда за дело, и да освятит вас господь. Остальные указания получите от Николая Модестовича.
Всю эту трескучую речь он произнес на одной ноте и о вопросах спросил скороговоркой, не оставлявшей никакого сомнения, что он не хочет, чтобы они были. Закончив, тучный человек снова вынул часы, и они исполнили тот же гимн. Достав платок, он вытер со лба капельки пота. Прокопенко встал и коротко объявил:
– А теперь, господа, прошу в столовую. И не будем задерживаться, дорогие единомышленники. Помните о мерах предосторожности, потому что береженого бог бережет.
Стол ломился от закусок и донских сухих вин, но коньяку на нем стояла всего одна бутылка, и Артемий Иннокентьевич, предпочитавший исключительно крепкие напитки, мрачно вздохнул, понимая, что каждому достанется лишь по рюмке. Зато вино можно было наливать в большие фужеры. Прокопенко на правах хозяина дома произнес:
– За наше высокое дело, господа! За императорский трон и святую Русь!..
Артемий Иннокентьевич с грустью подумал о том, что в былые времена в офицерском собрании их полка хрусталь звенел веселее и чаще. Когда бокалы и рюмки были поставлены на стол и торопливо съедены бутерброды с икрой, колбасой и балыком, хозяин лаконично объявил:
– В целях безопасности расходимся по очереди. Темников и Думбеков покинут нас первыми, затем полковник Сташинский проводит нашего парижского гостя, а есаула я с вашего разрешения задержу. – И, улыбнувшись, закончил: – Будете уходить под мое музыкальное сопровождение.
Весь город знал Прокопенко, да и как было его не знать если в первые годы Советской власти три ордена боевого Красного Знамени воспринимались примерно так же, как в наше время Золотые Звезды Героя Советского Союза. Человек, их носивший, становился живой легендой. Бравируя своей славой, Прокопенко ходил по Новочеркасску открыто, с гордо поднятой головой, иной раз припадая на левую простреленную ногу, но больше не от неудобства передвигаться, а от рисовки. В летнее время он всегда выглядел одинаково: непокрытая голова с буйно разметавшейся шевелюрой, синяя коверкотовая гимнастерка, галифе, заправленные в комсоставские сапоги из отменного хрома. Все это с шиком сидело на его плотной, ладно скроенной фигуре.
Его нередко приглашали в президиумы торжественных заседаний, на трибуну атаманского дворца в дни демонстраций. Ребятишки хвостом бегали за ним, а самые смелые иной раз даже преграждали дорогу, засыпая вопросами:
– Дядя Прокопенко, а вы белых больше саблей порубили или из нагана постреляли?
– Ей-богу, не считал, – отвечал тот неторопливо. – Всяко случалось. Все от того зависело, как бой складывался. Если враг тебя настигал, а ты на коне, лучше шашкой было отмахнуться, а если далеко, то шашкой его, разумеется, не возьмешь, пулей приходилось доставать.
– А что такое шашкой отмахнуться? – спрашивал какой-нибудь конопатый карапуз.
– А это значит, – отвечал Прокопенко, – что раз махнул – и голова твоего преследователя на земле.
– А Буденного вы видели?
– Вот как тебя.
– Уй ты!. Неужто?
Многие были поражены, узнав о том, что Николай Модестович прекрасный пианист. Из распахнутых окон особняка, в котором его поселили по ордеру горсовета, часто доносились звуки рояля, и в глубине зала виднелась склонившаяся над клавиатурой курчавая голова музыканта. Остановившиеся из любопытства горожане узнавали то «Баркароллу» Чайковского, то полный глубокого горя «Полонез» Огинского, то бравурный «Турецкий марш» Моцарта, а иногда и музыку пламенных лет гражданской войны: ведь герой Первой Конармии, штурмовавшей Воронеж, Миллерово и Ростов, всегда, как полагали горожане, носил эту музыку в своей душе.
Сейчас Прокопенко провожал гостей «Марсельезой». Он никогда так и не узнал, что человек из Парижа, отойдя на порядочное расстояние от парадного, издевательски сказал своему спутнику Зигмунду Сташинскому, успевшему пустить прочные корни в Новочеркасске:
– Кокетничает…
Прокопенко перестал играть и, метнув на есаула Моргунова усталый взгляд, спросил:
– Еще выпьете, Артемий Иннокентьевич?
– Предпочел бы, – сдержанно ответил задержавшийся гость.
Они вернулись в соседнюю комнату и сели за стол, на котором осталось еще предостаточно бутылок с винами и закусок. Покосившись на недопитую бутылку коньяка, есаул не очень уверенно спросил:
– Вам из этой налить, Николай Модестович?
– Нет, – вяло ответил хозяин.
– Если можно, я вылью себе весь. Глазомер меня никогда не подводит. Остался ровно стакан.
– А опьянеть не боитесь? – суховато остановил его Прокопенко. – Не забывайте, что в нашем рискованном деле опьянение весьма опасно. Пьяный подпольщик – легкая добыча для чекистов.
– Николай Модестович, вы меня обижаете, – взмолился есаул, – неужели вы меня видели когда-нибудь потерявшим самоконтроль?
– В Новочеркасске нет, по раньше, до гражданской войны, в Петрограде…
– Эка хватили! Так ведь раньше я же не был на нелегальном положении, как теперь.
– Ну ладно, ладно, пейте за мое здоровье, – примирительно остановил его Прокопенко и грустно улыбнулся: – Да, действительно, были времена… Все бы отдал, чтобы к ним вернуться.
Когда же Моргунов, закусив коньяк тремя бутербродами, вытер масленые губы платком далеко не первой свежести, Прокопенко встал и, дав понять, что на этом все закончено, поманил гостя в гостиную, усадил в кресло, а сам сел напротив на крутящийся стульчик у рояля сначала спиной к гостю, а потом быстро повернулся к нему лицом. Глаза Прокопенко с большими белками не мигая уставились на есаула.
– Дело есть, Артемий Иннокентьевич. Огромной важности и безотлагательности дело. Слушайте меня внимательно, дружище.
– Я готов, – без особого подъема произнес Моргунов, предполагая, что речь пойдет о чем-то очень серьезном и крайне для него неприятном. Хозяин дома потрогал гладко выбритый подбородок и продолжал:
– Мы с тобой верно служили государю императору в одном полку. Так, кажется?
– Было, Николай, было. И под знаменами этого щеголя, барона Врангеля, в Крыму вместе сражались, это тоже в памяти навеки осталось.
Прокопенко для чего-то притронулся к трем боевым орденам, но тотчас же отдернул ладонь, будто от раскаленных углей.
– Что это вы? – недоуменно спросил Артемий Иннокентьевич.
– Случай один вспомнил, – глухо проговорил хозяин дома. – Его бы забыть полагалось, и тогда бы существовать можно было спокойно, да память не велит. До галлюцинаций иногда доводит при мысли об этом.
– Я от галлюцинаций не лечу, – без вызова в голосе возразил Моргунов, – медицинский факультет не кончал. Это тебе к Сеченову надо было бы обратиться. Да и то в свое время, если учесть, что он давно опочил.
Темные зрачки в глазах Прокопенко замерли.
– Не остри, Артем. Речь веду об очень серьезном. Надеюсь, ты не забыл, что, когда мы стояли в районе Джанкоя, а ты в контрразведке фронта у самого Врангеля действовал, я всего-навсего полковую разведку возглавлял. Выследили мы не кого-нибудь, а самого комиссара полка. К медсестре он ходил на свидания. Реже один, чаще в сопровождении ординарца. Смелый был парень, ничего не скажешь. Санитарная палатка с красным крестом далеко от расположения штаба стояла. Мы ворвались в нее за час до рассвета. Так случилось, что женщина его вскочила раньше, и мне пришлось первым же выстрелом ее уложить. Один из моих разведчиков на мгновение фонариком палатку осветил, и я запомнил, как она падала. Без крика, в одной белой нижней рубашке, раздувшейся колоколом, глаза большие, и столько в них тоски, как у птицы подстреленной. Хотел я того комиссара колодкой маузера оглушить, чтобы живым в плен взять, да сильным он и яростным оказался. Подмял под себя, руку с маузером к земле жмет, вывернуть хочет. С минуту мы боролись. Мой парень фонарик в этот момент зажег и мне предоставилась возможность лицо комиссара рассмотреть. Красивый был комиссар, рослый, волосы густые назад откинуты, губы жестко очерчены, а в глазах такая ярость, будто одним взглядом сжечь хотел. Вырвал он маузер у меня. Но что дальше с ним произошло, не знаю. Или руки у него дрожали от горя, или я удачно отпрыгнул в сторону и по влажному предрассветному песку в темноту уполз, но только выстрела не последовало. Клянусь провидением, повезло мне, как может повезти только в рубашке родившемуся. А возможно, песок в маузер набился и осечка случилась. Словом, пуля не просвистела, и я, как видишь, перед тобой. Теперь все это как кошмарный сон видится. Да и то иногда.
Есаул нервно дернул плечом и развел руками.
– Не понимаю, Николай Модестович, с какой целью вы мне это рассказываете?
– Сейчас поймешь, Артемий Иннокентьевич. Это исповедь. А рассказываю я потому, дорогой ты мой, что человека, о встрече с которым исповедуюсь, не далее как в прошлую субботу встретил на Московской улице нашего Новочеркасска в магазине.
– Его? – побелев, воскликнул есаул и с надеждой спросил: – Но, Николай Модестович, быть может, вы обознались? Усталость, расстроенные нервы и все такое прочее?
Прокопенко отрицательно покачал головой.
– Исключается. Этого человека я бы и на том свете узнал. Ведь целую минуту глядели друг другу в глаза… Он был в магазине в форме кавалериста, в синих петлицах его шпалы. Очевидно, сейчас занимает в Персиановке должность как минимум начальника штаба полка. Вот так-то, Тема.
– Господи, смилуйся, – простонал опешивший есаул и клешневатыми руками стал комкать рукав пиджака. – Ну почему не в Киеве, не в Смоленске, на худой конец, не в Баку? Зачем он нам здесь, в Новочеркасске? Ведь так хорошо обосновались…
– Трагическая случайность, не больше, – холодно пояснил Прокопенко. – Однако разве от этого легче?
В глазах у Артемия Иннокентьевича заметался страх, и даже щеки, минуту назад багровые от выпитого коньяка, покрылись мертвенной бледностью.
– Николай Модестович, так ведь это же полнейшая перспектива провала. Рано или поздно он опознает вас, и вся наша подпольная группа будет раскрыта! О! Вы не хуже меня осведомлены, что в ГПУ работают люди с железными нервами. Круг настолько сузился, что я не вижу из него выхода.
– Спокойнее, мой друг, – перебил его Прокопенко, – не надо паниковать раньше времени. Выход есть… суровый, но единственный. Этого человека при первой возможности надо…
Артемий Иннокентьевич заглянул в глаза Прокопенко и замер от ужаса. В этих остановившихся глазах не было ничего, кроме беспощадной решимости. И, поняв, какие слова тем не были досказаны, есаул весь побелел.
– Нет! – замахал он руками. – У меня это не получится. Я не в силах выстрелить в безоружного человека. Это не в открытом бою. Сдадут нервы… Я не смогу, Николай Модестович, это мое первое и последнее слово…
– Сможешь, – глухим твердым голосом оборвал его Прокопенко. – Сможешь, Тема. Ты не институтка, а заслуженный офицер доблестной русской армии. Выбор пал на тебя, и это решение уже сообщено в парижский центр.
– Я отказываюсь! Я уеду куда глаза глядят! – истерически закричал бывший есаул.
– Дело ваше, – переходя на сухое «вы», предупредил Прокопенко, и на щеках его заходили желваки. – Однако, я надеюсь, вы не забыли статью седьмую устава нашей организации? Могу процитировать и освежить тем самым вашу память. «Если же я словом или делом предам интересы моих товарищей, то заслужу вечное презрение и смертный приговор. И пусть всякая память обо мне, как и прах мой, будет навеки рассеяна».
Моргунов молчал, закрыв ладонями лицо.
– Одну минуточку, Артемий Иннокентьевич, – мягче сказал Прокопенко, – я сейчас.
Он отлучился из комнаты и вернулся, неся в руке полный фужер коньяка, накрытый ломтем белого хлеба, густо намазанного осетровой икрой.
– Выпей, Тема, – сказал миролюбиво Прокопенко, – и возьми себя в руки. Хочу по-дружески напомнить, что в данной ситуации твой отказ равносилен предательству. Чего же ты хочешь? Чтобы наша новочеркасская подпольная группа перестала существовать? Ты же не наивная тургеневская барышня и прекрасно понимаешь, что в этом случае полное досье на тебя будет доставлено в местное отделение ГПУ, и последствия, надеюсь, тебе ясны.
Артемий Иннокентьевич пил коньяк, и зубы его стучали о дорогой хрусталь. Он молча кивнул, молча прожевал бутерброд.
– Работайте и дальше под дурачка-гармониста дядю Тему, – благословил его Прокопенко. – Это хорошо, что вы уже стали кумиром местной толкучки. Изучайте настроения людей, приближайте обиженных Советской властью. И еще запомните, что наш сегодняшний разговор отнюдь не означает, что я немедленно вложу в ваши руки пистолет с обоймой и заставлю действовать. Надо еще многое выяснить, прежде чем принять решение. А вдруг все же произошла ошибка и этот красный командир ничего общего не имеет с тем комиссаром, бабу которого я уложил в Крыму? Извините меня за некоторую нервозность нашего разговора.
– Ничего, – протянул есаул, с трудом выдавив из себя улыбку. – Служба, как говорится, есть служба.
– А дружба остается дружбой, – подхватил Николай Модестович и невесело усмехнулся при этом.
Павел Сергеевич даже не предполагал, как закрутит, завертит его новая работа. В холодном и еще не совсем обжитом здании атаманского дворца с высокими сводчатыми потолками коридоров и кабинетов, с ярко начищенными паркетными полами, в которых, казалось, отражаются лица людей, помещались почти все самые главные городские учреждения – и городской комитет партии, и горсовет, и финотдел, и даже горсобес.
В большой нарядно-холодный кабинет девятнадцатилетняя секретарша Валечка с напудренным личиком, подбритыми бровками и подкрашенными неяркой помадой губками ежедневно вносила по утрам две-три кипы толстых и тонких папок с делами большой и малой важности, чтобы новый исполняющий обязанности председателя горсовета, ознакомившись с их содержанием, принял решение и со своей резолюцией направил тому, кому следовало ими заняться.
Чего только не было в этих папках, начиная с просьб о вспомоществовании, жалоб на горторг и гортоп и кончая делами самой большой важности, от которых порою зависел завтрашний день города: снабжение населения продовольствием и промтоварами, утверждение смет на строительство новых промышленных предприятий или восстановление старых, пострадавших при освобождении Новочеркасска от белых.
Павел Сергеевич далеко еще не во всем разбирался, а ученые термины, такие, как сальдо, депонент, безлюдный фонд, до того повергали его в уныние, что, слушая в конце дня своих многочисленных консультантов, которых благодаря белокурой Валечке он вызывал в кабинет в неограниченном количестве, хватался за виски от нестерпимой головной боли и покидал службу с твердым убеждением, что никогда полноценного работника на этой должности из него не получится. Свое подавленное состояние он нередко срывал на ни в чем не повинной секретарше.





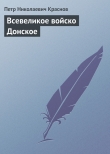


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)