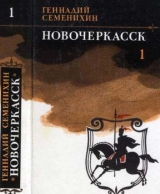
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
– Вот именно, – подтвердила мать. – В «Ниве» даже картинка была напечатана. Сидит на боевом коне казак Козьма Крючков, из-под фуражки лихой чуб выбивается, в руках у него пика длинная-предлинная, а на пике, как жучки и паучки, германцы сидят проколотые. Видимо-невидимо. Кровь так и хлещет из них, а Козьма Крючков только улыбается в свои усы при этом.
– И это по правде, не понарошке? – поднял удивленные глаза Венька сначала на отца, потом на мать.
– Разумеется, понарошке, – улыбнулась Надежда Яковлевна, – если бы это было правдой… – И осеклась. Александр Сергеевич торопливо отвел глаза. Они оба все поняли. Ей снова представилось рыжее поле перезрелой осыпающейся пшеницы, которую в том году убирать было некому, и взрывы при огневом налете, а среди них шагающий в атаку Ваня Загорулько и то, как, пораженный невидимой пулей, схватывается он за грудь, и под его растопыренными пальцами, меняя границы свои, быстро растекается бурое неровное пятно. Он стоит несколько мгновений в этой позе, а потом безмолвно падает, удивленно запрокинув голову в эти нескошенные колосья. Что же касается Александра Сергеевича, то он прекрасно понял, какие слова остались недосказанными.
– Не надо, Наденька, – тихо проговорил Александр Сергеевич и грустно подумал о том, что никогда в жизни не забудет она своего первого мужа, и будет тот вечно стоять между ними. Он думал об этом спокойно и горько, совсем не так, как вспыльчивая Надежда Яковлевна, которая в эти мгновения с трудом удерживалась от горьких упреков в его адрес. «Да сколько же это можно терпеть! – восклицала она мысленно. – Чем же я виновата, если так все случилось и храброму Ване Загорулько отдала я свою юность!..»
Муж и жена молчали. Им не требовались слова, чтобы понимать друг друга. Такие слова могли бы привести к ссоре или даже к слезам, и потому они остались невысказанными. После долгой паузы и тяжелого хрипловатого вздоха Александр Сергеевич как ни в чем не бывало сказал, обращаясь к Веньке:
– Теперь ты понял, кто такой был защитник бога, цари и престола Козьма Крючков?
– Болтун, – продолжая копаться в песке, добродушно ответил сын.
Родители рассмеялись, и обоим стало легко, словно и не было этой томительной, напряженной паузы.
– Пойдем, Наденька, – потянул ее за руку Александр Сергеевич.
– Куда, Саша?
– Поместье наше осматривать.
– Да уж поместье, – отозвалась жена, и в ее голосе прозвучала радость. Шутка ли сказать, первый раз в своей жизни дочь каменщика Изучеева и бывшего атамана станицы имеет не двор, а целое поместье. Да еще когда – в советское время.
– И целых двести восемьдесят шесть квадратных саженей, – улыбнулся муж. – Того и гляди, опомнятся финагенты и произведут экспроприацию, а за содержание двух этих вот «батраков», как ты их назвала, – кивнул он на детей, – не только оштрафуют, по и привлекут к уголовной ответственности.
Двор являл собою картину запустения. Краска на стенах сарая и деревянного флигелька облупилась, листы железа на крыше дома проржавели, а некоторые из них при сильных порывах ветра, дувшего со стороны Аксая, поскрипывали и стучали. В беседке была выломана задняя стенка. Голые ветки сирени и несколько фруктовых деревьев с еще не наметившимися на них почками сиротливо покачивались. На месте снесенного каменного домика была навалена куча земли с беспорядочно разбросанными у ее подножия осколками стекла, невесть откуда взявшимися переломанными и скрюченными обручами и плитами изразцового печного кафеля. Лишь на дорожках, которыми была рассечена просторная территория подворья, и на широкой клумбе, разбитой у самого порога беседки, торчали из вязкой земли остроугольные кирпичи. И эта геометрическая правильность аллеек наводила на мысль о том, что раньше двор был цветущим и красивым.
– А мне здесь все нравится, – простодушно заявила Надежда Яковлевна, – прольем по нескольку ведер собственного пота, и милый дворик опять расцветет. Ведь это же рай после подвала, который мы снимали на Сенном базаре.
– Еще бы! – хмыкнул Александр Сергеевич. – У меня до сих пор стоят в ушах голоса хозяйки и ее сожителя.
Вышагивая по мокрым дорожкам двора, Надежда Яковлевна оживленно рассуждала о том, как она преобразует собственную площадь, какие цветы посадит на клумбах и что на грядках, каким деревьям сделает прививки, а какие срубит за ненадобностью, потому что на это они уже обречены.
– Чего же хорошего! – восклицала она. – Машут голыми высохшими ветками у твоего порога, совсем как скелеты в повести Гоголя «Страшная месть», которую ты готов читать детям по три раза за вечер, будто это какая-то колыбельная. Не перебивай и не оправдывайся, юморист! Вот здесь я посажу картофель и помидоры, в том далеком углу двора – кукурузу и подсолнухи. Можно попробовать и арбузы. Уф, кажется, все.
– Нет, не все, – заметил Александр Сергеевич и, сняв пенсне, посмотрел на нее подслеповатыми глазами. – Ты забыла про конюшню для рысаков и фаэтона, а на другом конце двора запроектировать навес для трактора и молотилки, ну, и еще небольшую винокурню воссоздать, чтобы советские червонцы и в особенности серебряные рубли с пролетарием, который исправно бьет молотом по наковальне, потекли к нам ручьем.
Надежда Яковлевна остановилась и всплеснула руками:
– Да перестань ты острить… ведь я же серьезно!
Солнце пробилось сквозь угловатые края облаков, и недавно приобретенный двор сразу повеселел, освободившись от прежних мрачных тонов.
– Крышу надо латать, дымоход чистить, – загибая пальцы, подсчитывала Надежда Яковлевна. – Нанимать кого-нибудь придется.
– Я сам попробую, – заикнулся хозяин дома, но супруга окинула его веселым взглядом:
– Ты? А я буду за тобой с дымящимся на блюдце астматолом бегать, оберегая от очередного приступа? Нечего сказать, удовольствие ниже среднего.
– Ты на меня совсем как на безнадежного помощника в своей жизни смотришь, – потупился было муж, однако Надежда Яковлевна встала рядом и ласково погладила его виски.
– Ну ладно, мой милый тенор, – примирительно сказала она, однако этим не развеяла его грусти.
– Несостоявшийся тенор, – поправил Александр Сергеевич, но жена, не соглашаясь, покачала головой:
– Зачем так, Саша? Разве ты виноват, что у тебя астма? Пойдем лучше низы осмотрим.
Они открыли скрипучую дверь отдельного входа и стали спускаться по щербатым ступенькам. Александр Сергеевич, вооружившись свечой и спичками, шел впереди.
Это помещение нельзя было назвать первым этажом. На Аксайской улице под очень многими домами были при их заложении предусмотрены небольшие комнатки с низкими потолками и подслеповатыми окнами вровень с проезжей частью улицы, сквозь которые можно было увидеть лишь ноги прохожих или колеса громыхающей брички. Такие окна неохотно впускали даже полуденный свет.
Под ногами Якушевых угрюмо заскрипели половицы. Запахло сыростью и затхлостью необитаемого помещения. Низкие потолки, оплетенные паутиной старательных «крестовиков», мрачно нависли над головой. Стены с осыпавшейся штукатуркой и дальние углы, которых никогда почти не достигал дневной свет, усиливали и без того тягостные ощущения любого вошедшего сюда. Обитатели Аксайской улицы такие комнаты именовали «низами». Обычно, если семья, заселившая дом, была малочисленной, такие «низы» оставались либо вовсе необитаемыми, либо приспосабливались под хранилище ненужной домашней утвари, арбузов, картофеля, моркови. В бочках, стянутых железными обручами, хранились квашеная капуста, соленые помидоры и маринованные баклажаны, а то и прославленный донской арбузный мед нардек, если хозяева были состоятельными.
Иногда приезжие станичники, мечтавшие о переселении В Новочеркасск, по утрам будили жильцов такого дома громкими голосами:
– Хозяин, «низы» не сдаются?
И если ответа долго не следовало, нетерпеливый съемщик повторял свой клич несколько раз.
Была в «низах» дома, теперь принадлежавшего Якушевым, одна угловая комната, которая совсем не имела окна. Эта комната хранила жуткую тайну. С зажженной свечой Надежда Яковлевна подошла к ее порогу и, зябко передернув плечами, в нерешительности остановилась. Свеча вздрогнула в ее руке. Порог этой комнаты было боязно переступать, но любопытство влекло вперед, и его невозможно было преодолеть. Угадывая состояние жены, Александр Сергеевич вошел следом и остановился рядом, ощущая прижавшееся к нему теплое плечо. Пламя свечи дрожало, расплескивая но стене тени. Если бы не тяжелое, с присвистом, дыхание мужа, Надежде Яковлевне было бы не по себе. Горько покачав головой, она сделала еще один шаг вперед и проговорила:
– По описаниям Нины Александровны, тут была кладовка… Бочки, рабочий столик, табуретки. Саша, ее мать… здесь, в этой комнате?..
Он молча кивнул.
– И никаких драгоценностей не нашли?
– Нина Александровна говорила, будто исчезло всего лишь около ста рублей.
– Вене только не рассказывай. В отличие от Гришутки, он такой впечатлительный и даже нервный!.. Ну да ладно. Пойдем, – закончила она, бегло осматривая стены и потолки уже в других комнатах. – Ох, сколько денег понадобится на ремонт!..
Солнце, разорвав окончательно облака, засияло над окраиной, и сразу стало от этого веселее на душе. Ребят во дворе уже не было. Они успели построить крепость из песка и тут же ее разрушить, а потом ушли в свою комнату. Совсем недавно семья Якушевых ютилась вблизи от Сенного базара, второго по значению в Новочеркасске, в полуподвале. Теперь же у сыновей была детская, превосходившая по площади прежнюю их квартиру. Жили они тогда у толстой, неопрятной и вечно подвыпившей полицейской вдовы – торговки-перекупщицы. Когда та порою за целую неделю до условленного времени являлась за квартирной платой, от ее пестрого замусоленного фартука пахло рыбой, а с толстого пунцово-растерянного похмельного лица не сходило выражение виноватости Александр Сергеевич брезгливо отсчитывал деньги и отдавал их так, чтобы не прикасаться к ее потным рукам. Там же, в подвальной комнате, произошел случай, о котором как можно реже старалась теперь вспоминать Надежда Яковлевна. Она готовила обед на кухне, где кроме ее собственного стояло еще три примуса, когда услышала крики и плач.
– Это твои будто бушуют, – равнодушно обмолвилась хозяйка. – Поглядела бы, что там.
Оказалось, что Гришатка принес из школы кем-то ему отданный для прочтения роман Майн Рида «Всадник без головы», а Венька, упрямо потянувшийся к нарядной иллюстрации, надорвал страницу. Гришатка дал ему легкого стусапа, и младший брат, слетев со стула, оказался распростертым на полу. Когда мать вбежала, он хныкал, размазывая кулаками слезы.
– Да как ты посмел! – гневно крикнула мать. – Такой огромный лошак – и на маленького. Вот тебе!
Она не очень сильно ударила Гришатку по щеке, но тот вдруг повалился на пол и отчаянно завыл. В этом тоскливом его вое, как показалось молодой женщине, отразилось большое сиротское горе. Захлопнув дверь, она убежала на кухню, уже понимая, какую огромную обиду нанесла мальчику. О том, что произошло дальше, она никогда не узнала. В карих, внезапно расширившихся глазах младшего сына блеснули слезы. Размазывая их по лицу, Венька подполз к брату.
– Гришка, тебе больно?
– А то, – с натугой простонал Гришатка и снова завыл. – Это все из-за тебя… Твоя мать злая.
– Гришка, я не виноват, – печально проговорил Венька. – Хочешь, я тебе красные айданчики отдам и канонерскую лодку в придачу, а? Только ты не плачь. Она больше не будет. Я ей так скажу…
Когда Надежда Яковлевна с кастрюлей вскипевшего молока возвратилась в комнату, братья, обнявшись, сидели рядом, и старший читал младшему «Всадника без головы». Она все поняла и вечером рассказала мужу. Александр Сергеевич шумно вздохнул, и его нижняя губа отвисла, как это с ним бывало в минуты глубокого раздумья, когда он чем-то бывал расстроен.
– Да-а, – после долгой паузы вымолвил он, – хоть ты и знаменитые Бестужевские курсы окончила, милая Наденька, по педагогом еще не стала.
Жена энергично встряхнула короткой прической.
– Ты не совсем прав, Сашенька, – упрямо возразила она. – Тут дело вовсе не в педагогике. Понимаешь, есть в нашем языке поганое слово «мачеха», и есть «мачехины» чувства. Они, как звериный инстинкт, пробуждаются в человеке, и подавить их порою невозможно. Вот и я сегодня сорвалась, – закончила она грустно, но Александр Сергеевич уже подобрел и веселым голосом произнес любимую свою поговорку:
– Все в этой жизни поправимо. Непоправима одна лишь смерть. – И вдруг чистым, сильным голосом, от которого у Веньки всегда звенело в ушах, запел:
Гей, да вы хлопцы, гей, запорожцы,
Щеб наша доля нас не цуралась…
Как только проходили жестокие приступы, Александр Сергеевич становился совсем иным человеком: он и арии из опер пытался петь, и с ребятами возился на широкой кровати, норовя подмять их под себя, отчего они визжали, как резаные поросята. Он не мог догадаться, что жена, наблюдавшая все это с застывшей грустной улыбкой, думала в такие минуты про себя: «Ему легче. Они ему оба родные: и Венька, и Гришатка. А мне Гришатка совсем чужой. Пасынок. И родила его Настя, которую я никогда не смогла бы назвать лучшей своей подругой». И, произнеся мысленно эти свои горькие слова, она опять представляла желтое от нескошенной пшеницы поле и своего Ваню, схватившегося за грудь и упавшего на землю. «Если бы пропела пуля, он бы остался жив. Но пуля не пропела, и Ванина жизнь оборвалась». И будто стоп его слышала она предсмертный, обрывистый. И думалось, что это он имя ее хотел выкрикнуть последний раз в своей угасающей жизни. Успел лишь начать: «На…», а дальше захлебнулся и рухнул. Ну почему не осталось от него сына! Был бы сын, и к Гришеньке она бы относилась по-другому, и легче было бы побороть эту подлую «мачехину» неприязнь, и не приходило бы на ум слово «пасынок».
– А ну-ка, хлопцы! – гаркнул в эту минуту Александр Сергеевич. – Тащите сюда вашего «Всадника без головы». На какой вы там странице остановились, бисовы дети?
– Мы сейчас! – вскричал восторженно Гриша и опрометью бросился к маленькой бамбуковой этажерке.
…Так они жили на Сенном базаре раньше в затхлой полуподвальной комнатушке. Но теперь все изменилось. Войдя в дом, Надежда Яковлевна радостно вздохнула. Сквозь восемь высоких окон вливался уже окрепший утренний свет. Из зала был виден разлив. Ровная гладь водного зеркала лежала на десятки километров окрест, спрятав от глаз людских луга. Хорошо назвали казаки донскую просторную эту ширь: займище. Действительно, лучше не придумаешь названия. В конце весны, летом и в начале осени зеленеют на ней травы, на бахчах арбузы и дыни набирают силу и сок, стада коров и коз пасутся с утра до ночи.
Но суровой зимой луга заметет жестким снегом резвая метель, похоронит до самого ледохода. В ледоход вскроется Аксай, неприметная в летние времена с виду река хлестанет через левый свой берег и пойдет гулять на всю мощь, словно развеселившийся парубок на доброй свадьбе. Ветер будет гнать тяжелые, свинцово-темные водяные валы, совсем как пастух гонит огромное стадо. И надолго исчезнет под холодной водой ровное пространство луга. Лишь кустики чакана, зябнувшие на ветру, будут торчать из ледяной воды, сиротливо покачиваясь. А весною, когда яркое солнце начнет светить над разливом, то тут, то там обнажая на мелководье островки размытой земли, на успокоившемся от будоражащих ветров Аксае появятся десятки лодок – и рыбацких, и просто прогулочных. И даже какая-нибудь яхта гордо проплывет мимо них под парусами.
Если весна дружная, то уже в конце апреля снова освободятся от воды луга и вскоре же покроются веселой зеленой краской, словно какой-то невидимка-маляр выкрасил их всего за одну ночь в этот цвет. Нет, все-таки очень метко назвали донские казаки такие луга займищем. Вода приходит сюда лишь затем, чтобы отобрать у людей луга на время разлива, а потом уходит, оставляя на целый год огородникам, бахчевникам, рыболовам, да и охотникам.
Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна как зачарованные смотрели в распахнутую даль займища.
– Гляди, Саша, как это великолепно, – сказала она.
– «Великолепно», – поморщился муж. – Милая Наденька, ну когда я отучу тебя от этих избитых слов.
– Что поделаешь, я не лирический тенор, претендовавший в свое время на сцену Мариинского театра, а всего-навсего дочь каменщика, да и безбожница к тому же убежденная, – уколола она. – А ты все-таки сын купца. Хоть и захудалого, но купца, выразителя идей класса угнетателей и поработителей.
Александр Сергеевич весело рассмеялся:
– Да уж и поработитель был мой папаша! В последние годы свои только что с протянутой рукой не ходил по Новочеркасску. Если на то пошло, твой батюшка Яков Федорович имел более веские основания в лишенцы попасть, если бы был сейчас жив. Все-таки собор строил… место отправления культа. А сейчас их повсюду взрывают и поют при этом: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем»… Ты бы тоже, наверное, под собор динамит подложила бы, раз нашего Веньку крестить отказалась.
Надежда Яковлевна задумалась и грустно покачала головой:
– Но позволь, Саша, не путай божий дар с яичницей. Я бы попов всех постригла и отправила в Александро-Грушевск уголек добывать. А собор ни в коем случае не взрывала бы, потому что не мыслю без него нашего милого Новочеркасска. Ведь это же какой архитектурный памятник!
– А я не мыслю себе собора без колокольного звона, – вызывающе возразил Александр Сергеевич. – А большевики, ходят слухи, скоро и колокольный звон запретят как религиозную агитацию.
Надежда Яковлевна усмехнулась, глаза ее потемнели:
– Никак не могу тебя понять, Саша. Брат твой Павел всю гражданскую за красных отвоевал. И с Деникиным, и с Врангелем дрался, раны и боевые ордена заслужил, а ты ежечасно готов на большевиков роптать.
Александр Сергеевич закашлялся и развел руками, будто заранее прощал в завязавшемся споре свою жену.
– Милая Надюша, брат мой – личность огромного мужества и человеческой честности. Но, понимаешь, в чем дело… Есть творец идеи, ее автор или создатель, а есть раб идеи, берущий все на веру. Мой брат Павлик всегда верил в воздушные замки, в незамедлительность мировой революции, а теперь бесповоротно верит в то, что мы вот-вот догоним и перегоним капиталистические страны. Как же мы их перегоним, если только-только оправились от разрухи и голода и перестали делить одну краюху хлеба на десять персон? Не столь уж просто эту задачу выполнить. Пока мы приблизимся к этой цели, капиталистический мир двинется дальше. И попробуй его догнать. Из последних сил догонишь, за бобровый воротник схватишь, а он тебе скажет: «Ну что? Догнал? А теперь посмотри на себя. Пока ты меня догонял, ты все с себя сбросил и в одних портках остался. А я как был в роскошной дохе, так в ней и продолжаю шествовать, и в руках моих по-прежнему палка с серебряным набалдашником, а из уст шустовским коньяком попахивает». Вот тебе и оно, Надюшенька. Лучше скажи, что у тебя на обед будет, искусница моя дорогая.
– Да ничего особенного, – думая о чем-то своем, рассеянно ответила жена. – Куриный суп с фрикадельками, жаркое из телятины, сула под маринадом. Я не уверена, что тобою описанный буржуй всегда так питается.
– О! – восторженно воскликнул Александр Сергеевич. – Вот так ничего особенного. Ведь это же царский обед!..
Потом она открыла верхний ящик комода, где теперь хранились у них деньги, золотые вещи и документы, достала оттуда свидетельство о покупке дома и в который уже раз пробежала глазами почти наизусть заученный текст. Довольная улыбка тронула ее губы, и, как всегда, на щеках появились ямочки.
– Смотри, Саша, а ведь я теперь домовладелица.
– А вот подожди, подожди, – стал ее стращать Александр Сергеевич, – вот занесут меня за это рано или поздно в списки лишенцев, из техникума выпрут, буду тогда на биржу труда ежедневно ходить в поисках заработка.
– Да какой же ты лишенец, – расхохоталась она. – Ты вовсе не лишенец, Саша, а подлинный труженик. – И, назидательно подняв указательный палец, отчеканила: – Лишенцем считается тот, кто живет на нетрудовые доходы, получаемые от эксплуатации человеческого труда, кто принадлежит к враждебным нашему строю антагонистическим классам. А у нас в обществе класса лишь два: рабочих и крестьян.
– А интеллигенция?
– Стыдись, Саша! Тебе в пору за учебник политграмоты садиться. Такого класса нет. Интеллигенция – это всего лишь прослойка.
– Значит, мы с тобой прослойка? – задумчиво повторил он.
– Значит, прослойка, – согласилась жена. – И если антагонистических классов нет, мы можем примыкать к любому из братских классов, и никогда не окажемся при этом лишенцами.
– Спасибо за урок политграмоты, Надюша, – буркнул Александр Сергеевич.
– Одним «спасибо» не отделаешься, – засмеялась она.
Над займищем и Аксайской улицей разгорался день. Воздух мягко струился над землей. Быстро испарялась в лужах и колдобинах дождевая вода. Шмыгая носом, в зал ворвался Венька, радостно сообщил:
– Мам… меня здешние мальчишки погулять на бугор зовут. Пусти?
– У отца спрашивай.
Александр Сергеевич, близоруко щурясь, посмотрел на сына:
– Какие еще мальчишки? Не успели поселиться, уже друзей-шалопаев, себе подобных, завел. Вот вздуют тебя, тем и кончится.
Венька норовисто покачал встрепанной головой:
– Не… не вздуют, пап, они добрые.
– Ну валяй, если добрые. Однако гуляй так, чтобы мы тебя видели. Да за бугор не спускайся, смотри. А Гриша с тобой не хочет?
– Нет, папа, я читать буду, – ответил из коридора старший брат.
Венька вприпрыжку выбежал из дома. Осмелевшее солнце уже порядком высушило землю, и она стала твердой и теплой. Едва только за Венькой захлопнулась дверь, из-за угла выскочила целая ватага ребятишек. Двое из них, конопатые и стриженные под машинку, были поразительно похожи друг на друга. У третьего, более взрослого, под глазом темнел довольно приличного размера синяк, четвертый, самый старший, презрительно сплевывая новому обитателю Аксайской семечную шелуху на ноги, небрежно сказал:
– Идем на бугор, мы с тобой поговорить хотим.
Он был рыжий, жесткие волосы с непокорными хохолками отливали медью, на щеках, на носу и лбу лепилось великое множество веснушек. Стайка ребят окружила его, как конвой окружает военнопленного. Рыжий был на целую голову выше их всех и, как показалось Веньке, старше его года на три. К таким мальчишкам Венька всегда испытывал чувство уважения и страха. Придя на бугор, ребята сели на землю, продолжая удерживать нового обитателя окраины в своем кольце, и рыжий, указывая на парадное, из которого только что вышел по их зову Венька, повелительно спросил:
– Ты в том доме, что ли, живешь, где генеральшу убили?
– Какую еще генеральшу? – удивился Венька, всегда боявшийся покойников. – Я ничего не знаю.
– Какую, какую, – передразнил рыжий. – Белогвардейскую, выходит. У нас, у советских, генералов нет. Красная Армия только да Буденный Семен Михайлович. А ты и не знаешь? Не прикидывайся.
– Не знаю, – моргая глазами, ответил Венька. – А как ее убили?
– У вас «низы» есть?
– Ну, есть, – кивнул Венька.
– Так вот, – заговорил рыжий, – прислуга заманила ее туда. Думала, она там драгоценности прячет. И потом убила, чтобы теми драгоценностями завладеть.
– И в какой комнате ее убили? – запинаясь, спросил Венька.
– В самой дальней, где даже окошек нет. Ты там был хоть разочек?
– Бы-ыл, – протянул Венька, – там страшно.
– Еще бы! – пренебрежительно согласился рыжий. – Интеллигенция всего боится.
– А мы не интеллигенция, – возмутился Венька, – мой папа землемер.
– А он фуражку с кокардой носил?
– Носил.
– Значит, еще хуже… царский чиновник он.
– А вот и врешь! – закричал Венька, поддаваясь приступу внезапной злости. – А дядя Павел… дядя Павел у меня красный командир! Он в Крыму тыщу белых шашкой порубил.
– Тю! – оборвал его рыжий. – Да где ж это видано, чтобы один да тыщу порубил. Да еще шашкой, – и, подозрительно сузив глаза, закончил: – Что-то я не видел твоего дядю Павла.
– Еще увидишь, подожди! – взорвался Венька.
– Приедет ли… может, ты его просто выдумал.
В эту минуту по крутой дорожке, ведущей к бугру со стороны Аксая и железнодорожной насыпи, к ним подошел еще один паренек. Он был на вид старше и ростом выше рыжего. Паренек лузгал семечки, шелуха налипла на его нижнюю губу. Зоркими светло-зелеными глазами он еще издали наблюдал за ватагой мальчишек, сразу выделив среди них новенького. Приблизившись, лениво хлопнул ладонью Веньку но стриженому затылку. Ладонь у него была тяжелая, и у Веньки зазвенело в голове.
– Ах, это ты! – фыркнул он. – Вы, что ли, напротив нас у белогвардейцев дом купили? Ну-ну… Это я тебе входного леща по законам Аксайской улицы дал. Как зовут-то тебя, маменькин сынок? А что, Венька, ты Олега собьешь? – ткнул он пальцем в лобастого паренька с синяком под глазом.
– А что это такое – собьешь? – озадачился Венька.
Ребята рассмеялись, а подошедший презрительно повторил:
– Эх ты, законов Аксайской улицы не знаешь! По-нашенски «собьешь» – значит победишь в драке.
– А я не хочу драться, – упавшим голосом ответил Венька, которому после мирной игры со старшим братом в солдатики никак не хотелось подставлять свои щеки под чужие кулаки. Здоровенный парень осуждающе покачал головой:
– Мало ли что не хочешь! Мы в последний раз спрашиваем тебя, собьешь Олега или нет?
– Не знаю, – потупился Венька.
– А ты, Олег?
– Собью, – уверенно ответил мальчишка с татарским разрезом глаз.
– Ну, давай.
Венька не успел и глазом моргнуть, как два сильных удара обрушились на него. Всхлипнув не от боли, а от обиды, он бросился наутек.
Отец, наблюдавший из окна за тем, что происходит на бугре, с усмешкой воскликнул:
– Надюша, Гришатка, глядите, кажется, нашего Веньку лупят.
– Саша, почему же ты это так равнодушно созерцаешь! – вскричала пылкая Надежда Яковлевна. – Иди вмешайся, разгони обидчиков.
– Пускай, – усмехнулся Александр Сергеевич и махнул рукой. – Ничего страшного я в этом пока не усматриваю. Надо, чтобы он сам за себя учился стоять. Видишь, как улепетывает. Иди открывай, иначе кулачонки о дверь обобьет.
Действительно, Венька уже молотил в парадное кулаками. Вбежав в зал, он тотчас же бросился к стеклянной банке с кипяченой водой. Пил жадно, захлебываясь. Вода текла за ворот, кадык на худой шее вздрагивал.
– Ну как? – усмешливо поинтересовался отец. – Погулял?
– Погулял, – обернувшись, ответил Венька. Светлые вихры на его голове торчали во все стороны, на щеке пламенел след от чужого кулака.
– Ребята понравились?
– Понравились.
– Теперь пойди во двор поиграй, а еще лучше Гришатку попроси сказку про добрых богатырей почитать.
Окраина трудно принимала Веньку. В больших и маленьких домиках, деревянных и кирпичных, здесь жили в основном люди небольшого и даже совсем малого достатка: железнодорожники, слесари и токари с завода, ранее принадлежавшего немцу Фаслеру, бедные чиновники, огородники, жуликоватые пьяницы без определенных занятий, скорые на выпивку, а ночью на разбой. Сытые нэпманы с двойными подбородками из центральной части города редко сюда заходили. Вот почему чисто одетый Александр Сергеевич Якушев сразу же был принят всеми соседями в штыки, а фуражка землемера с кокардой сделала его и вовсе в глазах обитателей окраины равнозначным царскому чиновнику, а то и белогвардейскому офицеру, по ошибке не задержанному грозным ГПУ города Новочеркасска.
Много лет спустя Вениамин Якушев с благодарностью вспоминал эти первые годы своей сознательной жизни, прожитой на Аксайской. Впоследствии он часто думал о том, что когда в Великую Отечественную войну на него иной раз накатывало чувство отчаянной, ни перед чем не останавливающейся отваги, то было оно порождено именно этими детскими годами, прожитыми на окраине, когда приходилось утверждать собственную личность перед обидчиками.
Чуть ли не со времен основателя Новочеркасска – донского атамана Платова – Аксайская улица, то взбегая на бугры, то ныряя в мелкие буераки, тянется от самого кирпичного завода до вокзального спуска. Еще в давние двадцатые годы она была поделена на три сферы влияния. На южной ее оконечности с утра и до вечера, словно государственный гимн, пели знаменитую песенку, начинавшуюся словами:
На окраине, где-то в городе,
Я в рабочей семье родилась
И девчонкою лет шестнадцати
На кирпичный завод нанялась.
Здесь обитали настоящие рабочие девчата и парни, уже тогда прикипевшие к труду, успевшие нажить мозоли на руках. Та часть улицы, где жил Венька со своими родителями, была заселена мастеровыми и казаками-огородниками, перебравшимися сюда из донских станиц Мелиховской, Багаевской, Манычской в поисках заработков и развлечений. Оставалась еще одна, третья часть улицы, тянувшаяся от Атаманского спуска до станции, именовавшаяся «баном». Здесь в двадцатые годы обитали профессиональные головорезы: бандиты-налетчики, воры-карманники, поножовщики и просто хулиганы от чистого сердца, которым ничего не стоило ради удовольствия пырнуть ножом запоздалого прохожего, запустить камнем в окно чужого дома или кинуть через забор отчаянно лаявшему цепному псу кусок мяса с иголкой внутри.
Именно отсюда чаще всего доставляла «скорая помощь» тяжелораненых, а порою убитых и дочиста ограбленных новочеркассцев. Чтобы запугать обывателей, «бановые» часто вывешивали на фасаде красного кирпичного дома на углу Аксайской и Крещенского спуска один и тот же плакат. Под черепом и скрещенными костями была нарисована окровавленная финка и красовалась устрашающая надпись: «Почтенные граждане! Сообчаем, што до темноты улица ваша, а с темноты и до рассвета наша. Так что не появляйтесь!»
Время от времени «бановые» совершали набеги на среднюю и Кирпичную часть Аксайской улицы, ловили парней и нещадно, до потери сознания, избивали, если те отказывались кланяться и в подтверждение своей покорности стоять на коленях и есть землю. Даже милиция ничего не могла с ними поделать, потому что прибывала на место происшествия с опозданием – ей оставалось лишь подбирать истекающих кровью.
Но однажды это кончилось, и кончилось довольно страшным образом. «Бановыми» верховодил некий Ленька Баклан, как впоследствии выяснилось, незаконный сынок одного из атаманов мелкой белогвардейской банды, орудовавшей на Дону, броский парень с курчавым чубом, дерзко выбивавшимся из-под широкого лакированного козырька фуражки-капитанки. На всем протяжении от вокзала до бугра, напротив которого стоял тогда еще не купленный Александром Сергеевичем Якушевым дом, они избивали всех встречавшихся им мужчин, не щадя при этом ни старого, ни малого. Аксайские парни, поняв, что одним не выстоять, бросились к «низовым» – так окраина окрестила тех казаков-переселенцев, которые жили у самого железнодорожного полотна. Первым делом постучались в белый двухэтажный дом, где селилась огромная семья кузнеца Вани Дронова, известного во всей округе силача.





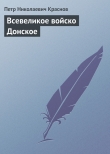


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)