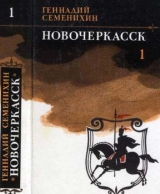
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
– Жарко, мама, снега на лоб скорее. Где Шура, пусть сказочку расскажет или песенку мне споет.
Мать, стоя у его изголовья на коленях, тихонько подвывала, и была от этого особенно страшной.
– Сыночек, не уходи… не осиротинь, пощади… старая я стала, не выдержу.
Васю лечил доктор Водорезов, проживавший по соседству на Кавказской улице, высокий, с грубым голосом и военной выправкой, горбоносый, уже немолодой человек. Александр Сергеевич называл его за глаза «иерихонской трубой». Водорезов и на самом деле когда-то был полковым лекарем, не блистал светскими манерами и отличался еще одной особенностью. Он всегда говорил родственникам, да и самому больному, правду в глаза. Под низкими потолками в доме Смешливых ему приходилось пригибаться, в особенности когда перешагивал порог. Водорезов садился у кровати больного на почтительно придвинутый стул, клал ему на пылающий лоб большую ладонь.
– Ну что, раб божий Василий, – спрашивал он трубным голосом, – выживем аль нет?
– Да что ты, батюшка Николай Григорьевич, Христос с тобою, – скорбно крестилась мать.
– А я что такого сказал? – широко раскрывал глаза Водорезов. – Я ничего. Это для его приободрения, и только. Захочет жить, вывернется. Силенки в этом тельце остались. Вишь как улыбается, проказник. Все понимает. Значит, борется за жизнь.
И Васька, не способный еще подать голос, и на самом деле в эту минуту улыбался немощной улыбкой. Предсказания доктора оказались верными: кризис миновал.
Когда Николай Григорьевич пришел с визитом через неделю, Васька уже слабо говорил и, наученный матерью, благодарно приветствовал доктора:
– Спасибо, дядя Коля…
– Ай да молодец! Значит, не захотел умирать?
– А кто ж того хочет? – улыбнулся бледный Васька. – Котлетку хочу…
– Да где ж ее взять? – вздохнула мать.
Но доктор выписал рецепты и, покачав головой, наставительно сказал:
– Вот что, Матрена Карповна, если хотите, чтобы Василий поскорее на ноги встал, кормите его получше. Хоть из-под земли, но доставайте еду.
Мать горестно слушала.
– Эх, батюшка, батюшка, век за твою доброту поклоны отбивать буду. По старым временам яичек бы тебе за все хлопоты, чебачка, водочки… Да где ж все это в лихую годину возьмешь?.. Не обессудь, родимый, прими за свои благородные хлопоты вот хоть пятерочку. – И она протянула ему зажатую в руке бумажку. Но Водорезов, выпучив глаза, сердито закричал:
– Прекратите! Лучше ему на эту пятерку молока хоть стакан купите. – И, собрав свой чемоданчик, ушел. Он никогда не брал денег с бедных пациентов.
Очутившись под открытым небом, Водорезов остановил свой взгляд на якушевском доме. «Зайду к Александру Сергеевичу, – подумал доктор. – Уже вечер, и он наверняка у себя».
Предчувствие его не обмануло. Хозяин сам распахнул дверь парадного. Был он одет по-домашнему просто. Мятые брюки с широкими штанинами, на ногах парусиновые туфли, любимая сатиновая косоворотка с незастегнутой верхней пуговицей. Близоруко щурясь, хрипловатым простуженным голосом воскликнул:
– Ах, Николай Григорьевич! Как великолепно, что зашел! Давненько не виделись. Откуда и какими судьбами?
– От ваших соседей, – откашлялся доктор, – от Смешливых.
– Да, да, – подхватил Якушев, – совсем недавно пережили такую трагедию, и опять беда в дом. – Теперь с Васей…
– Он уже вне опасности, – улыбнулся Водорезов.
Александр Сергеевич самолично раздел в коридоре неожиданного гостя, поставил в угол чемоданчик с медицинскими принадлежностями.
– А у меня уже один гость сидит. И тоже неожиданный. Мой любимый ученик.
В кабинете Якушева сидел человек отнюдь не студенческого возраста. На вид ему было лет тридцать – тридцать пять. Среднего роста, с твердыми плечами и широким смуглым лицом, отмеченным шрамом над верхней губой. Большие сильные руки уверенно покоились на коленях, обтянутых габардиновыми комсоставскими бриджами. Гимнастерка на нем была также военная, но со следами споротых петлиц. На широком, несколько холодноватом лице блуждала вежливая улыбка, да и глаза были какими-то замкнуто-холодными.
– Знакомьтесь, – представил их друг другу Александр Сергеевич. – Зубков Михаил Николаевич. Доктор Николай Григорьевич Водорезов.
Они пожали друг другу руки, и Николай Григорьевич отметил, что у Зубкова на левой руке лишь половина мизинца.
– В перестрелке лишились? – спросил Водорезов.
У Зубкова удивленно подпрыгнули стрелки бровей.
– Как догадались?
– Зачем догадываться, – усмехнулся Водорезов, – я ведь в одном лице хирург, терапевт и невропатолог. Однако главным образом хирург.
– Махновцы, – улыбнулся Зубков, и его лицо сразу утратило неприступное выражение. – Сунулся неопытным мальчишкой в первый бой, вот и досталось.
– Отметка эпохи?
– Выходит, так.
Пребывавший в отменном настроении Александр Сергеевич охотно пояснил:
– Миша еще мальчиком добровольно пошел в ЧОН, а потом в Красную Армию.
– А чуть позднее в шахту, – прибавил Зубков, и Водорезов тотчас подумал: «Так вот отчего руки у него такие сильные».
Александр Сергеевич, улыбнувшись, продолжил:
– А потом – к нам в техникум на студенческую скамью. Вот и рассказали мы тебе, Николай Григорьевич, его биографию.
Доктор прищурился, пригладил жесткий ежик волос.
– И сколько же вам было, уважаемый Михаил Николаевич, когда сели на студенческую скамью?
– Да немало, – засмеялся Зубков, – что-то около двадцати семи лет. Моя Маша уже успела двоих детей на белый свет произвести. А учиться было так трудно, что, если бы не великодушная помощь Александра Сергеевича, едва ли вытянул бы.
– Не скромничайте, Миша, – ласково перебил Якушев, – вы такой упорный, что и сами справились бы. Моя помощь была весьма условной. Извините, дорогие друзья, Надежда Яковлевна в бегах, поэтому на правах хозяина угощу вас чаем. Заранее оговариваюсь, чай не цейлонский, но по нашим трудным временам сойдет. Называется он фруктовым.
Александр Сергеевич принес на белом подносе три стакана чаю и три тонких кусочка хлеба с маргарином. Водорезов чертыхнулся и, обжегшись кипятком, прибавил:
– Никогда не пил такой дряни! Единственное достоинство, что и она в горячем состоянии согревает. Спасибо, Александр Сергеевич, я потопал. Да будут прокляты те, кто организовал эту голодную весну.
– А почему вы полагаете, Николай Григорьевич, что ее организовали? – напряженно спросил Якушев.
– А то как же! – уже из коридора выкрикнул доктор. – Что же, по-вашему, она сама себя придумала, что ли? Или вы забыли, как прошлым летом колосилась пшеница и рожь на Кубани, Украине, Саратовщине и у нас на Дону? И вдруг самые урожайные районы страны стали голодными. Почему же голод? Доберутся когда-нибудь историки до этого.
– Не знаю, – пробормотал Александр Сергеевич.
– Не знаю, – передразнил Водорезов. – Браво! Я тоже не знаю. Откуда берутся дети, знаю. Откуда берется брюшной тиф, знаю. А отчего голод этой весной, извините, не знаю.
– Так ведь кулаки, – попробовал было смягчить его взрыв Якушев, но Водорезов свирепо тряхнул головой.
– Кулаки! – взревел он. – А какие, позвольте вас спросить? Те, которые стреляли в спину нашим парням в годы коллективизации и поджигали зернохранилища? Так ведь они уже давно в местах, не столь отдаленных…
В комнате было тихо, лишь слышалось астматическое дыхание Александра Сергеевича. Зубков непроницаемо молчал. Доктор натянул на голову порыжевшую старую шляпу, взял чемоданчик и, сказав «желаю здравствовать» удалился.
Зубков грустно вздохнул, пригладил волосы.
– Вы его не вините, Миша, – вкрадчиво промолвил Якушев. У Александра Сергеевича была одна отличительная черта. Если в его присутствии возникал острый спор между порядочными людьми, он делал все, чтобы их помирить. Сейчас он подумал, что Зубков обиделся на ушедшего, но ученик лишь горько вздохнул.
– А я его ни в чем не виню, дорогой мой учитель. Я ведь вам уже докладывал, что всего лишь вчера возвратился из Донской станицы. Доктор шумел здесь понаслышке, а я-то все собственными глазами видел. И хорошее и плохое.
– И как же там, Михаил Николаевич, на самом деле? – нерешительно спросил его Якушев. – Выправимся мы в ближайшее время или нет? Накормим осенью людей или голодными их на следующий год оставим?
Глаза у Зубкова стали тоскливыми.
– Я не должен вам этого говорить, дорогой Александр Сергеевич, но вы для меня как отец родной. Без вашей помощи я бы никогда техникум не окончил. Были дни – руки совсем опускались, а вы в меня уверенность заново вселяли. С кем же мне поделиться своими душевными колебаниями, как не с вами!
Александр Сергеевич в знак согласия наклонил голову:
– Спасибо за человеческое доверие, Миша.
– Так вот, дорогой учитель. На мой взгляд, доктор во многом прав. Были кулаки, которые тоннами прятали в подполье семенное зерно, чтобы сорвать сев. Были и такие, что в спину нам стреляли при создании первых колхозов! Вовремя их ликвидировали. А что сейчас случилось, понять не могу. Думаю, что не Советская власть это сделала, а те, кто примазался к ней. На районном активе я сам слышал речь одного краевого работника. И знаете, что он сказал? Почти каждое слово его запомнилось. «Если вы думаете увидеть кулака в образе краснощекого толстого человека с золотыми часами в кармане жилетки, то жестоко ошибетесь. Кулак ныне сменил личину. Он теперь под истерзанного голодом человека прикидывается». Вы меня поймите правильно, дорогой Александр Сергеевич. Да я за Советскую власть любому глотку перегрызу! Только не поверю никогда, что так она могла распорядиться.
– А что же с тем оратором, Миша? – грустно спросил Александр Сергеевич.
Зубков взъерошил всей пятерней густые волосы, криво усмехнулся:
– Выяснилось, что в прошлом был активным троцкистом. Вот и смекайте, в чем дело. Говорят, что в том райцентре, где он выступал, в школах заставили потом его речь изучать даже. Вот и разберись поди. Голодаем, беды свои валим на неурожай, а так ли это?
Даже мысль ненароком закрадывается, а может, все это кто-то подстроил на радость тем, кто за кордоном Советскую власть побежденной увидеть мечтает? И расчет у тех субъектов тонкий – Советскую власть с донцами и кубанцами поссорить.
У Александра Сергеевича лысина пошла пятнами.
– Тише, а вдруг кто услышит…
Зубков громко расхохотался: – Да разве мы против своей родной власти хоть одним пальцем пошевелить можем? У вас вон брат Павел Сергеевич какой герой был, да и у нас, у Зубковых, шахтерский род потомственный. Так что мы на Советскую власть никакого зуба точить не можем…
Вася Смешливый начал уже вставать с кровати после тяжелой болезни. Ежедневно по утрам на тонких от истощения ножонках он, пошатываясь, делал несколько шагов по дощатому полу и, обессиленный, возвращался к своей койке. Садясь на нее, стирал со лба холодные капли пота и не сводил страдальческих глаз с матери. Тоскливая просьба была написана в его взгляде: «Мама, есть хочу».
– Да что же я сделаю, сыночек мой родненький, – причитала Матрена Карповна. – Нет в доме ни крошечки, хоть шаром покати.
Но Вася не унимался:
– Мама, мне бы хоть одно яичко… или кусочек хлебца с маслицем. А если нет маслица, то просто корочку бы. Изныло все внутри у меня.
– Да где ж я тебе возьму, ты ведь уже съел свою пайку, – вздыхала Матрена Карповна.
Жорка слышал из соседней комнаты надрывные Васькины причитания, и щемящая жалость захлестывала его с головы до ног. «Эх, мама, – говорил он самому себе в сердцах, – да не поправится же он от одного твоего сожаления. Ему жрать надо, силы набираться, а ты…» Решительный по натуре, он вдруг обратился к ней:
– Я сейчас отлучусь на немного, ты разреши.
– Опять шалопайничать с Венькой Якушевым да Петькой Орловым пойдете, – упрекнула мать.
– Нет, – отрубил Жорка. – По делу.
– «По делу», – передразнила Матрена Карповна. – Знамо, по какому делу. Футбольный мяч ногами пинать – одно у вас дело.
– Так я пошел, – не отвечая на ее попреки, вымолвил Жорка и, накинув на себя старую Митькину стеганку, выскочил из дома, опасаясь, что мать передумает и не пустит его.
День был на редкость пакостный. С низкого неба сеял противный мелкий дождик. Займище тонуло в густом тумане. Жорка был человеком дела и если что задумывал, то шел к своей цели прямой и короткой дорогой, какие бы сложности при этом ни подстерегали. Сейчас в его разгоряченном мозгу жила единственная мысль: Ваське надо помочь. Если брата не накормить, болезнь, надломившая его и без того слабый организм, может вернуться, и тогда они потеряют Ваську. «Второй покойник в семье – это же ужасно, – думал Жорка. – А спасти Ваську может даже кусок хлеба». И он решился. Он не заметил, как пробежал по Аксайской до красной кирпичной будки. Старая бассейнщица, включавшая воду тем, кто, гремя ведрами, протягивал ей полкопейки или копейку, с удивлением посмотрела ему вслед, горько подумав: «Вот пацанва, даже голод их не берет, окаянных».
Жорка свернул на Базарную и помчался по ней вверх, к рынку. Здесь улица шла на подъем. Он устал и, тяжело отдуваясь, перешел на шаг. Пройдя квартал, остановился, втянул в себя воздух. Здесь он всегда останавливался, даже в те времена, когда дома у них по утрам шкворчала яичница, а кастрюля с горячим молоком ставилась на стол. Чудесный пряный аромат обдавал на этом месте каждого прохожего. В нем смешивались запахи донского ветра, солнца и земли, рождавшей великолепные всходы, поившей и кормившей колосящуюся пшеницу.
Почуяв этот запах, можно было закрыть глаза и сразу увидеть необъятные донские нивы и пшеницу, радостно волнующуюся от набежавшего ветерка, услышать грохот молотилок и веселые голоса комбайнеров. Запах этот доносился со стороны высокого серого здания городской пекарни, выходящего окнами с одной стороны на торговые ряды, а с другой на Базарную улицу.
У широких ворот пекарни, из которых время от времени выезжали грузовики и подводы с хлебом, стоял пожилой милиционер в серо-зеленом плаще и проверял у шоферов накладные. Ветер раздул полы плаща, и Смешливый увидел на его поясе кобуру – она была пустая. «Это хорошо, значит, для острастки только носит», – подумал Жорка.
Цокая копытами по скользким булыжникам, из ворот выехала груженая пролетка. На ней, накрытые брезентом, стояли ящики со свежевыпеченным хлебом… Высокого худого возчика милиционер проверял с особенной строгостью и в конце концов раскричался на него:
– Ну что ты мне тычешь эту накладную? Что тычешь? Здесь же нет главной подписи. А ну иди переоформь документы.
Возчик, ругаясь на чем свет стоит, возвратился во двор, и тогда Жорка понял, что другого подходящего случая не будет. Пока милиционер, отвернувшись от подводы, закуривал, сделав из ладоней щиток, защищавший от ветра дрожащее пламя спички, Смешливый рванулся к подводе, приподнял брезентовый полог, схватил первую попавшуюся на глаза буханку. Опьяняющий запах теплого хлеба терпко ударил в ноздри. Буханка была маленькой, но еще совсем горячей. Прижимая одной рукой ее к груди, он рванулся назад к Аксайской.
– А ну положь! – прогремел за его спиной грозный голос, но Жорка лишь ускорил бег. Сапоги милиционера гулко застучали сзади. «Догонит – убьет», – пронеслось в мозгу у Смешливого, но он не почувствовал страха. Напрягая все силы, он бежал, как ему казалось, все быстрее и быстрее. На самом же деле темп его бега спадал, и Жорка слышал, как все громче и громче стучали за его спиной сапоги преследователя. Даже сиплое его дыхание он уже различал. Еще мгновение – и грубая мужская рука схватит за воротник стеганки.
У мальчишки закружилось все перед глазами, но, пересилив слабость, он рванулся из последних сил, словно обрел второе дыхание. И странное дело – преследователь почему-то начал отставать. Желая убедиться, что это так, Смешливый обернулся и ошеломленно замер на месте. На его глазах милиционер неожиданно осел, и Жорка увидел наполненные мукой блеклые выпученные глаза, пену на бескровных губах.
– Отдай буханку, а то зашибу! – хрипло выговорил милиционер.
Было зябко и голодно. Жорка чувствовал, что и его покидают последние силы, но все крепче и крепче прижимал к груди буханку, стараясь закрыть ее полами расстегнутого ватника.
– Не отдам. На тебе! – Он хотел было сцепить заледеневшие пальцы в кукиш, но они не поддавались. Внезапно милиционер припал к сырой холодной земле щекой, будто хотел что-то услышать, и закрыл глаза.
– Дяденька, что ты! – отчаянно закричал Жорка и, позабыв обо всем, бросился к нему. – Не умирай, дяденька… На тебе корочку от буханки, а если надо, всю ее забери, только сам не умирай! Ведь я ее почему украл? Братик младший после воспаления мозга с голодухи помереть может. Я тебе правду говорю, дяденька…
– Да иди ты к черту, – беззлобно выругался милиционер, и печать смертной тоски сковала его лицо. По серым щекам потекли бессильные слезы, и Жорка услышал к нему обращенные сердитые слова: – Стыдно сказать, – простонал милиционер. – От деникинской пули чуть не погиб, а тут… Иди ты к черту, пацан. Бери буханку, и чтобы духа твоего не было, шпана несчастная, а я как-нибудь выкручусь. Чего ж я буду тебя забирать, если весь Дон голодает… Торопись накормить своего братишку, раз жизнь его от этого зависит.
Жорка разломил грязными в ципках руками буханку пополам. Одну половину положил рядом с привставшим с земли милиционером, вторую, прижав к груди с отчаянием обреченного, понес домой. Он удалялся тихими шагами, не поднимая головы. Милиционер, стоя на опухших от голода ногах, угрюмо смотрел ему вслед.
Мир воспоминаний человека, как мне кажется, состоит из двух половин. В первой сосредоточено все то, что он помнит о добрых и чистых своих поступках, о подвигах и победах, от которых веет гордостью. Во второй половине – воспоминания о горьких ошибках и о малодушии, способном в иные минуты победить самую героическую личность. При одной мысли о таком малодушии краска стыда будет заливать щеки, стиснутые же губы превратятся в одну бескровную полоску и мурашки пробегут по телу.
И сколько бы ни прожил человек на свете, он охотно пускает постороннего в первую половину мира своих воспоминаний и почти никогда не открывает дверь во вторую.
…Только однажды, много лет спустя, в сорок четвертом году, возвращаясь с пятью разведчиками из вражеского тыла, старшина Георгий Смешливый рассказал об этой невеселой истории и о том, как долго испытывал потом угрызения совести, не зная, наказали тогда или нет этого великодушного новочеркасского милиционера.
Ни у кого ни о чем не спрашивая, ничего ни с какими инстанциями не согласовывая, весна в конце апреля стала старательно наводить в Новочеркасске свои порядки. Она вызеленила кусты и деревья на городских аллейках и в парке, который многие еще по старинке именовали Александровским, заставила в спешном порядке красить заборы и скамейки, подстригать кусты. Заморские туристы – скворцы возвратились на родную Донщину и заселили свои деревянные домики. Даже в очередях за скудным пайком по карточкам понурые сосредоточенные лица людей несколько оживлялись. Люди время от времени стали замечать ярко-синее небо и с надеждой, что все изменится к лучшему, поглядывать на солнце. К тому же пронесся слух о том, что в Ростове начали продавать так называемый фондовый хлеб, по два килограмма в руки. Однако очереди в первые дни продажи были такие, что ехать туда из Новочеркасска Якушев признал бессмысленным.
– Почему фондовый? – недоумевала Надежда Яковлевна.
– Чудачка, – поправляя на рыхлом носу пенсне, пояснял Александр Сергеевич. – Фондовый – это значит выпеченный из неприкосновенного фонда.
– Так это же хорошо! Зачем в этом фонде зерну лежать, если людям жить стало тяжко, – откровенно радовалась Надежда Яковлевна, но Александр Сергеевич, как и всегда, ворчал:
– Эх, Наденька, Наденька, святая наивность. Да ведь это же на крайнюю меру решилось наше правительство! Фондовые запасы нельзя оголять. А если самураи с востока или германцы с запада нападут? Что тогда?
Надежда Яковлевна замолкала, но тотчас же начинала атаку с другого фланга.
– Давно говорю, почему ты к первому секретарю горкома Тимофею Поликарповичу не сходишь? Он бы помог в эти трудные времена самым близким родственникам Павла Сергеевича. Да и был он у нас к тому же.
– Милая Наденька, – возражал в ответ Александр Сергеевич, – у тебя, извини меня, несовершенная память. Я ведь уже несколько раз говорил: Тимофея Поликарповича давно нет в Новочеркасске. Он в Сулине теперь. Это во-первых, а во-вторых, если бы он и был в Новочеркасске, я бы к нему все равно не пошел. Не умею я как-то просить, бог обошел меня подобным талантом. Да и что бы я ему сказал: «Здравствуйте, я брат знаменитого брата. Дайте мне килограмм сливочного масла»? Так, что ли? Нет, Наденька, уволь. Что бы тогда обо мне подумали?
И все в семье Якушевых оставалось по-прежнему. По утрам мать поила Веньку и Гришатку бурдой, именовавшейся фруктовым чаем, заворачивала каждому из них в чертежную желтоватую кальку по кусочку столь похожего на сыр кукурузного хлеба и отправляла в школу одного, другого в ветеринарно-зоотехнический техникум, в котором тот учился уже на втором курсе.
Он вытянулся, раздался в плечах, над верхней губой пробились жесткие усики. Отец подарил своему первенцу бритву, и теперь по утрам, подражая во всем Александру Сергеевичу, тот старательно мылил подбородок перед зеркалом.
– Смотри, мама, – злословил в такие минуты Венька, – никак, у нашего Гришатки Василиса Прекрасная завелась.
Надежда Яковлевна только вздыхала:
– Большие вы уже стали! Не остри, Веня, скоро и у тебя заведется.
– У меня? – хохотал Венька. – Да никогда!..
Но вдруг он умолкал. Из мира воспоминаний наплывом возникала Шура, такая красивая и незабытая. Казалось, он даже слышит ее ласковый голос, видит руки, покрытые нежными веснушками…
В шестом классе «Б» пятой образцовой школы было двадцать учеников: пятнадцать стриженых мальчишечьих голов и десять кос – по две на одну девочку. Веня и Смешливый сидели на самой дальней парте, которую почему-то называли не «Камчаткой», как во всех других школах, а «малиной» – пристанищем блатных. Жорка, оставшийся из-за болезни на второй год, был самым старшим и самым сильным в классе. Его все мальчишки беспрекословно слушались.
Литературу в шестом «Б» преподавала бывшая вожатая Роза Алексеевна. Она не могла похвастать, что много прочла за свою тридцатилетнюю жизнь, предмет свой не любила и этого ни перед кем не скрывала. Даже директору сказала однажды: «Ради бога, дайте мне другой предмет. Я же физико-математический факультет кончила, а тут!..» – и развела руками.
На уроках Роза Алексеевна методически расхаживала от одного окна к другому и нудным речитативом говорила:
– Александр Сергеевич Пушкин был выдающимся русским поэтом. Он родился в 1799 году в Москве. Дворянин по происхождению, он отражал в литературе жизнь своего класса. Все его произведения посвящены жизни помещиков и аристократов. Жизнь рабочих, крестьян и пролетариата в своем творчестве Александр Сергеевич Пушкин не изображал.
Однажды Жорка Смешливый не выдержал и рявкнул с дальней парты:
– Роза Алексеевна, но ведь тогда же пролетариата еще не было!
– Смешливый, – вспыхнула учительница, – покиньте класс! Я не позволю саботировать урок. Ах, ты и не собираешься? Тогда я уйду, а к вам придет завуч.
Каблучки учительницы дробно простучали по паркету, и дверь за ней с треском захлопнулась. Но завуч не пришел, и класс весело шумел до самого звонка на большую перемену. Завуч к ним на урок действительно явился, но через два дня, и не один, а в сопровождении незнакомого уже немолодого человека. На нем был недорогой песочного цвета костюм и красный, завязанный тощим узлом галстук. Человек этот был лыс, если не считать жестких седых волос на висках. На его полных губах блуждала добрая усмешка, а блеклые, неопределенного цвета глаза были удивительно живыми. Они не смотрели сосредоточенно в одну точку, а перебегали с откровенным интересом с лица на лицо, с предмета на предмет.
– Ребята, – обратился к шестому «Б» завуч, – Роза Алексеевна ушла из нашей школы на другую работу. Я представляю вам нового преподавателя литературы Павла Дмитриевича Литошенко. Прошу любить его и жаловать.
И ушел. А класс остался наедине с новым учителем.
– Теперь вы знаете, как меня зовут? – спросил тот почти весело. – Вот и хорошо. Будем работать. А сегодня я хочу провести с вами урок вне программы. Свободный урок, так сказать.
– А вы читать-то умеете?
– И писать? – ехидно вставил Смешливый.
– Как вы пишете, мы в следующий раз посмотрим после диктанта, – улыбнулся Павел Дмитриевич, – а как читаете, давайте сейчас разберемся. И с этими словами он протянул Смешливому раскрытую книгу. – Это знаменитый рассказ Максима Горького «Челкаш». Прочти вот эту страницу, а ребята пускай послушают.
Смешливый лихо отбарабанил текст, не выделяя своим монотонным голосом ни точек, ни запятых, ни разговорной речи.
– Пономарем бы тебе быть, – под общий смех заключил Литошенко. – Ну как ты прочел, например, вот эту фразу: «Трактир ревел пьяным шумом». Как пономарь! Равнодушно и даже бездушно. А ведь Горький, наверное, долго над ней думал и букву «р» не случайно три раза употребил. И она, эта фраза, должна прозвучать так. – Учитель приблизил к глазам раскрытую книгу и, нажимая на букву «р», громовым голосом прочел: – «Трактир ревел пьяным шумом». Понимаете, ребята, если так прочитать, вы словно бы увидите всю картину: и заплеванные столики, и сидящих за ними оборванных, пьяных от горя босяков, и снующих половых, и засиженные мухами занавески. Вот. А теперь слушайте всю эту страницу.
И Павел Дмитриевич ее прочел. Но как прочел! Его голос то взлетал ввысь и, раскатываясь, взрывался набатом, то замирал и становился мягким и нежным, если речь шла о море, то резко менялся, передавая интонации действующих лиц.
– Вот как надо читать, молодой человек, – сказал он несколько устало и захлопнул книгу, – а вы, мой юный друг… Нет, вы еще не умеете читать.
Потом он до самой перемены рассказывал о Горьком, и никто не пошевелился, когда раздался звонок.
Венька ушел домой смятенным. Он и подумать не мог, что голосом можно так оживить молчаливые печатные строки, показать, что они должны вкладывать в сознание любого, их прочитавшего. Готовясь к следующему занятию по литературе, он вытащил из груды учебников желтую тетрадку, которую прятал от чужих глаз. О ее существовании даже дома никто не знал: ни отец, ни мать, ни даже глазастый Гришатка. Там были записаны его первые четыре стихотворения. Одно из них, то, что показалось лучшим, он старательно переписал на отдельный листок и захватил в школу с твердым намерением показать учителю при первой же возможности.
В школу они всегда ходили вместе со Смешливым. Тот, кто был готов первым, подходил к парадному соседа и оповещал его пронзительным свистом. По пути в школу на этот раз разговор зашел о Литошенко, и Жорка мгновенно оживился:
– А ты знаешь, у него даже прозвище появилось. Восьмиклассники долго не раздумывали, Полканом нарекли. А что? Он действительно на старого доброго Полкана немного смахивает, а? Однако мировой дядька.
– Мировой, – охотно подтвердил Венька.
Они чуть было не опоздали на первый урок. Едва успели расположиться на своей дальней парте, как вошел быстрой походкой Литошенко. Положив перед собой портфель, широко улыбнулся.
– Юные мои друзья! Сегодня я вам ничего не буду рассказывать и ни о чем не буду спрашивать. Но это не означает, что в нашем классе будет процветать безработица, как на берегах Темзы. Совсем наоборот. Вы у меня будете трудиться в поте лица. Доставайте-ка тетради для контрольной работы.
Шестиклассники с неудовольствием захлопали крышками парт, извлекая оттуда тетради.
– Пишите, – скомандовал Павел Дмитриевич. – Сочинение на тему: «Мой самый памятный день». Все написали? А теперь каждый из вас должен будет вспомнить наиболее значительное событие нынешнего года, происшедшее с ним самим, либо то, о котором он узнал от других. Антон Павлович Чехов сказал, мои дорогие друзья, что краткость – сестра таланта. Не правда ли, мудрая формула? Я не призываю вас писать длинно, но и не запрещаю. Кто не успеет закончить, сдаст в незаконченном виде. Итак, начали.
Зашелестели страницы тетрадей, заскрипели перья. А Веня задумался. Писать? О чем? Лоб его нахмурился. Самое яркое событие. Да чего же тут раздумывать? Пусть не с ним это произошло, а с его другом, сидящим за одной с ним партой, но ведь это же действительно было событие, достойное описания.
И он рассказал в своем сочинении, как едва вставший на ноги после болезни Васька ждал хлеба, как его брат украл этот хлеб и спасался от милиционера, а потом, увидев, что тот совсем обессилен, повалился на землю, сам приблизился к нему, решив возвратить буханку.
Венька не мог понять, отчего так быстро бежит по линованому листу тетради перо и почему слова будто сами соскакивают с его острого кончика на бумагу. Он позже всех начал и раньше всех закончил. Можно было сдавать тетрадь. Но вдруг Вениамин вспомнил о листке со своими стихами. Он вложил его в тетрадь, ни о чем не предупреждая учителя.
На следующей неделе Павел Дмитриевич принес на очередной урок в портфеле пачку классных тетрадей с проверенными контрольными и положил перед собой.
– Сначала я возвращу тетради тем, кто заслужил отметку «очень хорошо», – улыбаясь объявил он. – Затем хорошистам и в третью очередь тем, кто получил «уд.».
– А тем, кто неуд? – хихикнула Соня Беседина, круглолицая белобрысая девчонка, всегда болтавшая под партой ногой и неопределенно улыбавшаяся к месту и не к месту.
– «Неудов» у нас на сей раз, к счастью, нет, – ответил Литошенко, – хотя, не скрою, был у меня соблазн поставить эту оценку Мише Костину. – При этих словах самый маленький в классе тщедушный мальчишка беспокойно заерзал на первой парте. – Ну посмотрите, что он написал. – Павел Дмитриевич раскрыл тетрадь и прочел:– «…Мы гуляли по лесу, и вдруг из кустов выскочил большой зверь заяц».
В классе засмеялись, а кто-то весело выкрикнул:
– Да он сам и есть большой зверь заяц!
Веня с напряжением ожидал, когда учитель назовет его фамилию. Но она так и не прозвучала. Раздался звонок, и, стуча крышками парт – звук, от которого ни одна школа в мире, вероятно, никогда не избавится, – ребята ринулись из класса. У Литошенко был хорошо поставленный баритон, и он сумел перекричать своих воспитанников:
– Вы свободны. Остаться прошу одного Якушева. Сядь поближе, – предложил он, когда класс совершенно опустел. Якушев сел на первую парту и только теперь увидел в руках учителя свою тетрадь. Литошенко бережно протянул ее мальчику: – Вот что, Веня, мою оценку посмотришь дома. А теперь ответь мне на такой вопрос. В тетрадку был вложен листок со стихами. Твои?





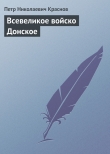


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)