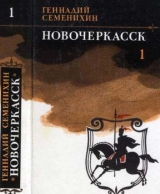
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
Было воскресенье, и Дронов с пятью своими дружками сидел за столом перед «гусыней» и тарелками со снедью. На плите шкворчала яичница.
– Дрон, спасай! – крикнул один из посланцев. – «Бановые» пришли на Аксайскую, всех перебить грозятся.
– «Бановые»? – переспросил кузнец. – Они и мне насолили, сучьи дети. Братишку поколотили. А ну-ка, хлопцы, водку в сторону. Докажем, что и мы за себя постоять могем. Я не из тех станишников, про которых молвят: «Дед у тебя был казак, отец сын казачий, а ты хрен собачий». Бери кто цепь, кто ломик, кто нагайку, а кто просто камень, и все на Аксайскую! Только дробовиков не прихватывай, чтобы милиция потом претензиев к нам не предъявляла. Зараз мы им покажем, что такое честное донское воинство!
За Дроном кинулось человек двадцать «низовых», давно скрипевших зубами при одном упоминании о вожаке «бановых», но кузнец жестом их остановил:
– Всех не надо. Пятнадцать душ подымайтесь зараз вверх по соседней Почтовой улице и встречайте там недобитков, а мы с остальными перехватим их на углу Барочной и Аксайской.
Это была схватка, которой никогда не видывала вольная Аксайская улица. «Низовые» казаки с остатками еще не вконец побитых парней с окраины ринулись на врагов. Ленька Баклан попытался было с финкой броситься на Дрона, но кузнец на лету поймал его руку. Она хрустнула, и бандит отчаянно завопил. Финка выпала, а Дрон ударил Баклана в висок так, что тот бездыханным упал на пыльную проезжую часть Аксайской улицы и уже не поднялся больше. «Бановые» бросились бежать, но на Почтовой улице их перехватила другая группа казаков. Финки и кастеты не пригодились на этот раз уркаганам. Избитые, они никуда не ушли с Аксайской улицы до прибытия грузовика с милиционерами. Начальник угрозыска перевернул лицом вверх бездыханное тело Леньки Баклана, коротко сказал:
– Тот самый. Его-то мы и искали. – Подумал и прибавил: – Ну и силушка же у тебя, товарищ Дронов. Как вот перед законом будем теперь оправдываться? Ну да ладно, что-нибудь придумаем.
С той поры тише стало на Аксайской улице, но время от времени по ночам все же будил обывателей отчаянный крик запоздалого прохожего: «Караул, грабят!», в ответ на который иные жители испуганно крестились и сдавленным шепотом приказывали своим сородичам: «Слышь, Вань (или Мишутка)! Там, на улице, грабят кого-то… А ну-ка, проверь поскорее запоры да свет загаси».
Поистине странное сословие казачество. От отчаянной храбрости до богобоязненной трусости шаг у его представителей иной раз бывает короче воробьиного носа.
Но воинственные традиции предков все-таки и обитателям Аксайской улицы достались в наследство, и маленький Венька в этот вечер долго не мог заснуть, думая о первой встрече с соседскими ребятишками. «Как же это он меня побил? – сгорая со стыда, вспоминал Венька. – Он же ниже меня ростом и на год моложе, а побил. И я побоялся его ударить в ответ… Значит, я трус?»
Мать хорошо понимала растревоженную переживаниями душу сына. Желая его успокоить, она в таких случаях пела немножко грустную колыбельную, и ее голос был для мальчика самым лучшим лекарством. Чтобы не расплакаться от обиды, Венька сейчас лежал, сцепив зубы, и даже старался не дышать. Голос матери наплывом врывался в утомленное обидой сознание:
Спи, дитя, не знай печали,
Баюшки-баю,
Тихо светит месяц ясный
В колыбель твою.
И странное дело, обиды и переживания отступали прочь, легко и приятно начинала кружиться голова. Подсаживался отец.
– Давай я тебя сменю, Наденька, если он еще не спит.
– Садись, несостоявшийся тенор императорского театра, – с легкой усмешкой отзывалась мать. Отец тоже пел тихим голосом, но не колыбельную, а совсем другую песню, которую обычно с присвистом пели донцы на маршах:
Солдатушки, бравы ребятушки,
А где ваши жены?
Наши жены – пушки заряжены,
Вот где наши жены.
Солдатушки, бравы ребятушки,
А где ваши детки?
Наши детки – это пули метки,
Вот где наши детки.
Так было и сейчас. Александр Сергеевич обнял жену за плечи, тихо позвал:
– Идем в другую комнату, Наденька. В этом доме есть где уединиться и нам, родителям. Ты у меня сегодня такая молодая…
Надежда Яковлевна осторожно освободила плечо из-под его чуть влажной тяжелой руки, словно сказать хотела без обиды, но твердо: «Не надо, не прикасайся ко мне, Саша». А у него в грустных глазах, иногда приобретавших неопределенный цвет – то ли светло-голубой, то ли светло-серый, – читалось одно и то же: «Вот и снова нашла коса на камень. Я знаю, что ты меня не любишь и не полюбишь никогда в жизни, потому что, даже мертвый, твой Иван всегда будет разделять нас жестокой межой».
Утром Венька очнулся от яркого солнечного луча. Отец и Гришатка открывали со стороны Аксайской окно, выходившее из детской. Острый и широкий, этот луч ударил на мгновение в глаза, заставил его зажмуриться. Освоившись, Венька перевел взгляд на бугор и увидел там вчерашних ребят. Коренастый, крепколобый мальчишка, тот самый, что постыдно побил его в кулачном поединке, о чем-то рассказывал своим дружкам, кивая в сторону их дома. «Побил меня и хвастает!» – взорвался про себя Венька. Он чувствовал сейчас необыкновенный прилив сил, и вчерашние насмешники вовсе не казались ему страшными. Надев майку, короткие штанишки с бретельками и сунув ноги в сандалии на лосевой подошве, он решительно метнулся в коридор.
– Вень, ты куда? – озадачилась Надежда Яковлевна. – А завтракать?
– Мам, я сейчас, – крикнул сын и галопом помчался к бугру.
– Саша, останови его, – встревожилась мать, – опять поколотят!..
– Погоди, Надюша, – хлопнул Александр Сергеевич в ладоши и весело продекламировал: – «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Кажется, наш Венька помчался сводить счеты. Посмотрим, что сейчас из этого получится.
– Побьют Венечку, – жалобно повторила Надежда Яковлевна, и оба они застыли у окна.
Тем временем Венька подбежал к бугру, удивив своей скоростью ребят, и остановился, чтобы перевести дыхание. Мальчишки с удивлением уставились на него.
– Гля! – воскликнул медно-рыжий. – Откуда он сорвался такой?
– Видать, божья коровка укусила, – предположил другой.
Не отвечая на их насмешки, Венька шагнул к своему вчерашнему обидчику.
– Ты! – закричал он гневно. – Ты за что вчера меня ударил?
Его противник осклабился, ища поддержки, посмотрел на дружков.
– А что? Хочешь, чтобы я тебя и сегодня огрел? Могу…
Договорить он не успел. Венька с размаху ударил его в скулу, потом дважды в нос. И тут случилось самое неожиданное: вместо того чтобы оказать сопротивление, крепколобый мальчишка обеими ладонями схватился за нос и с оглушительным ревом помчался от бугра к своему дому. Меж пальцев у него заструилась кровь. Медно-рыжий одобрительно покачал головой:
– Ну, ты ему и дал! Юшкой заставил умыться.
– Пусть первый не лезет, – буркнул Венька и, повернувшись к своим новым знакомым спиной, медленным шагом возвратился домой.
– Видала? – расхохотался Александр Сергеевич. – Ну что? Надо поздравить теперь победителя, а?
Надежда Яковлевна улыбнулась, но отрицательно покачала головой.
– Ни в коем случае, Саша, – возразила она. – Это же крайне непедагогично. За то, что Венька наказал своего вчерашнего обидчика, честь ему и хвала. Правильно сделал, что сумел за себя постоять. Но восторгаться тут нечем. Так недолго из него и уличного хулигана сделать…
Венька вбежал в комнату запыхавшийся и тотчас же бросился к банке с кипяченой водой. В ту пору многие боялись тифа и считали, что два стакана сырой воды непременно вызовут эту болезнь. Под страхом строгого наказания Веньку обязали пить только кипяченую воду.
– Много не пей, – осадила мать. – Сейчас завтракать сядешь. Оставь место для молока с мышьяком. Ты малокровный, тебе это полезно.
– С мышьяком не буду! – отчаянно завопил Венька. – И гематогенов ваших не буду.
– Тогда ложечку рыбьего жира, – просительно заговорил отец, но Венька наотрез отказался.
– Придется взяться за ремень, – едва сдерживая смех, пригрозила мать.
В это время хрипло зазвенел звонок над парадной дверью. Отец, а следом за ним и мать пошли открывать. Гришатка остался резать хлеб, а Венька, сгорающий от любопытства, ринулся в коридор и окаменел, увидав страшную картину. В их дом ввалилась целая процессия. Впереди шла расхристанная толстая бабка с широким морщинистым лицом, за ней – миловидная, очень стройная, коротко, по моде подстриженная женщина, а за ее спиной – другая, на нее похожая, вела за руку побитого Олега с грязным от слез лицом и ватными тампонами в расквашенном носу. Венька хотел удрать, но почувствовал вдруг, что ноги его прирастают от страха к полу. Увидав Веньку, Олег перестал выть, а женщина, продолжая держать его руку в своей, ожесточенно выговорила:
– Ну как же так все получается? Ведь вы же интеллигентные люди. Мы так обрадовались, узнав, что вы в этом доме поселились. И вдруг… Вы в техникуме преподаете, а сын ваш ни за что ни про что разбивает в кровь лицо моему Олежке. На окраине нашей и так от хулиганов прохода нет. Мы надеялись, что с вашим приездом доброго соседа приобретем, а ваш сын…
И вдруг неизвестная сила подтолкнула Веньку вперед, и он по-петушиному резко вскричал:
– Как это так ни за что ни про что! Нет, тетя, давайте по правде. Он меня на бугре вчера первый ни с того ни о сего вздул. Я же не жаловался!.. Отплатил ему сегодня, и все. А он вон сколько вас притащил…
Олегова мать растерялась.
– Да, но это было вчера, – неудачно возразила она.
– А какая разница, – вдруг заговорил с порога, шмыгая носом, Григорий. – Око за око, зуб за зуб. Так и во всех книжках Фенимора Купера про индейцев пишется.
Миловидная женщина потянула мать Олега за рукав и миролюбиво сказала:
– Идем, Лиза, их мальчик, по-видимому, прав.
– Нет, подожди, сестра, – остановила ее мать Олега. – Надо уточнить. Олежка, он говорит правду, что ты его первый…
– Правду, – не поднимая головы, буркнул Олег.
– Тогда извините, – остывшим голосом произнесла женщина. – Вот петухи! Я своему за нечестность еще дома трепку задам.
– Зачем же? – покашливая, сказал Александр Сергеевич. – Оба дрались, оба и виноваты. Я со своим тоже поговорю.
– Пусть лучше друзьями станут, – улыбнулась миловидная женщина, и вся процессия в том же порядке удалилась. А Венькина мать отвесила ему легонький подзатыльник и незлобиво сказала:
– Идем-ка лучше завтракать, Аника-воин, пока жаркое не остыло.
Дом на углу Аксайской и Барочной просыпался обычно очень рано. За ставнями, закрытыми на литые железные засовы, еще хлопал бич пастуха и мычали коровы общественного стада, когда Надежда Яковлевна начинала укладывать в кошелку кульки и сумки, чтобы идти на базар. Открыв дверь в детскую, она с минуту смотрела на разметавшихся во сне ребят, определяя, кого ей взять в помощники. Если очередь была Венина, но он спал без задних ног, она долго стояла на пороге и, понимая, что поступает несправедливо, все-таки обращалась к старшему:
– Гриша, а Гриша, может, ты со мною сходишь?
– Мам, я же вчера ходил, – отвечал сонный пасынок. – Пусть Венька.
– Гриша, – вздыхала мать, – да какой же из него помощник! А мне надо и мяса целую ножку купить, и сазанчика прихватить на завтрак. Ты у меня богатырь. Пойдем, а? А я тебе халвы или конфеток куплю.
Кончалось тем, что Гришатка шел умываться, недовольно сопя, одевался и вместе с нею уходил на рынок. Если отец не был измучен ночным приступом астмы, он тоже просыпался рано, открывал ставни, впуская в комнату потоки яркого утреннего света, делал зарядку по Мюллеру и плескался водой из умывальника. Ощущая на какое-то очень короткое время избыток сил, он останавливался перед широким наклонным зеркалом и подслеповатыми глазами подолгу вглядывался в посеревшее лицо с синими мешками под глазами. «Старею, – думал он горько. – Ой как выматывает она меня, эта проклятая астма». Потом, глубоко вздохнув, неожиданно раскалывал тишину сильным и мягким тенором, беря самые высокие ноты, не всегда доступные даже очень опытным певцам. Арии из «Травиаты», «Риголетто», «Кармен», «Мазепы» следовали одна за другой, оглушая Веньку, с детства возненавидевшего оперное пение.
Сердце красавицы склонно к измене
И перемене, как ветер Мая…
Пел, бывало, Александр Сергеевич, выпячивая грудь. Венька выскакивал в такие минуты из спальни босиком и, заткнув уши, орал:
– Замолчи, спать не даешь!
У этого его вопля была своя история. Когда Венька был совсем маленьким, от отцовского пения у него буквально разрывались барабанные перепонки. После того как сын впервые запротестовал против пения, Александр Сергеевич пришел в восторг и добродушно прощал ему подобную бесцеремонность, особенно в тех случаях, когда дома были гости, которых взрыв детской ярости приводил в умиление. Сейчас отец насмешливо посмотрел на его смуглые тонкие ноги и, дразня, сказал:
– Ладно, Венька. Вот эту арию сейчас попытаюсь вытянуть, хотя она и не для моего голоса, и будет тогда тебе полная пощада.
И опять задрожали в их доме стекла, когда, сделав устрашающее лицо, отец разразился яростным издевательским смехом и запел:
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный.
Венька бегал по комнате, стуча о половицы босыми ступнями, затыкал уши пальцами, но отцов голос беспощадно врывался в них:
Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл,
Сатана там правит бал, там правит бал…
Не осилив накатившего тяжелого кашля, отец внезапно с укоризной сказал Веньке:
– Дурак ты, братец! Вот вырастешь и сам поймешь, какой был дурак. Ты на меня кричишь, а люди остановились на улице и слушают.
– Ну да? – оторопел Венька.
– А ты подойти к окошку.
Венька протопал босыми ногами к угловому окну и удивленно застыл. Действительно, напротив их дома стояло несколько зевак. Соседская молочница тетя Даша остановилась как вкопанная с коромыслами на плечах и ведрами, доверху наполненными водой. Дядя Степа из двухэтажного кирпичного дома, игравший в оркестре городского драматического театра и считавшийся лучшим голубятником на всей Аксайской, хлопал в ладоши и кричал «браво», улыбалась тетя Лиза, мать побитого Венькой Олега.
– Уй ты, чудаки какие, – недоверчиво пробормотал Венька. – Неужели им нравится?
Но Александр Сергеевич не ответил и на эту его грубость. Он уже не видел ни собравшихся у дома соседей, ни пропыленной ветрами Аксайской улицы, ни родного сына, с лица которого быстро сбежала насмешка, сменившаяся удивлением. «Какие странные и непонятные эти взрослые, – в растерянности думал Венька, – если им нравятся отцовы песни про какую-то Кармен и загадочного тореадора». Мысленному взору Александра Сергеевича представились в эту минуту расцвеченный яркими огнями Петербург, афиша у входа в оперный театр, огромный затемненный зал и он сам в облачении испанского сержанта Хозе, оповещающего всех о своей любви к вольной цыганке Кармен. И великий Собинов, который подходит к нему в антракте, жмет руку с блестящими от слез глазами. А потом приглушенные голоса расходящихся зрителей, гаснущие люстры и актерская уборная, где Неточка Лосева в белом пеньюаре на кушетке, гася одну за другой последние свечи, горячо шептала:
– Ты мой, понимаешь, мой… Или сейчас, или никогда… И будь решительнее, чем этот страдалец Хозе.
Петербург, Мариинский театр, огни Невского, где все это? Словно выдумал кто-то этот праздничный кусочек жизни…
Александр Сергеевич достал бритвенный прибор, налил в алюминиевую чашечку горячей воды, долго взбивал мыльную пену, а потом пышным помазком накладывал ее на серые щеки – на них так быстро всегда вырастала жесткая щетина. В хорошем настроении Надежда Яковлевна любила шутить:
– Эх, Саша, Саша! Если бы половина этой щетины у тебя на голове росла, а не на щеках!
Пожалуй, не было у Александра Сергеевича более ответственного занятия, чем бритье. В эти минуты он почти священнодействовал, и горе было тому, кто неосторожным вопросом или даже жестом пытался его внимание отвлечь. Гнев Александра Сергеевича был беспощадным. Если Венька приставал к нему с каким-нибудь необдуманным «А почему?», в ответ неслось яростное:
– Ты что, негодяй! Или хочешь, чтобы я из-за тебя горло себе перерезал? – Венька испуганно смолкал, а отец, старательно счищая мыльную пену с лезвия бритвы об листок газетной бумаги, строго договаривал: – Ты вот спрашиваешь, а ведь если я отвлекусь, то физиономию себе могу располосовать или горло перерезать. А какого тебе отца иметь лучше: без шрама на физиономии или со шрамом?
– Без шрама, – тянул Венька.
– Вот то-то и оно, – соглашался Александр Сергеевич. – Значит, предоставь мне возможность спокойно добриться. – И бритва продолжала с легким шорохом скользить по его лицу, оставляя дорожки на заросших жесткой щетиной щеках.
Дома Александр Сергеевич был весьма раздражительным человеком во всех тех случаях, когда что-то делалось не так. Если жена, жаря мясо или гуся, впопыхах забывала о заслонке и чад синеватыми волнами начинал гулять по комнатам, отец, схватившись за виски, мчался во двор и с отчаянием обреченного причитал:
– Так я и знал, Наденька! Вы все сговорились меня отравить, потому что я в этом доме становлюсь лишним. Еще один такой эксперимент с заслонкой – и вы меня отправите в лучший мир.
Надежда Яковлевна, подбоченясь, хохотала от души, чем приводила мужа в еще большую ярость. Однако своего апогея гнев Александра Сергеевича достигал в тех редких случаях, когда он обрушивал его на сыновей.
Однажды все воскресенье он промучился над составлением годового учебного плана для старших курсов по математике и геодезии, а расшалившиеся Веня и Гриша опрокинули на ватманский лист пузырек с тушью. Словно зайцы, бросились они наутек в дальний конец двора и спрятались в камышах, при одном прикосновении к которым до крови рассекалась кожа на руке или ноге. Топоча ногами и задыхаясь, отец побежал было за ними, но устало остановился на пороге и, грозя перстом, грозно прокричал на всю округу:
– Ох и понарожал же я вас на свою голову! Вот умру, сдохнете от голода…
Способность быстро раздражаться и приходить в ярость уживалась в нем с необыкновенной добротой и постоянным родительским страхом за ближних. Если Надежда Яковлевна уезжала за покупками на полдня в Ростов, он без устали по нескольку раз повторял, когда она начинала собираться:
– Ты же смотри, Наденька, на поезд не опоздай.
– Да ведь до его прихода целых полчаса, а до площадки Цикуновки я за десять минут дойду, – возражала она.
– Мало ли что, – хмурился Александр Сергеевич, – а вдруг кассир свое окошко поздно откроет или очередь большая будет – вот и останешься с носом. На одной самоуверенности далеко не уедешь. А кошелек с деньгами – ты надежно спрятала? Смотри. Ростов после Харькова и Одессы третий город по воровству.
– И вовсе не третий, а первый, – смеялась жена. – Разве ты не знаешь, как у нас в Новочеркасске говорят? Ростов – папа. Одесса – мама. Получается, первый.
– Это не имеет значения, – ворчал Александр Сергеевич. – Зазеваешься – в миг очистят, а там разбирайся, первый или третий.
– Да не зазеваюсь, Саша, – добродушно успокаивала она.
Однажды, когда ребята остались дома одни, Венька спросил у старшего брата:
– Гришка, а как по-твоему, наш отец храбрый или нет?
– Не знаю, – последовал неуверенный ответ.
– А по-моему, он трус, – решительно заявил Венька.
– Это почему же?
– Да как же, у него и берданка есть, и порох, и дробь на кабана, и пыжи красненькие, которыми нам играть не дает, а он ночью из дома выйти боится.
– Так ведь у нас же грабят, – шмыгнул носом Гришатка.
На Аксайской действительно грабили. Редко кто отваживался ходить по ней после полуночи безоружным. А если ночь заставала и вооруженного, тот всегда шел по самой середине улицы, стискивая в кармане холодную рукоятку пистолета, финки или кастета. По молчаливому уговору всякий раз, когда раздавался в ночную пору отчаянный крик, взывающий о помощи, домовладельцы в одном исподнем выскакивали в коридоры своих жилищ и начинали остервенело палить из охотничьих ружей в специально прорезанные в ставнях и дверях бойницы, рассчитывая на то, что грохот выстрелов обратит на себя внимание милиции.
В окне, выходившем из коридора во двор, прорезал такую же точно бойницу и Александр Сергеевич. В сырую промозглую апрельскую ночь со стороны станицы Кривянской однажды прошелся над городом шквал, играючи выламывая калитки и срывая с крыш листы кровельного железа. Дом Якушевых он пощадил, оставив вмятины лишь на водосточной трубе и оторвав половину железного листа на крыше. Затихающие порывы ветра ритмично то опускали, то поднимали этот лист, и негромкий скрежет среди ночи был отчетливо слышен и в зале, и в кабинете хозяина дома. Александр Сергеевич, накурившийся астматола и безмятежно почивавший в теплом ночном колпаке, проснулся и, приподняв голову, осторожно вслушивался в эти удары.
– Наденька, Гриша, Веня! – плачущим голосом оповестил он. – Вставайте! Лезут… – И трясущимися руками дослал в берданку патрон. Клацнул затвор. Александр Сергеевич приставил ружейное дуло к прорези окна и не очень уверенно выкрикнул:
– Перестаньте немедленно! В ГПУ заявлю!
Но задравшийся от ветра железный лист с тем же равнодушием стал вновь выстукивать: «бам… бам… бам».
– Господи! – пробормотал испуганно Александр Сергеевич. – Да ведь это же бандиты уже засов на ставне подпиливают.
Негромкий в туманной мгле, раздался на Аксайской улице выстрел, на который одни лишь собаки откликнулись. Александр Сергеевич продолжал вслушиваться в слякотную глубокую ночь, уже близившуюся к рассвету. Прошли минуты, и сквозь ослабевший стук дождя до его слуха вновь донеслось: «бам, бам, бам». Он снова отчаянным голосом стал грозить невидимым взломщикам:
– В ГПУ заявлю! Слышите?
И еще три раза палил в редеющую ночь из берданки Александр Сергеевич, пока шагавший на свою утреннюю смену на завод Фаслера Ваня Дронов не окликнул:
– Эй, Архимед! Ну чего всю Аксайскую перебаламутил? Кто сказал, что воры лезут? Это же ветер!
Много чудачеств водилось за Александром Сергеевичем, и все-таки Гришатка и Веня горячо любили отца и про себя считали, что другого у них и быть не могло. Несмотря на свою вспыльчивость и ворчливость, был он удивительно добрым человеком, умевшим прощать ошибки и слабости другим, а иногда и над самим собою мог посмеяться в минуты откровения.
А какими удивительными были у них в доме долгие зимние вечера, когда ветер свирепо бился о надежно закрытые ставни, выл в трубе, а в комнате, служившей им в холода кухней, распространялось блаженное тепло от докрасна раскаленной плиты и в пузатом стекле керосиновой лампы мирно подрагивал желтый язычок огня. Близоруко склонившись над раскрытой книгой, отец читал «Тараса Бульбу». Голос его то гремел, то становился мягким или печальным вовсе. Венькина голова с постепенно темнеющими локонами покоилась на сомкнутых кулачках, а Гришатка сидел у отцовых ног, делая вид, что дремлет, потому что знал хорошо, что вот-вот дойдет очередь до самой тяжелой сцены.
– «Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен…»
Голос Александра Сергеевича становился глухим и тихим для того, чтобы взорваться минутой спустя и сразу подняться на небывалую высоту:
– «Ну, что ж теперь мы будем делать? – сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.
– Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Андрий был безответен.
– Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!»
В эту минуту Венька бросался в детскую со слезами на глазах и головой падал в подушку, затыкая одновременно пальцами уши, чтобы уже не слышать, как убьет Тарас Бульба неверного своего сына.
– Саша! – недовольно кричала из другой комнаты Надежда Яковлевна. – Зачем ты читаешь ему это на ночь! Он же спать теперь не будет.
Александр Сергеевич откладывал книгу в сторону, подходил к сыну и гладил его по голове, утешая:
– Ну чего ты, дурашка. Неужели тебе жалко Андрия?
– Жалко, – всхлипывал Венька.
– Так ведь он же предатель!
– Ну и что же! А зачем его этот злой Тарас Бульба убивает? Он бы его мог попугать, и Андрий бы исправился.
– А ты как думаешь, Гриша? – тихо обращался отец к старшему сыну.
Тот улыбался и скреб затылок.
– А я думаю, Тарас Бульба молодец. Правильно он в Андрея пальнул.
– Вот видишь, и Гриша, как Гоголь, считает.
– А он тоже, как и Тарас Бульба, злой, – тянул из-под подушки Венька.
– Это почему же? – допытывался отец.
– Потому что он стрекоз ловит и крылья им обрывает.
– А ты?
– А я нет. Я их ловлю и выпускаю. Александр Сергеевич рассмеялся.
– Ну ладно. Вставай, идем дальше читать Гоголя.
– А ты про страшное не будешь? – не без опаски спрашивал Венька, который до смерти боялся Гоголя и любил его бесконечно. Боялся, когда отец читал про философа Хому Брута, потому что всю ночь напролет потом снился страшный Вий с железными веками. Но еще больше боялся картинки, на которой рыцарь, закованный в латы, бросал в пропасть свирепого колдуна, загубившего много человеческих жизней, а из пропасти скелеты поднимали вверх костлявые руки, чтобы разорвать его в клочья.
– Не буду про страшное, – успокаивал отец, – я вам, хлопцы мои, знаете про что? Про то, как геройский дед с ведьмами в карты резался. Идет?
– Идет, – соглашался приободрившийся Венька, и чтение продолжалось.
А когда ребятишки засыпали, родители долго сидели над ними, и Александр Сергеевич, имевший большое расположение пофилософствовать, обняв за плечи супругу, тихо и медленно говорил:
– Видишь, как важно посапывают? Гришатка в одну сторону отвернулся, Веня в другую. А пройдет лет двадцать, и что-то с ними станется? Как интересно было бы узнать это. Что знает о себе человек? Ни один великий провидец не в состоянии предсказать, кем человек будет, какие добрые подвиги совершит, какие неудачи на своем жизненном пути потерпит. Человек ничего этого не знает.
– Откуда ты это все взял? – тихо сказала Надежда Яковлевна. – Может быть, они оба прославятся и не будет никаких неудач на их жизненном пути.
Александр Сергеевич подавленно вздохнул:
– Слава – это тележка, в которую надо только попасть, а дальше она сама тебя повезет.
– Да, но сначала необходимо все-таки попасть, чтобы она везла.
– Моя тележка уже давно ушла, – грустно заметил Александр Сергеевич. – И я из нее выпал…
Надежда Яковлевна нежно погладила его руку.
– Ты в этом не виноват, Саша, ты бы в ней удержался, если бы не астма. А с астмой какой же ты оперный певец.
– Да-да, – грустно вздохнул Александр Сергеевич. – А ведь бывали времена, когда со шпагой на поясе в костюме рыцаря и в сапожках с серебряными шпорами игривым шагом выходил на сцену, и только рампа отделяла меня от притихшего зала. А как жутко было в него заглянуть!.. Море голов… И только от тебя, исполнителя, зависит, как оно заволнуется и зашумит. Разразится ли аплодисментами, в случае успеха, ограничится ли сдержанным шумом или ответит возмущенным ропотом, если ты «пустишь петуха», как это принято говорить. О, Наденька, – горестно вздыхал Александр Сергеевич, – разве можно это забыть тому, кто хотя бы раз почувствовал, как радостен нектар успеха и как горек вкус поражения… А мое поражение – это возвращение в межевой институт, фуражка землемера, которую в революцию иные поборники свободы принимали чуть ли не за белогвардейскую, поездки но станицам, рейка и теодолит в желтом ящике, стоящие теперь в кабинете.
– И я в том числе? – усмехнулась жена.
– Нет, что ты! – пылко воскликнул он. – Ты только ослабила горечь поражения. Да и геодезия с математикой стали теперь моими родными сестрами. Но не убита еще одна мечта.
– Какая же, Саша?
– Сейчас не скажу. Потерпи немножко, Наденька, сама станешь свидетельницей.
И однажды, когда весеннее тепло уже совсем прочно завладело миром и над окраиной, утверждая смену времен года, с утра до вечера плавало щедрое солнце, отец вышел во двор, где, словно котята, баловались братья, и, критически оглядев Веньку, чуть хрипловатым от неровного дыхания голосом, лишь к нему одному обращаясь, сказал:
– Ты мне нужен, Вениамин. Умой получше физиономию, надень чистую рубашку и приходи к нам с мамой в кабинет.
– Пап, – разочарованно вздохнул Венька, – а мы с Гришей на Аксай собрались. Там отец Жорки Смешливого баркас просмоленный на воду спускать будет. Покатать нас обещал…
– Погоди, не убежит твой баркас, – отрезал Александр Сергеевич. – Делай то, что я сказал.
Венька подавленно вздохнул и, когда отец ушел, посмотрел на старшего брата.
– Гришатка, ты не знаешь, чего он ко мне прилип?
Тот пожал плечами:
– Откуда же?
Когда Венька, наскоро протерев водой из умывальника лицо, облачившись в глаженую белую рубашку и еще не разношенные сандалии, переступил порог отцовского кабинета, он немало удивился тому, что увидел. Все было обычным: солнце сквозь приоткрытую форточку скользило по зеленым, желтым и красным коленкоровым корешкам на полках книжного шкафа, в углу, прислоненная к печи, стояла берданка, в дальнем углу на полу желтел коробок с теодолитом. И только отец с матерью были какие-то необычные. Он – в темно-синем суконном сюртуке, в каком лишь в самые парадные дни уходил на службу, мать – в своем лучшем шерстяном платье, украшенном сверкающей золотом брошью, старательно причесанная, с торжественной улыбкой на тонких губах. Венька остановился и бесцеремонно доложил с порога:
– Ты звал? Вот я и пришел. Только скорее давай, чтобы на Аксайку успеть к спуску баркаса.
Никак не реагируя на его появление, отец сказал, обращаясь к одной лишь матери:
– Вот видишь, Наденька, оказывается, этот балбес в состоянии повиноваться родителям. Помнишь, я говорил тебе, что еще не убита во мне одна мечта, связанная с прошлым… с оперой.
– Помню, Саша, – подтвердила мать.
– Я всегда думал о том, что в закономерностях природы наследственность и повторяемость должны стоять на первом месте. Некоторые марксистские теоретики протестуют против этого. Однако настанет время, когда и они согласятся. Не могу же я уйти из жизни, не передав кому-то из детей либо моих математических, либо музыкальных способностей. И вот настал день, когда я хочу провести первый экзамен. Вчера я шел к дому, а наш Венечка копал под маслиной ямку и очень тихо, но в такой правильной тональности пел песню о жуке-водолюбе, которого выкинули на берег, но он не погиб, а снова нашел дорогу к воде. Я даже слова готов в памяти восстановить. – И Александр Сергеевич мягким, чистым тенором напел:
И видят люди, что за диво,
Волною снова взят к реке,
Наш водолюб плывет красиво —
Он тут, и там, и вдалеке.
Отец умиленно протянул к мальчику руки:
– Венечка, ты так пел, кажется?





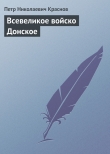


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)