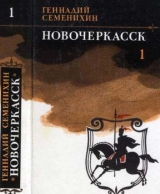
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 42 страниц)
Веня покраснел и наклонил голову. А когда поднял, увидел в руках Павла Дмитриевича свой листок. Держа его перед глазами, он прочел заключительную строфу:
Объят город сном,
Сумраком окутан,
Лишь в ручье одном
Светит месяц мутно.
Картина ночного города. А знаешь, ничего. Честное слово, ничего. Вот что, Веня, ты не будешь возражать, если я попрошу тебя их подписать и со своим сопроводительным письмом пошлю в Ростов, в краевую детскую газету?
Домой Венька прилетел как на крыльях. По пути на Александровской улице успел присесть на холодную скамейку и раскрыть тетрадь по литературе. Глаза жадно искали отметку за сочинение. И вот перевернута последняя страница. На ней он не увидел ни пятерки, ни четверки, ни тройки. Там стояло одно только слово, написанное красными чернилами. Он закрыл глаза, стараясь угадать какое, но так и не смог. А когда вновь их открыл и приблизил к себе тетрадь, слово это само бросилось в глаза. «Превосходно», – прочел он и увидел на конце три восклицательных знака.
Дней через десять, придя в школу, Венька сразу же отметил, что все старшеклассники, встречавшиеся ему на пути, как-то странно поглядывают на него. На верхней ступеньке лестницы стоял шестнадцатилетний Гошка Бородин, длинный угреватый парень, кокетничавший с одноклассницей Симой Юминой. Вся школа говорила в ту пору, что Гошка втрескался в нее по уши. Веня осторожно обошел их и вдруг услыхал, как Юмина шепотом сказала: «Смотри, это тот самый пошел». А в классе его окружили мальчишки. Многие потрясали свернутыми в трубочку газетами.
– Чего это вы? – удивился Веня.
– А ты разве ничего не знаешь? – удивленно попятился маленький Костин.
– Не-ет…
– Тогда прочитай. – И он протянул ему помятую газету. – Здесь твои стихи напечатаны всем нам на диво.
И опять он с триумфом возвращался домой, неся в порыжевшем портфельчике несколько номеров «Ленинских внучат». В этот день у отца были какие-то неприятности, и он возвратился из техникума не в духе. Мать сварила в чугунке суп из лебеды, закрасила его обратом. К каждой тарелке был придвинут кусочек кукурузного хлеба, а белая луковица разрезана на четыре части. Апостол Павел грустно смотрел с иконы на их убогую трапезу. Венька так и не знал, что родители для него и Гришатки ежедневно отрывают по одной части от своих паек. От тарелок поднимался густой пар.
– Единственное достоинство этого супа заключается в том, что он горячий, – вздохнул Александр Сергеевич.
Веньку восторг от первой публикации лишил начисто всякого аппетита. Не дожидаясь, когда родители поинтересуются, как идут его школьные дела, он развернул перед собой газету и снова впился глазами в такие знакомые строчки под жирным заголовком «Весна».
– Чего это ты там нашел? – мрачно спросил отец, занятый своими невеселыми думами.
– Газету, – весело ответил Венька.
– Ну и что там выискал?
– А ты погляди на третью страницу, – посоветовал сын.
Александр Сергеевич вооружился пенсне и пораженно воскликнул:
– Наденька, скорее! У нас в доме сегодня сенсация!
Мать, прочитав, изумленно всплеснула руками:
– Венечка, а мы ничего и не знали. Вот, оказывается, ты какой!
В другое время отец тут же поддержал бы ее, но сегодня даже это событие не могло его развеселить. Он возвратил сыну газету и хмуро спросил:
– Веня, сколько тебе лет?
– В этом году тринадцать исполнится, если забыл. А что?
– Пушкин в пятнадцать лет написал великолепное стихотворение «Казак», – жестко сказал отец, но тут же смягчился и похлопал сына по плечу. – А вообще молодец. Есть и рифма у тебя, и слова теплые. Дерзай, одним словом, Венечка. Но запомни одну суровую истину. Не всем литераторам, даже самым талантливым, суждено подняться до этого раннего стихотворения. Пушкин, как говорят, наше солнце. А солнце в Галактике одно. Но Галактика велика, и много в ней звезд большой и малой величины. Любой звездой или звездочкой стать почетно. Ведь что такое литература? Храм с парадным и черным входом. Далеко не каждому суждено войти туда через парадный вход. И как же огорчается вошедший, видя массу людей, проникших туда через черный вход. Они спорят по всяческим мировым проблемам и забывают о том, что не это главное, а книга. Есть книга – есть и писатель, нет книги – нет и писателя. То же самое можно сказать про художника, композитора, актера.
Александр Сергеевич закашлялся и умолк. Ночью он пережил один из самых тяжелых в своей жизни приступов астмы. Кашель яростно набросился на его усталое, истрепанное болезнью тело. Почти до самого рассвета Надежда Яковлевна неотлучно дежурила возле него. Муж сидел в кресле с закрытыми глазами, его лоб и опущенные веки были мокрыми от пота, а лицо серым.
Когда чуть-чуть ослабел приступ, он сказал жене, сидевшей с ним рядом:
– Наденька, уходи. Если станет совсем туго, я сам тебя позову.
Измученный приступом, Александр Сергеевич забылся, и ему представилось, что напротив в кресле сидит родной брат Павел.
«– Здорово, Саша. Ты думаешь, что меня убил бывший царский есаул Моргунов? Нет, братишка, шалишь! Я живой, и мы с тобой еще потопчем эту чудесную землю. А тебе плохо?
– Плохо, Павлик, астма проклятая душит.
– А ты не сдавайся, брат».
Потом они начали спорить, и Александр Сергеевич стал упрямо приводить все те же доводы, что уже приводил не однажды.
«– Человечество делится на две категории, – утверждал он. – Человек может быть либо творцом идеи, либо рабом ее. Ослепленный будущим, ты не оглядываешься на прошлое и не анализируешь настоящее. А человек по своей натуре эпикуреец. Он не желает жить одними жертвами и надеждами на неопределенное будущее. Ему подай сегодня жизненные блага. До сих пор не могу понять, почему вы, большевики, нас, интеллигентов, окрестили прослойкой?
Павел нахмурился, но потом улыбнулся:
– А потому что вы болтались промеж нас, большевиков, и буржуев, как цветок в проруби. Ты знаешь, что представляет из себя, на мой взгляд, интеллигент? Это человек, отчаливший в бурю от одного берега и не приставший к другому. Перестал грести, бабайки сложил и ждет, когда буря утихнет, не зная, к какому берегу волна его прибьет.
– Ерунда, – возмутился Александр Сергеевич, – русский интеллигент – воплощение честности и правдивости. Он всегда готов пожертвовать собой ради идеалов будущего: просвещения, борьбы с невежеством и тьмой. Вспомни, мой брат, сколько юношей и девушек погибло в борьбе с голодом, чумой и холерой. Молодые врачи даже чумой себя заражали, чтобы выработать от нее противоядие. А правда всегда была идеалом русского интеллигента.
– Была, – усмехнулся Павел. – Русский интеллигент, он действительно правдолюбец. Что верно, то верно. Но заставь его бросить камень в городового, который крутит руки студентке, расклеивающей листовки. Знаешь, что он сделает? Боком, боком и ускользнет. А если уж и решится, то рука у него так затрясется, что выпадет этот камень на мостовую. Вот ты распространяешься о его благородстве. Да, русский интеллигент действительно благороден. Если его хватит в пути удар, он успеет извиниться перед прохожими и только после этого отойдет в сторонку, чтобы тихонько помереть, никому не мешая. Разве не так?
– А как же Ленин? – ехидно спросил Александр Сергеевич, удерживающий подступающий кашель.
– Что Ленин? – опешил было Павел.
– Он ведь тоже был интеллигентом.
– Ну и что же, – рассмеялся старший брат. – Ленин у нас один. Он как гора над всеми классами и прослойками. И ты не путай деятельность человека с его происхождением. Владимир Ильич на самом деле интеллигент по происхождению. Однако он настолько велик, что всех за собою повел: и рабочих, и крестьян, и лучшую часть интеллигенции. К такой интеллигенции, как ты, большевики всегда обязаны хорошо относиться. Ты же Деникина и Каледина порохом не снабжал, листовки у Махно не редактировал. И что там говорить: ходи по земле советской, работай на благо народное.
– Работай! А кто будет меня кормить? Я работаю больше, чем вол. И за это получаю всего шестьсот граммов спрессованного кукурузного хлеба в сутки, – брюзжал Александр Сергеевич. – А где же закон социализма: от каждого по способности, каждому по его труду?
Но Павел и тут рубил под корень:
– Да, все так. От этого никуда не уйдешь, и это ты увидел. А почему же ты не увидел, что мы построили Сельмаш, Днепрогэс и Турксиб, зажгли на Урале мартеновские печи? А?»
Александр Сергеевич хотел было возразить, но фигура Павла вдруг стала размываться и блекнуть, как звездочка на рассвете, чтобы исчезнуть совсем.
Раскрыв тяжелые веки, Якушев убедился, что он в кабинете один. И тогда Александр Сергеевич стал думать о своих отношениях с женой. Неужели никогда меж ними не растает холод, и она по всей жизни пронесет лишь одно чувство – чувство любви к своему первому мужу? А их супружество – всего лишь хлипкий огонь под холодным ветром… И в сотый раз думал Александр Сергеевич о том, что мужчине и женщине нужно намного времени, чтобы полюбить друг друга, но еще меньше, чтобы охладеть, а то и возненавидеть друг друга. Засыпая, он с тоскою себе говорил: «Нет, она меня никогда не любила и не любит. Просто я ей не был противен. Вот и проживем всю жизнь, потому что теперь ни ей, ни мне деваться некуда».
Александр Сергеевич очнулся от шумного чужого дыхания. Решив, что Надежда Яковлевна вернулась в его кабинет, он умиленно пробормотал:
– Ну и чудачка же ты, Наденька, я же тебя просил не мучиться, идти отдыхать, а ты…
– Это не мама, – раздался рядом с его ухом отчетливый голос.
– Ты, Гришатка?
– Нет, отец, это я – Веня.
– Ах, это ты, мальчик мой, – обрадовавшись, проговорил отец. – Чего не спишь, тебе же утром в школу.
– Мама сильно устала, а Гришатка дрыхнет без задних ног, вот я и пришел. На лампе стекло вон как закоптилось… Я фитиль привернул. Тебе сегодня было очень плохо, папа… Ты бредил. Будто бы даже с дядей Пашей разговаривал…
– Вот видишь, – вздохнул отец и, помолчав, спросил: – Скажи, ты на меня не обиделся?
– За что?
– За мои слова о Пушкине, что он в тринадцать лет стихи писал лучше.
– Почему же я должен был обидеться? Пушкин и я – смешно. На правду нельзя обижаться.
Отец раскашлялся и схватился за грудь.
– Это только говорится так. На самом же деле люди обижаются на правду, да еще как. И обрати внимание, чем убедительнее горькая правда, тем сильнее обижается на нее человек. Это потому, что сама природа заложила в нем страсть к эпикурейству. Он любит нежиться и не любит страдать, а тем более отдавать свою жизнь даже за самых близких.
Венькины глаза, оттененные длинными ресницами, удивленно расширились.
– А как же дядя Павел? Ух, какой это был человечище! – воскликнул мальчик восторженно.
Отец вздохнул, и лицо его сделалось скучным.
– Это особая и весьма малочисленная категория рода человеческого.
– Я с тобой не согласен, – возразил Веня.
– Почему? – удивился отец.
– А потому что если бы это было так, то Красная Армия никогда не взяла бы Перекопа. Помнишь, как дядя Павел рассказывал нам о том сражении? Там в атаку шла не только, как ты говоришь, малочисленная категория рода человеческого. Там все шли под врангелевские пули.
Венька говорил горячо, и, впервые поглядев на него как на равного, отец не стал продолжать спора. Он вдруг заметил, как сильно вырос сын. Веня не раздался в плечах, но стал каким-то костистым и жилистым. Худое от постоянного недоедания лицо было смуглым, брови над серо-карими материнскими глазами часто приходили в движение, когда он с кем-либо спорил. Александр Сергеевич с тоской подумал о том, как все-таки мало уделял он внимания сыну. Ни разу не поговорил как со взрослым, не высек в горячем искреннем мальчишеском сердце чувства большого доверия к себе. «Будто пасынок он мне, а не сын», – горько подумал Александр Сергеевич и потянулся, чтобы погладить его по темнеющим волосам. Но сын бычком нагнул голову и отодвинулся.
– Не надо, папа.
– Это почему же?
– А потому что не люблю я, когда ласкают. Не маленький.
Александр Сергеевич положил руку на стол, улыбнулся. Долго и пристально смотрел на родного сына. «И еще в одном я не прав, – корил он себя мысленно. – Веня уже не ребенок, которому нужны сладости да игрушки. Он уже подросток и смотрит на мир по-иному. Ишь как изменился, а я и на это не обращаю внимания. Вот уже и пушок на губах, бритву скоро запросит… А в диковатых глазах уже недетская озабоченность. Морщинки над переносьем прорезываются, когда сдвигает брови».
– Чего ты на меня уставился? – вдруг улыбнулся Веня.
– Так… Думаю о твоем будущем.
– Ты?
– А разве отцу это запрещено?
– Да нет, – согласился сын. – Мне тоже с тобой охота посоветоваться.
– За чем же остановка?
Веня оглядел выкрашенные розовой масляной краской прокуренные астматолом стены забитого книгами и скатками чертежей маленького кабинета и вздохнул. Отец его понял:
– Знаешь, сынок, а что, если мы на улицу погулять с тобой выйдем?
Венька неуверенно возразил:
– Тебе же с астмой нельзя…
– А кто его знает, что мне теперь можно, а что нельзя, – беспечно махнул рукой Александр Сергеевич. – Возможно, от свежего воздуха легче станет. И притом мы ненадолго.
– Давай, – обрадованно согласился сын.
Большие синие звезды начинали уже выцветать, и небо на востоке светлело. Со стороны паровой мельницы донесся гудок, зовущий на первую смену рабочих. Редкие прохожие, возбуждая собачий лай, уже появлялись на Аксайской.
Якушевы дошли до бугра, с которого открывался вид на спадающий разлив. Слева мигали огоньки станции. Отец глубоко вздохнул.
– Это и есть место ваших сборищ? – покашлял он. – Во вкусе, однако, вам не откажешь. Действительно, прекрасный обзор во все стороны открывается.
– Бугор? – переспросил Венька и вдруг погрузился в неожиданное молчание.
Тот, еще очень и очень небольшой отрезок времени, который можно было назвать преддверием к юности, пробежал перед его мысленным взором, всколыхнув воспоминания, А они были пока не такими уж обширными, чтобы могли отнять много времени. Картины прожитой жизни, еще предельно короткой, одну за другой подсказывала его память. Он вдруг усмехнулся, подумав о том, что теперь их в семье стало не четверо, как было раньше, а пятеро, потому что не так уж давно родился третий по счету правнук геройского казака Андрея Якушева, вытоптавшего на своем коне от стен сожженной Москвы до Парижа многие сотни верст, – их родоначальника.
Если бы не тот рисунок, сделанный когда-то в расположении русских партизан легендарным Денисом Давыдовым, ставший их семейной реликвией, Вениамин никогда бы, даже мысленно, не смог бы себе представить главу их казачьего рода. Вот почему был он бесконечно благодарен матери, сохранившей этот драгоценный штриховой набросок, по которому теперь можно было представить запорошенный снегом лес, каким он был под Москвой в лихом от горя и бед восемьсот двенадцатом году, вырванное при артиллерийской перестрелке с корнем дерево, перегородившее дорогу, и казака с длинной саблей на боку, державшего под уздцы оседланного коня.
Если бы не этот казак, их рода могло и не быть. А сейчас они ничем не хуже других, тем более что теперь их не четверо, а пятеро. Пятым Якушевым стал его младший брат Юрка, появившийся на белый свет уже после гибели дяди Павла. Тогда наступило время, когда Венькина мать на глазах у всех стала толстеть и жаловаться отцу, что все платья ей малы. Отец как-то осчастливленно улыбался и молчал при этом. А Венька однажды вернулся очень возбужденным с улицы, опоздав на обед, чем вызвал недовольство родителя.
– Опять ты прошлялся со своими босяками! – проворчал неодобрительно Александр Сергеевич. – Суп с клецками уже остыл.
Не обратив никакого внимания на отцовскую реплику, сын, едва успев отдышаться, выпалил:
– Мама, все мальчишки говорят, что ты беременная. Что это такое – объясни. Ребята смеются, а Олег Лукьянченко больше всех. Я подумал, что тебя дразнят, и дал ему на всякий случай в ухо.
– Видишь ли, Венечка, – улыбнулась мать, – скоро я действительно уйду в больницу, а оттуда возвращусь не одна, а с мальчиком или с девочкой. Скажи, тебе кого лучше принести, мальчика или девочку?
Беззаботно стуча под столом ногой, Венька не задержался с ответом:
– Нет, мама, ты мне лучше котеночка или собачку принеси.
Мать усмехнулась, а в отцовой руке застыла ложка с супом.
– Нечего сказать, напутствие, – пробормотал он кисло.
– Не огорчайся, Саша, – тихо проговорила мать и ласково притронулась к его руке. – Ребенок и есть ребенок.
Все последующее Венька понял лишь в тот день, когда мать вернулась из больницы с запеленутым младенцем на руках.
Младший брат Юрка оказался субъектом весьма крикливым. Он либо улыбался, либо надрывался в оглушительном плаче, размахивая пухлыми кулачками, и решительно отталкивал от себя расписные погремушки.
Венька и Гришатка хмурились, с трудом понимая, с какой это стати сияют отец с матерью.
Чтобы польстить сыновьям, Александр Сергеевич рассказывал длинные сказки, в которых старшие братья до бесконечности любили младших и, едва не жертвуя своими жизнями, бросались за них либо в реку, если младший начинал тонуть, либо в огонь, если загорался дом и некому было спасти завернутого в мокрые пеленки наследника, либо под поезд, если тот, споткнувшись, падал на рельсы и глазами-пуговками остолбенело смотрел на неотвратимо надвигающуюся на него стальную громаду паровоза. Жестикулируя и меняя тембр голоса, отец изо всех сил старался развеселить их обоих.
Но все кончалось тем, что Венька, уставший от длительного повествования, нетерпеливо спрашивал:
– Все, что ли? Закончил?
Александр Сергеевич смотрел на него, подслеповато щурясь, и, не чувствуя подвоха, отвечал:
– Все.
– Тогда мы пошли на речку, – неожиданно объявлял Григорий, и, шлепая босыми ногами, старшие братья выбегали из дому.
– Шалопаи, бездельники! – ревел им вдогонку отец. – Ни чести, ни совести! Понарожал я вас на свою голову!
За желтым выщербленным порогом отчего дома пути детей расходились: Григорий убегал на речку, а Веня поспешал на бугор.
У мальчишек Аксайской улицы была своя неписаная традиция. Целый день мог пустовать бугор, и солнце палило его глинистую поверхность. Но стоило появиться на нем хотя бы одному босоногому мальчугану и, присев на корточках, обхватив сбитые загорелые коленки, пробыть какой-то десяток минут, как рядом, словно из-под земли, возникал другой, такой же босоногий приятель и тихо усаживался рядом. Здороваться у них в общении не было принято.
Когда семья Якушевых только-только обживала дом на углу Аксайской и Барочной и Венька однажды, приблизившись к общей компании, издали выкрикнул: «Здравствуйте, мальчики!», рыжий Жорка беззлобно сказал:
– Ты это брось – здороваться. Мы эту буржуйскую моду давно вывели. Если кореш, так садись поближе, мы тебя и так примем.
И пришедший молча присаживался, через минуту-другую его голосок уже вливался в общий хор всех участников беседы.
И, бог ты мой, какие только истории и анекдоты не рассказывались на бугре! Бедные родители даже и представить себе этого не могли. Если бы даже самый пристойный из таких анекдотов кто-нибудь из аксайских мальчишек пробормотал во сне, быть бы ему иссеченным самым наидобрейшим отцом либо матерью, а еще чаще, старшей сестрой или старшим братом. Но и пристойного, удивительно чистого и хорошего на этом бугре говорилось столько, что и взрослым иногда не худо было бы послушать, чтобы не забывать, что порою и у детей можно кое-чему поучиться – и доверчивой откровенности, и прямолинейному, но столь необходимому в жизни отношению к честности и неправоте. Нередко на этом бугре ребята говорили о том, о чем даже неведомо было взрослым.
…Убежав в тот день от расплакавшегося младшего брата, Венька уселся на бугре и с наслаждением ощутил под собой нагревшуюся за день землю. День уже клонился к вечеру, и по крутому спуску со стороны речного пляжа ватага за ватагой поднимались купальщики. Не прошло и пяти минут, как жесткий, перемешанный с крошками известняка песок захрустел под чьими-то босыми ногами и хрипловатое дыхание послышалось над Венькиной головой. Только один из его друзей дышал так.
Не оборачиваясь, Венька спросил:
– Это ты, Жорка?
– Я, – ответил, присаживаясь рядом, Смешливый. Несколько мгновений они молча смотрели на зеленое займище, где паслось общественное стадо.
Марево подрагивало над бугром. Со стороны Ростова из-за поворота вывернулся скорый, железным грохотом наполнивший округу.
– Сальск – Москва пошел. Только он в это время шпарит, – предположительно проговорил Веня и вдруг осекся.
У Жорки на щеках побелели рыжие веснушки. Скривив в горькой усмешке губы, Смешливый произнес:
– Тот самый… помнишь, тогда… Он остановился, а Шура осталась лежать на песке рядом со шпалами. Паровоз пыхтел, а решетка у него была в крови…
– Жорка, прости, – перебил его Венька и опустил виновато голову. – Я не хотел тебе напоминать, это просто так, по-дурацки вырвалось.
Смешливый тихо вздохнул и по-взрослому ответил:
– Нисколько ты меня не обидел, Венька. Я уже пережил свое. Помнишь, какая была наша Шурка? Бывало, мать наругает, денег на киношку не даст, а она в свою комнатку заманит, дверь прикроет и, чтобы никто не видел, сунет в карман целковый. «Вот тебе на Пата и Паташона, а остаток на мороженое». А как она за меня и за Ваську заступалась, если отец с матерью нападали за что-нибудь! – Он на минуту погрузился в горестное молчание и вдруг повеселевшим голосом спросил: – Вень, а Вень, скажи, а ты в нее по правде втрескался?
– По правде, Жорка.
– Тю на тебя, дурень! Ты же маленький еще какой тогда был! – засмеялся товарищ, но тут же погасил улыбку: – А впрочем, не обижайся. Мое дело сторона, я больше не буду об этом.
Блеклыми, погрустневшими глазами вгляделся он в серебрившуюся внизу полоску реки, откуда долетали голоса и беззаботный смех купающихся, и, вдруг оживившись, сказал:
– А ты знаешь, Венька, я в седьмом классе учиться с тобой уже не буду.
– Куда же ты от школы денешься?
– Уйду! – твердо объявил Жорка. – В ФЗУ поступать буду. Митька уже обо всем там договорился. Буду на фрезеровщика учиться. Фрезеровщики в СССР тоже нужны. Не всем же, как тебе, об институтах разных мечтать. Так что ищи себе другого кореша.
– А я тоже не буду в седьмом классе учиться! – выпалил Якушев, и так неожиданно, что его растерявшийся приятель только присвистнул.
– Это с какой же стати? – вырвалось у ошеломленного Жорки.
Венька рассмеялся:
– Что? Озадачил? Я в техникум буду поступать. В тот самый, где отец. Мелиоратором решил стать, одним словом, и никаких институтов!
– А пахан? – растерялся Смешливый. – Он возражать не станет? Он же тебя уже вузовцем небось представляет.
– Не знаю, – отмахнулся Веня, – только я твердо решил и не отступлю.
– Да это-то так, – согласился приятель. – Ты действительно если что решил, то добиваешься своего. Только против отца будет тяжело.
– Придет время – попробую, – скупо ответил Венька.
И вот эта минута пришла. Они стояли на знаменитом мальчишечьем бугре Аксайской улицы – он и отец. Пауза затягивалась, перегруженная воспоминаниями. Сын долго молчал, и отец почему-то щадил это молчание. Наконец он неуверенно заговорил:
– Ты чего безмолвствуешь? – Александр Сергеевич деликатно покашлял, кладя ласково руку на Венькино плечо. – Какие воспоминания нахлынули на тебя, сынок?
– Так, – вздохнул Вениамин, – будто все детство пробежало перед глазами.
– Детство? – переспросил отец. – Действительно, значительная часть твоего детства прошла на этом бугре. Написал бы ты о нем стихи. Благородная тема.
– Если получатся…
– Если получится…
– А ты постарайся. И не рассчитывай на вдохновение. Рассчитывай прежде всего на труд. Без труда никакого вдохновения не бывает. Это я тебе как старый землеустроитель говорю, – добрым голосом продолжал отец. – Признаюсь, ты меня удивил тем, что к стихам тебя потянуло. Чего не ожидал, того не ожидал. Не было в роду у Якушевых стихотворцев. И это неважно, получится или не получится из тебя поэт. Люби наше русское слово, Веня. Оно украшает человека, и тот, кто его любит, далеко пойдет, кем бы он ни стал. Подумай, может после девятилетки тебе на литфак поступить?
Сын резко качнул вихрастой головой:
– Нет, отец. Я не собираюсь кончать девятый класс. Хочу как можно скорее вступить в жизнь. И ты мне должен помочь в этом. Скажи, с каких лет принимают в ваш техникум?
– С шестнадцати. А что?
– Плохо, – вздохнул Вениамин. – Мне в этом году исполнится всего четырнадцать. Но ведь ты же все-таки в техникуме завуч. Неужели нет правил без исключения?
– Бывают, Веня, – улыбнулся отец, – и я постараюсь тебе помочь. Но скажи, почему ты так рвешься в наш техникум? Какие думы тебя туда ведут?
– Не думы, отец, а тренога.
– Какая еще тренога? – озадаченно воскликнул Александр Сергеевич.
– Тренога с теодолитом, которая стоит в углу твоего кабинета. Плюс к ней рейка для нивелировки да еще твои рассказы о скитаниях в молодые годы по донским степям в качестве землемера. А я выучусь на гидротехника и уеду в какие-нибудь далекие-далекие края. Ведь это какое счастье – давать полям и людям воду.
Отец и сын стояли под светлеющим утренним небом окраины. Оба почувствовали, как растаял тот маленький ледок, что пролегал между ними, и стала простой и открытой дорога друг к другу. Тяжелая рука отца легла ему на плечо.
– Об одном хочу предупредить тебя, Веня. На свете есть много дорог в жизнь. И по какой бы ты ни пошел, она всегда приведет тебя к цели, если будешь упорным. Но никогда не выбирай две дороги в жизнь сразу, не повторяй моей ошибки. – Голос Александра Сергеевича дрогнул от волнения, и Веня поспешил перебить отца, чтобы не вставали в его памяти грустные воспоминания о неоконченном институте и об опере, которая его, молодого, обуреваемого надеждами, манила огнями рампы, суля известность и славу, но не могла вырвать из жестоких когтей астмы.
– Идем, папа, – мягко позвал сын. – Тебе надо еще хотя бы немного вздремнуть.
– Да, да, – согласился Александр Сергеевич. – Но давай постоим еще с минуту. Ты погляди, чудо-то какое!
Над спадающим разливом Аксая, над синеющими далеко-далеко ветлами, на которые когда-то в бурную ночь держали путь на ветхом плотике беглые холопы помещика Веретенникова Андрей Якушев и его верная Любаша, поднимался огненный шар солнца.
Я прошу тебя, время, остановись! Но не для того, чтобы сосчитать седые морщинки моей памяти. Дай оглянуться на тебя, время! Одинаково отсчитываешь ты дни, месяцы и годы для всего человечества, но у каждого из нас свои счеты с тобой, потому что каждый по-разному прожил дни своей жизни, наполнил их разными делами и поступками и за все это отвечает перед тобою сам.
Остановись хотя бы на мгновение, время! Я хочу увидеть, как уходит в большую распахнутую жизнь самый молодой потомок славного донского казака Андрея Якушева, героя на века всем запомнившегося восемьсот двенадцатого года. Уходит, чтобы продолжать судьбу своего рода уже на новом Дону в совсем иные времена!
Счастливого пути тебе, парень!
1978–1980 гг.





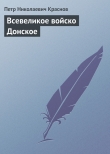


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)