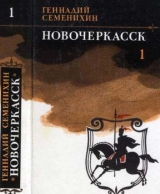
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
В один из майских дней, когда солнце уже набрало порядочную силу и сидеть во дворике становилось жарко, ушел Сергей Андреевич во флигелек, достал с полки томик Пушкина, стоявший там среди учебников Александра, и с упоением стал перечитывать «Полтаву». Надо сказать, что по-настоящему великого поэта он полюбил слишком поздно, в те дни, когда намертво был уже разорен своими компаньонами, похоронил свою верную Наталью Саввишну и остался с двумя сыновьями-несмышленышами на руках.
Прочитав несколько пушкинских стихотворений, он был как громом поражен ясностью его слова, простотой и гениальностью стиха. Поражен до того, что едва не расплакался при мысли, как это он мог не понимать Пушкина до своих седин и лишь в этом возрасте открыть его как учителя жизни. Отчего-то именно «Полтава» больше всего поразила его. И сейчас, вновь переживая всю прелесть пушкинского стиха, он не сразу обратил внимание на осторожный стук в дверь. На пороге стоял пожилой человек. Несмотря на жару, был он облачен в строгую классическую тройку. Опытным глазом бывшего купца Якушев тотчас определил, что пошит костюм из очень дешевого материала, а ботинки на незнакомце были и того дешевле.
Притронувшись длинными пальцами к потертым полям шляпы, вошедший нерешительно осведомился:
– Простите, это дом номер семнадцать по Почтовому спуску?
– Изволили правильно заметить. Семнадцать, – подтвердил старик.
Вошедший робко улыбнулся:
– Вероятно, вы и есть Сергей Андреевич Якушев, отец гимназиста Александра Якушева?
– Не ошиблись.
– Мне надо с вами поговорить по очень важному для нас обоих делу.
– Прошу, пожалуйста, – пригласил Якушев незнакомца в дом. Посадив его на облезлый от времени, когда-то лакированный венский стул, он поставил перед собою палку, сложил на ее ручке узловатые ладони, опустил на них небритый подбородок и приготовился слушать.
– Я учитель гимназии. Фамилия моя Хлебников, – сказал гость. – Зовут Павлом Павловичем, но ученики с упрямым упорством называют сокращенно: «Пал Палыч», с чем я уже давно смирился.
– Знаю, – кивнул Якушев.
– Саша говорил? – усмехнулся учитель.
– Нет. Надя.
– Ах, Наденька Изучеева, – весело заулыбался Пал Палыч. – Какая очаровательная девочка. Вихрь, а не гимназистка. Жаль, с отцом такая трагедия произошла.
– Этого уже не поправишь, – сухо заметил старик. – Время жить и время помирать у каждого свое. Бог человеку жизнь дал, бог и взял.
– Да, да, все это укладывается в одно понятие: жизнь, – согласился учитель. – Но я не об этом пришел с вами говорить. Ваш Саша замечательный мальчик. У него феноменальные способности к математике. Он уже стал, как бы это поточнее выразиться, живой легендой всей нашей гимназии. Так вдумчиво подходить к науке, схватывать на лету самые трудные ее элементы… поверьте мне, это далеко не каждому дается. Он и меня часто ставит в тупик своими неожиданными выкладками и решениями. А логика! Какая у него ясная и неотразимая логика! Короче говоря, педагогический совет нашей гимназии готов послать вашего сына держать экзамен в Московский университет. Ему нужна система, школа и, если говорить по совести, более эрудированные наставники, чем мы.
– Но ему же еще шестнадцати нет, – заволновался Сергей Андреевич.
– Это неважно, если речь идет о подлинном даровании, – прервал учитель и с грустью оглядел обшарпанные стены маленькой гостиной флигелька, немытые кастрюли и тарелки на плите, старую скомканную одежду на лежанке русской печки, от которой шел затхлый запах. Лишь портреты двух женщин, двух покойных жен старого Якушева, несколько оживляли давно не беленную стену. «Трудно будет ему в такой обстановке оставаться одному», – невесело подумал Хлебников.
– А на какие деньги он будет учиться? – глухо перебил его мысли Якушев. – Ведь я же банкрот. Кое-как перебиваюсь с кваса на воду. Хоть в сторожа нанимайся да с колотушкой ходи по ночам. И то куда лучше, чем на паперти с протянутой рукой стоять.
– О, не беспокойтесь, – остановил его учитель, видимо, желающий поскорее завершить нелегкий разговор. – Я уже говорил со смотрителем училищ, и он заверил, что вашему сыну будет выделена казенная стипендия, потому что он внук знаменитого героя Отечественной войны Якушева, которым сам атаман Платов восхищался.
– Вот как, – криво усмехнулся тонкими бескровными губами Сергей Андреевич, – отца моего, стало быть. А вот меня, когда я был мальчишкой малым, под стать тому птенцу, что из скорлупки вылупился, одному учили: твой отец руку на помещика поднял, на власть праведную, стало быть, отречься от него надо.
– Вздор! – перебил его учитель гимназии. – Ваш родитель герой Дона и всего нашего славного казачества. Вот он кто! Ну так как, Сергей Андреевич? Соглашаетесь?
– Я с самим Сашенькой должен поговорить… с сыночком, – жалобно ответил Якушев Павлу Павловичу.
Они медленно шли по уже затвердевшему после разлива левому берегу Аксая. Босая Наденька с удовольствием ступала по нагретой солнцем земле, держа в руках белые парусиновые туфельки. Александр, коренастый и уже несколько раздавшийся в плечах, близоруко щурил глаза с синеватым отливом.
– Вот и провожу тебя скоро в Москву белокаменную, Пифагор любезный, – шутила без особой веселости девочка. – А кто мне в следующем классе задачки решать будет? Выходит, погибнет тупенькая Надежда.
– С таким именем не погибнешь, – улыбался застенчиво Александр. – Ты – Надежда. Надежда на все лучшее. Разъяснил я тебе это или нет? Что может быть у человека лучше надежды, а?
– Ум, – вдруг посерьезнела девочка. – И не спорь.
Она обернулась. Упрямые огоньки сверкнули в темно-карих глазах. Так и казалось, что стайка веселых птичек поселилась в них. Саша сбоку украдкой любовался Наденькой. Как она изменилась за последнее время! Хоть и сыпала шуточками, но взгляд стал строже, губы нет-нет да и сжимались в тонкую линию, и тогда думалось Александру, что посуровела она после гибели Якова Федоровича. Девочка стала выше ростом и стройнее. Под форменным платьем уже обозначились груди. Перепрыгивая канаву, она поскользнулась и забалансировала на одной ноге.
– Да помоги же, тюлень несчастный.
Саша во весь опор бросился на помощь и сам еле устоял на скользком пригорке. Поддерживая за локоть подружку, он неосторожно коснулся ее груди, и Надежда сердито выдернула руку. Не зная, как сгладить неловкость, Саша попробовал отшутиться:
– Ты чего надулась, как самовар медный, девчонка несчастная…
– Так, ничего, – после длинной паузы ответила она. – И притом хочу прибавить, что я уже вовсе не девчонка несчастная.
– А кто же ты?
– Да как тебе сказать? Выпускники вашей мужской гимназии теперь барышней изволят меня величать.
– Тебя, болтушка? Вот уж потешила так потешила!..
По другому берегу реки прогрохотал поезд. Красные и синие вагончики оставили за собой едва заметное облако пыли. Отсюда хорошо было видно, как подкатил пассажирский к каменному зданию вокзала и замер. Мгновенно звякнул медный колокол, извещая о его прибытии.
– Счастливые люди, – вздохнула Надежда, поправляя потревоженные ветром волосы.
– Это кто же? – спросил ненаходчивый Саша.
– А те, что в поезде едут. По-моему, все хорошее начинается с вокзала. Вот и ты скоро уедешь в далекую Москву, а о ней страшно даже и подумать. И забудешь ты, Сашенька, тупенькую гимназисточку, которой никак не мог втолковать квадратные уравнения.
Синее небо, словно большой шатер походного атамана, простиралось над ними. Маленькое стадо коров паслось самостоятельно вдалеке, и больше, хоть шаром покати, ни одного живого существа нельзя было увидеть на просторах займища, где за версту от берега еще блестела в камышах вода от талого снега.
– Сашенька, поцелуй меня, – неожиданно сказала Надежда.
Щеки Александра покрыла бурая краска смущения.
– Вот еще! Это же разврат, – надулся он. – И впридачу ты же еще маленькая.
– А если я так хочу, – упрямо повторила гимназистка. – И потом, какой же это разврат, если на земном шаре все целуются. И в сказках, и в песнях, и в книжках. И короли, и Иванушки-дурачки, и Василисы Прекрасные. А дома я сама сто раз видела, как папа мой маму целовал и даже по комнатам за ней гонялся. А ты боишься! Значит, ты трус? Да?
– Откуда ты взяла? – не поднимая головы, возразил Александр. – Если уж ты так просишь, то изволь. – Он быстро подошел и скорее клюнул ее в лоб сжатыми губами, чем поцеловал. Наденька равнодушно поправила на голове белый шелковый бант.
– Фи! И ничего особенного. Зачем же тогда в романах о рыцарях так много о поцелуях пишут? – разочарованно заявила она и, поддаваясь новому капризу, приказала: – А ну, рыцарь, догоняй теперь!.. – Надя бросилась в сторону железнодорожного вокзала по берегу так стремительно, что широкая юбка поднялась парусом, обнажая еще не успевшие загореть ноги. Александр рванулся было за ней, но, почувствовав одышку, понял, что ни за что ему Надежду не догнать. Она остановилась, сорвав камышинку, хлестала ею себя по пяткам.
– Плохой ты рыцарь, – сердито сказала она подошедшему другу. – Никто про тебя в романах писать не станет.
– Зато про тебя напишут, – огрызнулся мальчик. – Про то, как ты среди белого дня с малознакомым гимназистом целовалась.
Она рассмеялась, рассматривая его во все глаза. Ямочки вздрогнули на ее щеках, покрытых редкими веснушками.
– Это ты-то малознакомый? Да я про тебя все до капельки знаю. И про отца, и про деда твоего героического, про все походы его на войну, и про бабушку, ради которой он тирана-помещика своею рукою убил. А вот ты бы так смог за меня в драку пойти, если бы надо было меня спасать?
– Не знаю, – буркнул Саша. – Наверное, пошел бы.
– Ага, ага, – захохотала девочка, – раз не знаешь, значит, побоялся бы.
Но, увидев, что тот обиженно опустил голову, подошла к нему вплотную, провела легонько ладонью по мягким волосам:
– Ладно, я пошутила. Перестань, не сердись, – И, дотронувшись теплыми пальчиками до его запястья, решительно призналась: – Ты хороший, Саша. Только не смотри, пожалуйста, бирюком. Мне будет очень тоскливо, когда ты уедешь. И я буду часто приходить к твоему отцу и спрашивать, присылаешь ли ты ему аккуратно письма и передаешь ли в них мне приветы.
– Зачем же об этом спрашивать, – буркнул Саша. – Можно подумать, ты не знаешь, что именно так и будет.
Надя ничего не ответила. Она вдруг стала тише и строже, недавнего всплеска веселости как не бывало.
В середине июля все документы на отъезд в Москву были готовы и к ним приложено письмо самого смотрителя учебных заведений Войска Донского, рекомендующего, учитывая недюжинные способности в области математики воспитанника Новочеркасской мужской гимназии купеческого сына Якушева Александра Сергеевича, в прилежности и добропорядочности которого нет никаких сомнений, еще до окончания гимназии допустить его к экзаменам на физико-математический факультет университета.
Дни замелькали, как бешеные. Отец еле успел починить ему на клетчатом дорожном саквояже испорченные замки да денег немного припасти на дорогу, продав кое-какие из своих последних вещей.
– Вот и все, Сашок. Можешь спокойно ехать в Москву и пробиваться в жизнь, – вздохнул он. – Нечего в Новочеркасске киснуть, если в тебя и твои способности верят те, кто лучше других об этом может судить.
– Отец, ты бы мог и на вокзале перед моим отъездом это сказать, – мягко улыбнулся Александр, но его родитель сурово поднял желтую руку с набрякшими венами.
– Обожди, сынок, не перечь. Там не место для родительского напутствия будет. Мы, Якушевы, не из тех, для кого у господа бога бесплатные бублики связками припасены. Мы грудью в жизнь врубались, что твой дед, что я. И пусть твоему деду слава великая за его подвиги выпала, а мне одно разорение да бесславие, обоим нам не повезло, Саша. Не добились мы счастья в жизни земной, а на небесную тебе, как и нам, особо рассчитывать неча. Стало быть, ты смолоду реноме себе завоевывай. Смолоду!
Александру стало нестерпимо грустно. Жалкий, догорающий в жизни старик с подрагивающими веками и землистым, провалившимся ртом сидел напротив него, и был этот старик его родным отцом. Больно царапнула по сердцу мысль: «Увижу ли его?» Две покойные жены Сергея Андреевича грустно смотрели с портретов на отца и сына. Как будто разгадав Сашины мысли, старик горько вздохнул, словно взвешивая, сказать или не сказать всю, до конца, правду. Но как конь норовисто встряхивает головой, прежде чем взять препятствие, так и старик вдруг овладел собой и в волнении с городского перешел на давно забытый станичный говор, к которому довольно редко прибегал в своей незадачливой жизни прогоревшего негоцианта.
– Ишо вот о чем хочу предупредить. Гутарить много можно красивого про будущее. Но ты помни, что оно само в руки не плывет, как в ледоход крыга, и с неба запросто не падает, потому как сумки дырявой у Иисуса Христа нету для того, чтобы в каждый курень счастье с неба сбрасывать. И мы, казаки, не шаркуны какие-нибудь. Наши предки всё как есть не речами сладкими, а саблями да пиками добывали, даже жен с туретчины самых красивых в седлах из походов прихватывали. Я это к чему тебе гутарю. Вот уедешь, и тоска лихая точить мое сердце ветхое станет. Да и тебе споначалу несладко будет разлуку с родителем переносить. В той разлуке я и крылья свои ощипанные сложу, видно. Как-никак от прожитых лет все тяжелее и тяжелее становится. Но не думай об этом, сынок мой любимый, последняя моя кровь на земле… – Сергей Андреевич поперхнулся и всхлипнул. Саша подбежал к отцу, хотел приподнять его совсем легкое тело, уложить в кровать, но старик не дался, решительно отвел руки сына.
– Ты это, того, – сказал он строго, – я ить еще в седле. И ты мне в седле помоги удержаться, а не из седла выталкивай наземь.
– Да что ты, папа, – воскликнул переполненный жалостью сын, – не хотел я тебя обидеть, в уме не держал этого… – Он встал перед ним на колени и неожиданно расплакался, понимая, что это первый такой откровенный порыв нежности, обращенной к отцу, порыв, в котором смешалось многое: щемящее чувство жалости перед расставанием, скорбная мысль о том, что, видимо, насовсем прощается он со своим престарелым родителем и нет уже никакой силы, способной продлить тому годы.
Сашины проводы были скромными. Неся в одной руке клетчатый саквояж, куда без особого труда вместилось все его имущество, свободной рукой он поддерживал медленно передвигавшегося отца. Сергей Андреевич шагал с высоко поднятой головой, напрягая все силы, чтобы иметь бравый вид. Палка с оленем на ручке цокала о тротуар. На Крещенском спуске их догнала Надежда Изучеева с белой картонной коробкой.
– Бери, Сашок. Это тебе на дорогу мама испекла пирог. А сама разболелась и прийти на вокзал не смогла.
– Это случается, – сипло согласился старый Якушев. – Мы на нее за такое не прогневаемся. Земной поклон от нас передай ей, Наденька.
Пока спускались, Александр, сдерживая улыбку, приглядывался к Наде. Она всегда была разной. Любое настроение, какое владело ею, отражалось на лице. Сейчас губы у Нади были печально поджаты, а в карих, чуть раскосых глазах угасал веселый огонек.
Вокзал встретил их разноголосым шумом. У касс толпились отъезжающие, те, которые еще нуждались в билетах. Шумная компания офицеров вышла из буфета. Багроволицые есаулы и сотники, провожая какого-то полковника, уже успели изрядно хлебнуть. А перрон был давно заполнен нарядно одетой публикой. В те времена к отходу поезда Ростов-Воронеж с вагонами прямого назначения, следующими в Москву и Санкт-Петербург, приходило много народу. Для многих церемония его прибытия и отправления превращалась в приятный праздник. На тех, кто выходил на перрон с чемоданами и саквояжами, смотрели как на необыкновенных счастливцев. Саша в их число не входил. Он привлекал внимание только двоих: Наденьки и отца. Когда звякнул колокол и дежурный по вокзалу хрипло прокричал о том, что пассажирский поезд Ростов-Воронеж прибывает на первый путь, девочка расширившимися от страха глазами взглянула на Сашу, а у отца дернулся на морщинистой старческой шее острый кадык.
Саша поднялся в вагон, занял место и возвратился к ним уже без саквояжа.
Последние минуты, как и всегда перед отправлением поезда, проходили в том уже ничего не значащем сбивчивом разговоре, когда пустые фразы отнюдь не отражают истинного состояния провожающих и отъезжающих, смятения чувств, тревоги их и тоски. У Сергея Андреевича мелко вздрагивал старательно выбритый в этот день подбородок, и он не знал, куда девать руки: то в карманы сюртука их засовывал, то поспешно вынимал, вспомнив о том, что это не весьма прилично. Александр смотрел на него и думал: «Плох отец. Совсем плох». Сашу не пугала сейчас ни дорога в далекую, неизведанную Москву, ни то, как он выдержит экзамены. Тоска, одна тоска по душному флигельку и замкнутому, редко проявлявшему свои истинные чувства отцу владела им. И он никогда бы не смог подумать, что в эти же самые минуты старик Якушев, не сводя с него глаз, думает совершенно иное, думает с гордостью: «Вот какой у меня сын! До окончания гимназии в Москву его позвали. Пособие из казны Войска Донского выделили. Нет, что бы там ни было, а не оскудеет род Якушевых. Не я, так потомки пойдут вперед и еще знаменитого своего деда достигнут в известности». Так они думали, каждый про себя, в томительные минуты перед долгой разлукой. Наденькины пальчики крепче, чем следовало, сжимали совсем недавно подаренный ей матерью веер. Звякнул три раза медный колокол, и простуженный голос дежурного выкрикнул:
– Поезд Ростов-Воронеж отходит от первого пути. Сын и отец расцеловались, а потом старик отвернулся, чтобы смахнуть непрошеную слезу. Надя подбежала к растерявшемуся Саше и, привстав на цыпочки, поцеловала его в губы.
– Вот видишь, Сашка! – воскликнула она. – Я тебя первая целую. Пиши, не забывай. Даже если великим ученым, вроде Архимеда, станешь, не забывай. И еще запомни… когда бы ты ни вернулся, я всегда тебя буду ждать. Всегда, всегда.
Часть вторая
Братья
Я прошу тебя, время, если сможешь, убавь хотя бы ненадолго скорость своего бега! Помоги мне получше увидеть и прошлое моего родного города, то, свидетелем которого был я сам, и то, о котором знаю из легенд и рассказов людей старшего поколения, видевшего Новочеркасск в дни поражений и в дни гордых побед, славой овеявших наши вольные донские степи. Я прошу тебя об этом, время, но глухо ты. Не уменьшая скорости, ты все мчишься и мчишься вперед, не обращая никакого внимания на задумавшегося седого человека, взор которого обращен в прошлое. Как бессильны мы перед тобою, время. Человек давно научился измерять скорость ветра и скорость движения облаков, скорость разбушевавшейся вулканической лавы и космического корабля. Для этого создано много умных, совершенных приборов. Но прибора, которым можно было бы измерить бег времени и повлиять на него, до сих пор нет. Вот и мчится оно, неся в пространстве свое невесомое тело, не замечая поборников старины, не желая слушать их всхлипы о безвозвратно ушедшем. Но разве можно врываться в будущее, позабыв о прошлом, не изучив достаточно глубоко гордых взлетов и горьких ошибок? Когда-то наивный мальчик с ямочками на щеках спросил своего отца, прослывшего мудрецом:
– Папа, почему все считают тебя великим?
Лишь на мгновение задумался мудрец.
– Сын мой, – прозвучал его ответ, – за свою жизнь жук преодолевает путь в сотни километров, но ни разу не оглядывается назад. Я же один раз оглянулся, и с той поры люди стали называть меня великим.
Остановись, время, и не мешай оглянуться назад!
В один из теплых майских дней тысяча девятьсот двадцать шестого года два всадника на гладких раздобревших конях подъехали к желтому семиглавому новочеркасскому собору, гордо взметнувшемуся своими куполами к небу, и остановились, отпустив повода. На обоих ладно сидела кавалерийская форма. Поправив буденовку, слишком уж насаженную набекрень, один из них легко выпрыгнул из богато инкрустированного седла на покрытую жестким булыжником площадь. Под вторым седло было попроще. На нем отсутствовали замысловатые вензеля, украшающие голубой бархат, и серебряные звездочки промеж них. В синих петлицах у обоих всадников – вишневые шпалы. Тому, кто соскочил первым, на вид было за сорок, второй казался моложе. Друг на друга они ничем не походили, если не считать комсоставской формы, нередко придающей сходство самым различным по внешности людям. Первый был шатен с широким, прорезанным морщинами лицом и косым шрамом на правой щеке от осколка. Глаза у него были синеватые и несколько холодные, так что казалось, что человеку этому вряд ли свойственна мягкость и что привык он других подчинять своей воле.
Второй – голубоглазый блондин с нежно очерченным подбородком и певучей речью, сразу выдающей в нем украинца.
День был безветренный, разогретый солнцем воздух неподвижно стоял над землей. По крутому Крещенскому спуску от городского центра к вокзалу и от вокзала вверх к центру, громыхая, проезжали грузовики, и шум их вплетался в бесконечный цокот копыт. Пролетки, экипажи, бестарки, подводы проносились по городу гораздо чаще, чем не многочисленные еще автомашины.
Наш старый Новочеркасск ревниво в него влюбленные горожане иногда называют «маленьким Парижем», подчеркивая при этом геометрически правильную – прямыми линиями – планировку улиц, площадей и кварталов, осуществленную при составлении проекта царским градостроителем де Воланом. Однако оставим в стороне всю несостоятельность этого сравнения. Париж – это Париж, а Новочеркасск – это Новочеркасск. Позабудем также все разговоры о якобы имевшей место меркантильности этого инженера в генеральском звании, тем более что время убедительно доказало: город, возникший на холме, именуемом Бирючьим Кутом, увенчанный золотыми куполами семиглавого собора, сразу снискал прочное уважение казаков, крепко полюбивших новую столицу доблестного Войска Донского.
Тому, кто хоть раз поднимался на колокольню новочеркасского собора, оттуда открывался заманчивый вид. От широкой, вымощенной твердым булыжником площади во все стороны разбегаются улицы и проспекты, разделяющие центральную часть на ровные, четкие кварталы. Прямые, как стрелы, Платовский и Ермаковский проспекты рассечены зеленеющими весной и летом аллеями. Словно воины, застывшие на своих постах, высятся над их покрытой желтым гравием поверхностью величественные пирамидальные тополя, от которых в теплое южное небо поднимаются целые облака невесомого пуха. Центр города прорезает широкая Московская улица, и трудно на ней отыскать взглядом два дома, которые были бы своей архитектурой похожи друг на друга. И в старину умели строить донские казаки, руками своими преображавшие столицу. Какими лепными карнизами и кафельными кирпичиками разного цвета были украшены фасады! С севера и юга город ограничивали желтые триумфальные арки. А какой оживленной становилась Московская улица по вечерам, когда по обоим ее тротуарам бурливым потоком двигалась принарядившаяся студенческая молодежь, рабочие парни, успевшие после смены поменять спецовку на брюки со стрелками и рубашки апаш! А как танцевали тогда в городском саду под звуки полкового оркестра!
Нет, в те бурные первые годы Советской власти никто не мог бы сказать, что Новочеркасск остался захолустным провинциальным «мертвым городом», каким он был до революции.
– Странное дело, Тарас Карпович, – сказал кавалерист, ехавший в дорогом седле, – здесь я родился, в гимназии немного учиться довелось. Потом на заработки к шахтерам подался, чтобы бедному отцу трудную жизнь облегчить и на шее у него не сидеть, гражданку прошел… а собор этот в законченном виде впервые вижу. Он более полувека строился. Два раза рушился при этом. А смотри, какого красавца и конце концов работный казачий люд сотворил! Собственными глазами читал в одной красочной церковной книге, что лучшими храмами в Российской империи считались Исаакий, Софийский собор в Киеве, а наш, новочеркасский, на третье место был определен. А?
– Поповщина, – широко зевнул Тарас Карпович. – Поповщина, дорогой Павел Сергеевич, и ничего боле.
– Искусство, – строго поправил собеседник. – Великое искусство, совершенное народом.
Блондин усмехнулся и привычным движением поправил портупею.
– Неужто ты считаешь, что зря мы пели и поем в «Интернационале»: «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой»?
– Да при чем тут боги и цари, если я о русском зодчестве говорю, о великом таланте народа нашего, комиссар!
– Стыдись, Павел! – взорвался блондин. – Кавалер двух боевых орденов, лучший рубака полка – и такие речи. Доведись до меня, я бы этот собор все-таки взорвал, – за кончил он. – И никак иначе я на него не смотрю, как на место отправления культа и религиозного одурманивания людей. А впрочем, постройка действительно занятная, – согласился вдруг он и, запрокинув голову, стал рассматривать громадное здание собора с его куполами, под которыми виднелись черные чугунные колокола.
Дух захватывало у человека, стоявшего рядом с собором и глядевшего ввысь. Так и казалось, будто позолоченные купола, осененные тонкими крестами, уходят в голубое распахнутое небо, а его самого пошатывает от этого ощущения и грудь, наполненная воздухом, туго звенит.
– Чудак ты чудаком, Тарас Карпович, если этакой красотищей восторгаться не умеешь, – усмехнулся Павел Сергеевич. – Это же великое зодчество.
– А я никаких институтов искусств не проходил, – огрызнулся блондин, – я комиссар полка, и только. На гражданской моя задача была боевой дух да ненависть к врагу у красноармейцев воспитывать, боевой порыв подымать. И точка. Кажется, это у меня получалось, командир?
– Получалось, – не сразу ответил Павел Сергеевич, – однако полагаю, что для того, чтобы теперь быть комиссаром полка, этого мало.
Тарас Карпович натянуто расхохотался:
– А что? Разве теперь красноармеец из другого теста пошел?
– Еще не пошел, но пойдет.
– Как это так, объясни.
– А так, что лет через пять-десять в армию начнут приходить совсем другие хлопцы. Они тоньше и образованнее нас с тобою будут.
– А нас куда же? – оторопел комиссар кавалерийского полка. – Нас – тебя и меня? Или это уже ничего не будет означать, как мы за власть Советов рубились, как Сиваш вброд переходили и как сам его превосходительство барон Врангель пятки от нас смазывал? Чего-то ты темнишь, командир. Мне так кажется, наше Советское Отечество по гроб жизни будет уважать таких бойцов революции, как мы с тобой.
– Будет-то будет, – разглядывая прищуренными глазами прихожан, потянувшихся редкой цепочкой к раскрывшимся резным дверям собора, согласился командир полка. – Да только знаешь, что я тебе зараз скажу, дружище? Революция в нашей преданности не сомневалась и не усомнится. Однако ответь мне на такой вопрос. Предположим, что ты три года не качался в седле и вдруг получил приказ вести боевой полк в атаку, да еще на рысях к тому же. Удержишься ты в седле или нет?
– Разумеется, нет, потому как без тренировки…
– И на посту командира полка не удержишься, если знать будешь меньше, чем парни, что в твой полк придут с гражданки после семилеток, а то и с рабфаков.
– Ну, командир, подвел базу, – рассмеялся Тарас Карпович и добродушно отступил. – Выходит, в сегодняшнем споре ты на сто процентов прав. На одних орденах боевого Красного Знамени всю жизнь не просуществуешь. Башку действительно новыми знаниями надо освежать. А то вот нынче ты упомянул, что собор новочеркасский в византийском стиле построен, а думаешь, я знаю, что такое византийский стиль? Ты мне сегодня вечером всенепременно пояснения на сей счет дай.
– Дам, Тарас, обязательно дам, – улыбнулся Павел Сергеевич.
– Ну вот. Узнаю настоящего боевого друга. А сейчас ты куда?
Командир полка усмехнулся, поправил на гимнастерке скрипучие ремни.
– Эх, Тарас, Тарас! Да разве ты забыл, что я здешний?
– Нет, помню. Меня прихватишь? – нерешительно осведомился комиссар.
Командир полка отрицательно покачал головой!
– Нет, Тарас.
– Значит, от ворот поворот? Вот с таких разногласий наверняка и начиналось расслоение первобытного общества на классы.
– Не серчай, Тарас. Наше с тобой сообщество ни один Врангель поколебать не был в состоянии. А уж теперь, когда мы власть свою утвердили, кто же может. Но сегодня ты меня извини. Мы с братом больше двадцати лет не виделись. Что с ним, какой он? Сам понимаешь, в этом случае первая встреча свидетелей не требует.
Комиссар поправил выбившийся из-под буденовки светлый чуб, сконфуженно сказал:
– Прости, не подумал. Извини за бестактность.
– Ничего, – улыбнулся Павел Сергеевич, – на утреннем построении я уже буду присутствовать. А если заночую, начальник штаба пускай его проведет.
– Значит, у тебя здесь брат? – спросил комиссар.
– Да, брат Сашка.
– Он в гражданской был у белых или у красных?
– По моим данным, ни у кого.
– То есть как это ни у кого? – озадачился комиссар.
Павел Сергеевич усмехнулся:
– А ты, Тарас Карпович, полагал, что в гражданскую весь мир людской был поделен на белых и красных?
– Естественно, – послышался твердый ответ. – Когда совершается революция, так быть и должно.
Командир полка задумался.
– А знаешь, дружище, на этот раз ты в основном и прав. Однако есть еще небольшая категория соотечественников, которые, пока мы с тобой рубились против того же Врангеля, вообще не брали в руки оружия. Ни холодного, ни горячего.
Тарас Карпович остолбенело почесал за ухом.
– Дезертиров, что ли?
– Больных, – коротко произнес командир полка. – Так вот, мой Сашка из их числа. Есть такая поганая наследственная болезнь: астма.
– Гм-м… может, эта и болезнь-то буржуйская?
– Да нет, – совсем уже развеселился командир полка и толкнул Тараса Карповича в бок. – Ладно, пока.
Он вскочил в свое роскошное седло и тронул шпорами буланого жеребца. Отъехав с квартал от соборной площади поравнявшись с первым встречным, назвал ему улицу и номер дома. Прохожий, интеллигент по обличию, несколько растерявшийся при виде кавалерийского командира с двумя боевыми орденами на гимнастерке и не сразу понявший, что от него требуется, облегченно закивал головой:
– О! Это же очень просто. Вам надо ехать по Платовскому проспекту в сторону Азовского рынка. Когда увидите на углу завод Фаслера, повернете налево и мимо психиатрической больницы – вниз. По-моему, этот дом стоит на углу Барочной и Аксайской.
Павел Сергеевич поблагодарил, а старый интеллигент, притронувшись пальцами к полям фетровой шляпы, заспешил своим путем.
Застоявшийся жеребец фыркнул, требуя, чтобы всадник дал ему возможность порезвиться, но Павел Сергеевич перевел его на шаг, и конь, недовольно цокая копытами по мостовой, стал медленно продвигаться вниз по улице. Напротив стоящего на постаменте воина с кривой казачьей саблей в руке Павел Сергеевич снова придержал коня и прочел лаконичную надпись: «Графу атаману Матвею Ивановичу Платову. Донцы». И снова зацокали копыта боевого коня, унося всадника к дому на углу Аксайской и Барочной, этих двух окраинных улиц.





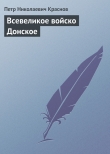


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)