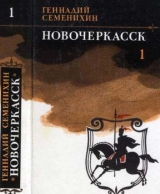
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
– Да. Приказывал, – кивнул Прокопенко, для которого эти слова Василия были солью на рану. – И ты правильно поступил, дорогой мой друг. Не исключено, что наш есаул завалился к каким-нибудь мамзелям по пьяному делу. А хозяйку его расспрашивать ни о чем не надо было. Осторожность при обороне – одно из вернейших условий. И спасибо тебе, что его исполнил. – Николай Модестович помолчал, ладонью всколыхнул вьющиеся черные волосы. «Что ему сказать? – думал он напряженно. – Что я и сам не меньше его обеспокоен исчезновением Артемия Иннокентьевича? Но это означает ввергнуть в паническое состояние, может быть, самого последнего своего помощника».
В нужные моменты Прокопенко всегда мог собраться с мыслями, подавляя в себе самое сильное отчаяние. Он похлопал Василия по плечу и обнажил в улыбке крупные белые зубы, став на мгновение похожим на батьку Махно, каким изображали того на газетных карикатурах.
– А ты знаешь, мон шер, что мне предлагают выступить на сессии нашего горсовета со своими размышлениями о деятельности нашего Осоавиахима?
– Это перед самыми главными ответработниками Новочеркасска? – ахнул Василий.
– Вот именно, – подтвердил Прокопенко.
– Ну и чародей же вы, ваше благородие. Если так, то мы еще живем и есть, стало быть, порох в пороховницах.
– Даже не в пороховницах, а в пороховом погребе.
– Умывайтесь тогда поскорее и за стол, пока бифштекс горяченький, – заторопил Василий.
Если бы верный ординарец был прозорливее, он бы удивился тому, что его начальник направился в ванную не голым по пояс, как обычно, чтобы получше поплескаться, а в неподпоясанной гимнастерке и лишь ополоснул лицо, не в силах смыть с него растерянность и даже страх.
Прокопенко вяло вытерся полотенцем, вяло позавтракал и тотчас же удалился в гостиную и сел за рояль. Давно уже не заползало к нему в душу такое подавляющее, липкое отчаяние. «Ищут. Всю агентуру свою спустили, – думал он напряженно, – а есаула все нет и нет. Значит, что-то случилось. Не мог же он просто так, ради запоя, пропасть после своих выстрелов. Значит, бродит возле стен особняка, облицованного светло-голубым кафелем, беда, и не может меня никто о ней предупредить».
Он достал ноты и укрепил их над клавиатурой. Никогда еще с такой острой печалью не играл он полонез Огинского «Прощание с родиной». Грустный, тоскующий мотив вырывался в окно, и твердо знал Прокопенко, что ни один из новочеркасских интеллигентов не пройдет сейчас мимо его дома без того, чтобы не остановиться, не заслушаться и не сказать про себя: «Ах, до чего же тонко и вдохновенно исполняет Огинского этот красный командир с тремя орденами на гимнастерке».
А Прокопенко после заключительных аккордов откинул назад голову и, закрыв на мгновение глаза, тоскливо думал: «Как великолепно польский граф Огинский, сражавшийся под знаменами Костюшко, назвал свое сочинение. А я! С какой родиной я прощаюсь? Моей родины нет, она погибла еще в семнадцатом, после штурма этой чернью Зимнего дворца. Есть города и села, где меня немедленно назовут классовым врагом, узнав подлинное имя и фамилию, потому что был я самым что ни на есть верным исполнителем приказов барона Врангеля. Это я пытал, вешал и расстреливал красноармейцев и большевиков, командовал карательными экспедициями. Но нигде нет теперь даже клочка земли, где бы меня, русского дворянина в прошлом, приняли бы как сына. Нет и не будет больше у меня той родины, что дала мне жизнь и карьеру белого офицера. Она утонула еще там, в Сиваше, сгорела навечно в огне перекопских боев, и, если я буду расстрелян в подвалах ЧК, едва ли найдется человек, который поставит крест на моей могиле. Зачем центр запретил мне бежать из Новочеркасска и согласился с планом убийства этого совдеповца Якушева? Пули Артемия Иннокентьевича навечно заставили замолчать единственного свидетеля, но не была ли то Пиррова победа?»
В кабинете зазвонил телефон, и Василий снял трубку:
– Да, он дома. Сейчас позову. Вас просят, Николай Модестович.
Прокопенко мягкими быстрыми шагами подошел к письменному столу.
– Да, это я. – И весь подобрался, услыхав на другом конце провода голос горвоенкома. Однако несколько секунд спустя тревога в его голосе сменилась спокойствием. – О чем речь, мой дорогой, – фамильярно раскатился его баритон, – о чем речь! Я, к сожалению, пока беспартийный, но любое пожелание или предложение городских руководителей для меня непреложно, как закон. А выступить перед допризывниками, этими великолепными парнями, идущими в Красную Армию, такая радость. Ведь есть и мне о чем рассказать – герою гражданской войны. Как скакали всадники и как сверкали клинки над сухой полынной землей Перекопского перешейка, если говорить образно. А как мы, по колено в воде, под пулями и бомбами с «фарманов» через ледяной Сиваш переходили! Поверьте, дорогой Петр Данилович, это будет небезынтересно для тех, кто готовится занять наше место в боевом строю. Что? В три часа дня надо обсудить план моего выступления перед допризывниками в вашем кабинете? Можете не сомневаться, буду минута в минуту. – Рука у Прокопенко была уже твердой и не вздрагивала, когда он клал трубку на рычаг. Василий стоял за его спиной с напряженным лицом человека, не утратившего страха.
– Есть новости, ваше благородие?
– Как видишь, на Шипке все спокойно, и солдата, занесенного на посту снегом, нет. Горвоенком потребовал, чтобы я завтра выступил перед эшелоном новобранцев и рассказал о том, как мы с тобой на Перекопском перешейке кровавого негодяя барона Врангеля…
– Гы… – осклабился Василий.
– Что «гы»! – передразнил его Прокопенко. – Видишь, какое доверие нам, а ты тыкаешь. Всю жизнь пытаюсь научить тебя выражать свои мысли по-человечески, да так и не научу, видимо. Почисть-ка мои ордена, чтобы блестели, как надо. Ведь и от этого, от доброй улыбки, от покорного взгляда, словом, от всего зависит теперь судьба наша сиротская. Не так ли?
– Так точно, – вздохнул его верный ординарец.
Когда Прокопенко, весь начищенный старательным Василием от каблуков сапог до сверкающих боевых орденов, тщательно выбритый и в меру надушенный дорогим французским одеколоном, вошел в приемную горвоенкома, там сидел всего один человек, молоденький помкомвзвода с кавалерийскими петлицами на гимнастерке. Он поднял стриженную под машинку голову и хмуро, на что Прокопенко не обратил никакого внимания, сказал:
– Пожалуйста. Военком вас ждет.
Прокопенко упругим шагом двинулся к двери с красной табличкой, такой знакомой по всем предыдущим визитам, но вдруг услыхал за своей спиной сухой, как выстрел, голос:
– Не туда. Вам – в правую дверь.
Прокопенко на мгновение задержался, пожал плечами, но времени на раздумье не оставалось, и он толкнул желто-медную ручку. Очевидно, эта комната выходила окнами на теневую сторону, потому что было в ней сумрачно и прохладно. Прокопенко прищурился, чтобы разглядеть находящихся в ней. Пожилая женщина в жакете и юбке черного цвета не привлекла его внимания. Мало ли каких просительниц можно было встретить у горвоенкома. Совсем недавно отшумела война, еще умирали в госпиталях бойцы и командиры, получившие раны на поле боя, не всем демобилизованным хватало крова и пособий, не все матери мирились с мыслью о разлуке с сыновьями, призванными на службу, в особенности если сын после гибели отца и старших братьев становился единственным кормильцем и поильцем. И уж такова Советская власть, что требовала она от каждого военкома самого внимательного отношения к нуждам любой семьи военного человека.
Женщина комкала в руках простенькую косынку в серых крапинках, усталые ее глаза даже не поднялись на вошедшего, а как-то печально и отрешенно продолжали смотреть в одну точку. Высокий и чуть сутуловатый Петр Данилович сидел за широким письменным столом, утверждая своим присутствием быт этой комнаты. Не отрывая глаз от какой-то бумаги, он протянул приглашенному сильную руку, кратко проговорил:
– Присаживайтесь вот на тот стул.
Лишь после этого Николай Модестович встревоженно поднял глаза на огромного человека в коверкотовой гимнастерке и двумя шпалами в петлицах, цвет и эмблемы которых были прекрасно знакомы бывшему офицеру. Прокопенко растерянно огляделся и сел. Машинально он положил руку на карман галифе, ощупывая находившийся там браунинг, без которого он никогда не выходил из дома. Положил, но тотчас же отдернул, до того яростным взглядом ожег эту руку незнакомец. И только тогда, с минутным опозданием, сверкнула в памяти Николая Модестовича страшная догадка: «Господи! Да ведь я уже видел его, и тоже в кабинете горвоенкома. Он вошел позднее меня и представился слесарем, вызванным по повестке. Значит, это был маскарад!»
Руку на пистолете было держать уже бесполезно. Тугой комок подкатывал к горлу. Потирая белые холеные ладони, Прокопенко как можно спокойнее вымолвил:
– Так я уже все продумал и готов выступить перед нашей молодой сменой. Полагаю, для допризывников это будет и поучительно, и достаточно интересно. – Он поднял глаза на незнакомца, как бы к нему обращаясь. – К сожалению, по велению вечных законов жизнь торопит и гонит годы. Кажется, лишь вчера мы были молодыми, бушующими от притока сил, а сегодня уже старость тронула нас и сединой, и сердечными болями, и ревматизмом. Так что нет ничего необычного в том, что новая поросль героев сменяет старую. Диалектика!
Незнакомец строго сдвинул лохматые брови, а горвоенком молча, с хрустом сжал пальцы.
– Прокопенко, – проговорил он тихо и как-то очень спокойно, – вы когда-то весьма трогательно повествовали мне о своей жене. Скажите, вам с тех пор ничего не удалось узнать о ней?
Николай Модестович с отрешенным видом опустил голову:
– Увы. Решительно ничего, Петр Данилович. Это такая драма, такая драма. Ведь я лишился навек самого близкого человека. Маша – единственная родная душа на всем земном шаре. Никто меня так не понимал и не любил. Она, вероятно, погибла в огне военных лет. Сколько нежности, кротости и благородства было в ней! Иногда среди ночи я просыпаюсь в своем мрачном одиночестве, и мне мерещится запах ее волос, я вижу поляну среди леса, на которой мы расстались. О, как становится тяжко при мысли, что больше никогда не встречу ее на своем пути…
Плечистый высокий человек нетерпеливо кашлянул и перебил его исповедь одним коротким вопросом:
– Лирику в сторону, Прокопенко. Не тот случай и не те слушатели. Скажите, женщина, сидящая напротив вас, ваша жена или нет?
Прокопенко рывком поднял голову. Тоска и отчаяние отразились в его затравленном взгляде. Он пристально вгляделся в худое, скованное мукой лицо сидевшей напротив бедно одетой женщины, поднял руки, будто защищаясь от призрака, и отчаянно выкрикнул:
– Нет! Это фальсификация! Это совсем не Маша!..
– Та-ак, – протянул чекист. – Прошу и вас, Мария Васильевна, ответить на вопрос. Этот человек был когда-либо вашим мужем?
– Никогда, – с гневом произнесла женщина. – Он ничем не похож на моего Колю. Коля был человеком, а этот… – И, не выдержав, горько расплакалась.
– Ясно, – сурово заключил чекист и позвонил в колокольчик.
Распахнулась дверь, и два конвоира, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, шагнули к бывшему офицеру. В сознании у Прокопенко мелькнула обжигающая мысль: «Бежать! Любой ценою бежать… Может быть, остался один шанс из тысячи». Он шевельнулся, чтобы запустить руку в карман, но тотчас же могучий бас наполнил комнату:
– А ну, не баловать! Кому говорю! Оружие на стол!
Конвоиры с двух сторон приставили штыки к груди задержанного, и Прокопенко понял: сопротивление бесполезно. На какое-то мгновение ему показалось, что пол под ним разверзся и он летит в глубокую, беспросветную от черного мрака пропасть, не в силах задержать падения. В ушах звенело, и, обращенный к конвоирам, суровый голос чекиста не сразу дошел до сознания.
– Отведите в соседнюю комнату, дайте чернила, ручку и бумагу. Пусть он напишет автобиографию, укажет, где и при каких обстоятельствах присвоил себе фамилию героического красного командира батареи Прокопенко и в каких целях организовал убийство командира кавалерийского полка Павла Сергеевича Якушева. Все.
Чекист замолчал, а бывшему офицеру врангелевской контрразведки показалось, что он наконец-таки долетел до самого дна черной пропасти и грудью напоролся на острые скалы. Напоролся так, что уже никогда не сможет больше подняться на ноги.
Часть третья
Окраина
Более чем сто шестьдесят лет спустя после событий, вписанных в историю солдатами Кутузова, казаками атамана Платова, громившими Наполеона, ранним июльским утром в вагоне парижского метрополитена ехал ничем особенным не выделявшийся среди пассажиров его возраста человек в светло-сером костюме. День стоял жаркий, и солнце уже успело опалить ему залысины, покрыв их розовым цветом. В кармане у этого человека лежал паспорт в красной обложке с золоченым гербом на имя советского писателя Вениамина Александровича Якушева. На одной из станций пассажир вышел из вагона и, расставшись с прохладой тоннеля, поднялся наверх.
Зной разгоревшегося летнего дня и разноязычный говор людей, прибывающих с разных концов мира на экскурсии в этот район французской столицы, буквально оглушили его. Пестрота одеяний туристов, их улыбки и жесты утверждали то доброе, почти веселое настроение, которое охватывало в это утро гостей Парижа. Стараясь как можно дольше не приводить в действие свой ограниченный запас французских слов, Вениамин Якушев, ни у кого ни о чем не спрашивая, протискиваясь через толпу, стал подниматься вверх по крутой торговой улочке, мимо многочисленных лавочек и маленьких магазинчиков, где шла бойкая распродажа товаров по сниженным ценам. Витрины, на которых красной чертой были перекрещены цены вчерашнего дня и подчеркнуты более низкие сегодняшнего, его нисколько не интересовали, а жажда начинала мучить. И на углу двух узеньких, разбегающихся ручейками в разные стороны улочек, у входа в битком набитый кабачок, на входной двери которого была изображена аппетитно пенящаяся кружка светлого пива, писатель остановился и, подумав, переступил порог. Опустошив большой бокал, он коротко спросил у веселого розовощекого бармена, старательно вытиравшего со лба пот, далеко ли до знаменитого холма Монмартр, с которого обозревается Париж, и где находится историческое «бистро».
– Монмартр там, – указал шумный бармен на холм, к которому по ступенькам каменных лестниц устремлялись толпы туристов, а по рельсам поднимались вагончики фуникулера. – Что же касается «бистро», то самое лучшее «бистро» Парижа здесь, – и он гордо ткнул пальцем в пол своего кабачка. – Или вам не понравилось мое пиво?
– О! Мсье! Зачем же заниматься самоуничижением? Ваше пиво великолепно. Но я ищу прежде всего не пиво, а самое первое «бистро» Парижа, – возразил Якушев, которому уже не хватало слов для беседы на французском языке, и прибавил отрывисто: – Первое «бистро» – это Наполеон… Кутузов… атаман Платов… русские казаки… понимаете?
– О-ля-ля! – вскричал бармен. – Бистро «Русский казак».
С этими словами он вывел посетителя на улицу и, показав на вершину холма, стал бойко пояснять, по нескольку раз повторяя наиболее важное. Из всей его пространной речи Якушев уяснил, что надо подняться наверх, миновать площадь, на которой парижские художники торгуют своими картинами, и потом свернуть влево.
Площадь эта давно уже стала обителью художников как известных, заглядывающих сюда не столь часто, так и тех, о ком говорят: «без роду и племени». Несмотря на ранний час, она кишела людьми. Веселая разноголосица обрушилась на Вениамина. Якушева, и он стал с интересом наблюдать за происходящим.
На Монмартре художники занимались не только сбытом своих произведений, споря с покупателями или заказчиками портретов, на которых живописцы увековечили их тут же за сто пятьдесят – двести франков, порою ведя ожесточенные торги. Сюда приходили и подлинные мастера в своей извечной надежде разыскать молодые дарования, обнадежить их и окрылить.
Якушев вспомнил, что когда-то давно кто-то ему говорил, будто бы на этой площади собираются только нищие, потерявшие цель в жизни художники, безработные. И самые неудачливые из них прямо с этого холма бросаются в Сену головой вниз. Он усмехнулся, подумав о том, что с холма Монмартр при всем желании головой вниз в Сену не бросишься: Сена отсюда далеко. К нему подошла девушка лет двадцати двух в черном шерстяном платье с длинными рукавами, слегка измазанными краской. Пышущее здоровьем привлекательное лицо с веселыми серыми глазами, улыбка ненакрашенных губ.
– Я вам отлично сделаю портрет углем. Сто девяносто франков. Посмотрите, у меня какие портреты получаются.
Девушка явно не была похожа на тех особ, которые замыслили бросаться головой вниз в Сену. При этой мысли Якушев рассмеялся.
– О! Зачем так, – оскорбилась девушка, – не надо смеяться, я профессионалка.
Якушев вздохнул, подумав о том, что всех денег, выделенных на его короткое пребывание в столице Франции, едва-едва хватит на такой портрет, и поспешил ретироваться.
И все-таки замерло сердце, нарушилось дыхание, когда увидел он желто-коричневый фасад с мемориальной, поблекшей от времени дощечкой. Среди своих соседей домик этот был старенький и незатейливый. Два этажа и мансарда. Несколько столиков на улице для любителей пить пиво под открытым небом. Якушев приблизился и прочел: «Монмартр. Ресторан „Мамаша Катрин“. Обеды под музыку. Террасы на площади. Театр и сад».
И ниже – те строки, ради которых приехал он сюда. Строки, сразу заполнившие все его сердце: «30 марта 1814 года казаки впервые употребили здесь свое знаменитое „быстро“, и на этом месте возник достойный предок наших „бистро“».
Стоя у входа в самое первое парижское «бистро», Вениамин Якушев думал о том, как его прадед Андрей Якушев в предпоследний день марта 1814 года ворвался сюда со своими однополчанами почти на рассвете, хорошо понимая, что это один из самых последних дней войны с бонапартовским отборным войском, войны победной и уже по-настоящему завершенной. Зима в тот год была достаточно суровой, вьюжливый снег срывался с неба даже в самые последние дни марта. Вероятно, Андрей Якушев со своими однополчанами изрядно перед этим намерзся и наголодался, занимая этот холм. Может быть, они даже стучали прикладами ружей и задубленными от ветра и метели кулаками в эту дверь, рядом с которой прибита теперь к стене мемориальная доска, когда растерявшийся хозяин кабачка, еще сонный и плохо осмысливающий действительность, дрожал при виде русских казаков, о которых рассказывали были и небылицы. А они хриплыми голосами требовали вина и водки, чтобы обогреться после долгого и трудного победного марша, и приговаривали при этом повелительно:
– Быстро, быстро!
Жаркое вино растекалось по жилам, грея тело и душу, делая более оживленной и быстрой речь.
– Слышь, Андрей! – кричал Якушеву кто-то из казаков, – а за своего деда Аникина ты осушил бокал аль не? Помянем его, героя!..
Отходчиво русское сердце. После первого стакана казаки становились добрее, глаза их наполнялись мягким светом. После второго речь текла быстрее и громче, после третьего они, уже всхлипывая, поминали всех тех, кто не дошел до Парижа и в смутной тоске по родине пал на заснеженных полях Восточной Пруссии или Литвы и Польши, в сражениях с Наполеоном. А после четвертого некоторые даже рыдали при упоминании имен и фамилий тех, кому не суждено было увидеть ни Монмартра, ни Булонского леса, ни Елисейских полей.
– Эх, а какой у нас был командир майор Денисов, царство ему небесное…
– А мой Лука Андреевич Аникин заместо отца родного нам с Любашей был…
– А Дениска Чеботарев, отваги полный казак, что ни перед богом, ни перед чертом во фрунт никогда не становился!..
Пятый стакан хозяин, убедившийся, что незваные ночные пришельцы не собираются чинить никакого зла, пил уже с ними вместе, а осушив, кричал своей напуганной жене:
– Побыстрей поворачивайся, старая, кати новый бочонок!
И, подражая казакам, выкрикивал:
– Не видишь, у ребят глотки пересохли! Бистро, бистро, старая! Бог с ним, с Наполеоном. Он, конечно, великий человек, но ты посмотри, какие это прекрасные парни с русского Дона.
И, разгадав смысл этих слов, бия себя в грудь кулаком, простуженным голосом перебивал его Андрей Якушев:
– Ты хороший детина, Пьер, да только пойми: разве бы мы притащились сюда с тихого Дона? Нам и там не скучно жилось. И твой Наполеон пусть бы жил да поживал. Нам тьфу на него, и только! Но ведь он же нашу Москву сжег, злыдень… Вот мы и оседлали коней, взялись за сабли да пушчонки – и сюда. И дошли, как видишь! И получилось это потому, что донскому казаку, как наш батюшка Матвей Иваныч Платов сказывает, и окиян но колено, и сам черт не страшен. А ты, Пьер, не боись. Мы не башибузуки какие, чтобы мирное население обижать. Да нам бы за такое дело Матвей Иваныч Платов такую ижицу прописал!.. А теперь распорядись еще по одному стаканчику, любезный, а то мои казаки уже отходить ко сну начинают.
И снова кричал в темную спальню хозяин:
– Веселее, старая. Бистро, бистро!
С тех пор и укоренилось это словечко. И десятки небольших кабачков в разных концах Парижа, в основном на его окраинных улицах, по которым редко когда проезжала карета аристократа, были переименованы в «бистро». А на первом из них появилась вывеска с объяснением этого названия.
…Якушев стоит на самой вершине Монмартра, откуда хорошо обозревается далеко-далеко простирающийся Париж. В мареве теплого и ясного летнего дня, в отблесках солнца взору предстают многоэтажные дома-великаны самой новейшей постройки, проспекты и площади, заводские трубы, исторгающие дым. Где-то далеко от храма, когда-то построенного на Монмартре, синяя черта земли смыкается с такой же синей чертой неба. Вениамин Александрович смотрит на эту загадочную, чуть колеблющуюся зыбкую черту, и ему кажется, что именно оттуда входили в Париж полки донского атамана Платова в предпоследний день марта 1814 года, и как дыбились под всадниками донские кони после трудного последнего перехода. И ему будто бы даже слышится в шуме большого города звон копыт белого скакуна, так похожего на Зяблика, на котором въехал в столицу наполеоновской Франции его знаменитый дед, беглый холоп Андрей Якушев.
После гибели брата осторожный Александр Сергеевич запретил своим сыновьям несколько дней выходить на улицу и рассказывать что-либо о нем посторонним. Тому было несколько причин. Прежде всего, он боялся мести со стороны затаившихся и еще не полностью выловленных в Новочеркасске белобандитов. Во-вторых, и ему, и Надежде Яковлевне было бы очень тяжело отвечать на бесчисленные расспросы соседей по кварталу.
Здесь мы должны сделать небольшое отступление в прошлое семьи Якушевых и, заранее извинившись перед читателем, начать его с одного события, состоявшегося на Аксайской улице еще задолго до появления в Новочеркасске Павла Сергеевича.
Был пасмурный день. Над окраиной висело низкое, дождем набухшее небо.
Трое – две женщины и мужчина – долго рассматривали коричневый, обшитый досками дом на углу Барочной и Аксайской. Низкие мартовские облака проносились над износившимися, порыжевшими от старой краски листами кровельного железа крыши и задымленной трубой. Худая, совсем еще молодая женщина в траурно-черном строгом костюме, со следами тоски и горя на слегка припудренном лице тихо и бесстрастно поясняла:
– Как видите, дом и двор находятся в довольно приличном состоянии, и та сумма, которую я за это прошу…
Мужчина средних лет с нездоровым цветом несколько одутловатого лица снял с большой облысевшей головы, покрывшейся мелкими капельками пота, фуражку с кокардой землемера и, пожевав губами, упрямо произнес:
– Но позвольте, уважаемая Нина Александровна, с вами не во всем согласиться. Я полагаю, что состояние земельного участка далеко не идеальное и вы могли бы…
Женщина посмотрела на него синими укоряющими глазами и горько вздохнула.
– Многоуважаемый Александр Сергеевич, вы же знаете, при каких драматических обстоятельствах продаю я свой дом. Здесь я выросла, обрела свое счастье, а потом… отец и мой муж, капитан Семенченков, не возвратились с кровавых полей русско-японской войны. А мама… вы же знаете, что произошло с моей несчастной мамой. После этого я охвачена единственным желанием как можно скорее покинуть Новочеркасск, которое, вероятно, испытывали бы и вы, если бы, не дай бог, очутились в моем положении. И сумма, которую я назначила за распродажу, так мала! – Она достала пахнущий духами платочек и вытерла слезы. Другая женщина, с темными глазами и челкой на смуглом лбу, подошла к землемеру и решительно дернула его за локоть:
– Саша, как тебе не стыдно так долго торговаться, неужели ты не видишь, как Нине Александровне трудно!
– Да я что, – сбивчиво заговорил землемер, – я ничего… я, собственно говоря, ничего. – И, сняв пенсне, стал протирать стекла.
– Мы согласны, Нина Александровна.
У женщины потеплели глаза, и она ответила благодарным кивком:
– Вот и спасибо, милые. – Помедлила и, словно не сразу на то решившись, прибавила: – И еще одна просьба. Если можете, не томите, пожалуйста. Давайте поскорее все оформим, чтобы я могла уехать в Харьков. Тяжко переступать порог дома, где убили маму. – Она не заплакала, лишь прикусила красивые, чуть изогнутые губы.
– О чем речь, Нина Александровна! – вскричал вдруг заулыбавшийся Александр Сергеевич. – Давайте завтра же утром пойдем к нотариусу.
Дня через три после этого Надежда Яковлевна держала в руках копию акта нотариальной конторы, в котором черным по белому было написано:
«Мы, нижеподписавшиеся, студентка Нина Александровна Семенченкова, действуя лично за себя и по доверенности сестры своей, Зои Александровны, и занимающаяся домашним хозяйством Н. Я. Якушева, заключили настоящий акт в следующем:
1. Из нас я, Нина Александровна Семенченкова, продала Н. Я. Якушевой за одну тысячу рублей, полученные от нея полностью, принадлежащие мне и сестре моей строения: двухэтажный, смешанной постройки дом, деревянную летнюю кухню и деревянный сарай со всеми в них устройствами и приспособлениями, находящиеся в городе Новочеркасске в квартале втором на углу Аксайской и Барочной улиц с дворовой площадью 286,011 квадратных сажени.
Все расходы по совершению данного акта покупница оплачивает за свой счет. Первую выпись, оплаченную гербовым сбором в размере 32 рублей, надлежит сделать покупнице Н. Я. Якушевой, каковая под страхом недействительности должна быть представлена в отдел местного хозяйства Черкасского РИКа для регистрации».
На документ были наклеены две марки достоинством в два рубля каждая (на них был изображен веселый, бородатый и довольно упитанный для тех лет сеятель в шляпе с широкими полями, такой не характерной для крестьянина тогдашних времен). Надежда Яковлевна помяла в пальцах плотный гербовый лист, и на ее щеках заиграли веселые ямочки.
– Ой, Саша! – засмеялась она. – Представляешь, я теперь домовладелица! Теперь, в советское время, когда повсюду борются с частной собственностью!
Александр Сергеевич, не разделяя ее радости, мрачно заметил:
– Подожди расцветать в улыбках, Надюша. Нас и в лишенцы еще могут за это самое определить.
– Ну вот еще, пошел теперь со своими страхами, – прервала она. – И всегда ты сам пустяка пугаешься, и других пугаешь. А я, между прочим, забыла тебе еще про одно обстоятельство напомнить. У нас не только собственный дом с подворьем завелся, но и батраков теперь двое.
– Каких еще батраков? – спросил после долгой паузы не всегда находчивый Александр Сергеевич.
– Наняла.
– Шутишь, – пробормотал он, вытирая с побагровевшей лысины капельки пота. – И на какое время?
– На всю жизнь.
– И за какую цену?
– Да бесплатно, чудак.
– Каких же таких батраков можно было нанять в нашо время, да еще бесплатно и пожизненно?
– Да Веньку и Гришу. Что? Напугала?
– Наденька! – воскликнул муж и, растопырив руки, пошел на нее. Однако супруга ускользнула и побежала вокруг стола, весело воскликнув:
– А ты догони! Просто так не подойдешь.
Александр Сергеевич сделал несколько быстрых движений, но сразу же закашлялся и тяжело опустился на стул. Приступ астмы навалился на него со страшной силой. Широкая грудь его застонала, как кузнечный мех, губы посинели.
– Боже мой, как же я тебя замучил, милая! Видно, вдовствовать тебе скоро…
Надежда Яковлевна приблизилась к нему, со щек исчезли беззаботные ямочки, глаза потемнели.
– Перестань, – строго оборвала она. – Чтобы я никогда больше таких слов от тебя не слышала! Ты у меня самый умный, самый любимый. – Она наклонилась и обняла его левой рукой за шею. Александр Сергеевич долго целовал эту теплую руку, и, странное дело, приступ внезапно прекратился.
– Вот видишь, Саша, никогда не надо раскисать, – нравоучительно заметила жена. – Тебе не так еще много лет. А ты часто без всякого повода терзаешься мрачными мыслями. Ты еще меня переживешь, вот увидишь.
– Ну, хватит, – прервал ее Александр Сергеевич. – Посмотри лучше на себя в зеркало.
– А что? – Надежда Яковлевна приблизилась к комоду, на котором стояло зеркало. Вглядевшись в свое отражение, весело воскликнула: – А что? Действительно кровь с молоком. Не ожидала. Впрочем, ладно. Давай лучше обойдем подворье нашего домовладения и убедимся, достаточно ли исправно работают наши батраки Гриша и Веня.
«Батраки» сидели возле чугунного чана, наполненного дождевой водой, и сооружали крепость из песка. Уже были возведены угловые башни и близились к завершению крепостные валы. Григорий командовал, Венька повиновался.
– Я на каждую башню солдатиков оловянных понаставлю, чтобы они дозорными были, – говорил старший брат.
– Дай мне одного, – ныл Венька. – Ну дай! Я его тоже хочу в песок воткнуть.
– Ладно, бери, – милостиво согласился Григорий, и облезлый оловянный солдатик оказался в кулачке у меньшого.
– Смотри-ка, Надюша, – сказал неожиданно Александр Сергеевич, флегматично смотревший из-за ее плеча на своих сыновей, – а ведь у Гришеньки большое пристрастие к баталиям обнаруживается. Ей-ей, военным станет.
– Как атаман Платов, – не поднимая головы, пропыхтел Гришутка.
– Лишь бы не как Козьма Крючков, – заметила Надежда Яковлевна.
– А кто это, мама? – осведомился Гришутка.
– Был такой казак Крючков, – мягко ответила она. – На германском фронте про него даже стишки сочинили.
Александр Сергеевич, перебив жену, весело продекламировал:
Храбрый наш казак Крючков
Бьет без промаха врагов.
Много ль, мало ль, не считает,
Всех на пику их сажает.
– Он их, как комариков и тараканов? – захохотал Венька.





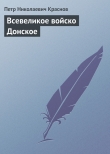


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)