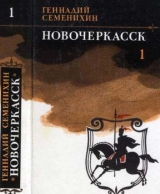
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
– Ну говори, говори, – поторапливал он Любашу. – Ага, молчишь… вот видишь, задумалась. Значит, я прав.
– Я люблю его, Григорий Афанасьевич, – повторила Любаша, и глаза у нее стали кроткими-кроткими. – Сильно люблю, навечно.
– Зачем же вы нас обижаете, барин? – мрачно вступил в разговор Андрейка. – Мы же тоже люди.
– А ты помолчи, – резко осадил его барин. И разговор захлебнулся. Веретенников постоял перед Любашей, затем снова сел в кресло и громко забарабанил по столу пальцами в кольцах и перстнях. – Так, так, – пробормотал он. – Следовательно, пришли просить моего согласия?
– Пришли, барин, – ответили оба в один голос, не вставая с колен.
– Ну хорошо, – остывая, произнес Веретенников, – допустим, я разрешу. Но ты представляешь, Любаша, что может произойти? А вдруг его осенью забреют в рекруты, что тогда? Сразу станешь соломенной вдовой. Нет, давайте осени лучше дождемся.
Они ушли из барского дома угрюмые и подавленные. А Веретенников, несмотря на принятую им большую дозу спиртного, улегся спать совершенно трезвым. Он долго метался на широкой своей двуспальной кровати под атласным одеялом, с холодной яростью про себя думал: «Ну что такое, в сущности, сорок восемь лет, если ты здоров и жилист? Разве это уж такая безнадежная старость, закат всем желаниям и порывам? Пусть грех, пусть у всех на глазах, но разве я, вдовец, не вправе обласкать эту чудесную крепостную девчонку? Ведь каждая крепостная душой и телом принадлежит мне. И телом, – повторил он про себя и с ненавистью подумал о парне, воле которого покорна так похорошевшая Любаша. – Нет, не достанется она этому мужику, – твердо решил Веретенников. – При первой же оказии велю в солдаты его забрить».
На другой день вечером к нему завернул помещик Столбов и привез с собой какого-то изрядно потрепанного господина с рыжей запущенной бородой, в лоснящемся фраке и черном цилиндре.
– Мон шер Григорий, имею честь представить. Мой кузен литератор Слезкин Арсений Иванович из Санкт-Петербурга. Что за способность всматриваться в пласты нашей жизни, видеть романтику и благородство нашего русского дворянства, что за полет мысли! Не сомневаюсь, он тебя очарует, мон шер. Его нашумевшие фельетоны печатались в «Ведомостях», и публика была в восторге. Правда, мой кузен в настоящее время находится в весьма стесненных денежных обстоятельствах, но…
– В долг я денег не дам, – бесцеремонно перебил Веретенников.
Столбов забегал вокруг стола – у него сначала двигался выпуклый животик, за ним он сам – и запричитал:
– О нет, о нет, что ты, мон шер! Ни о какой субсидии и речи не идет. Я просто имел счастье доставить тебе удовольствие знакомством с нашим столичным литератором. Мы так рады побывать у тебя!
– Тогда садитесь за стол, и будем водку трескать, – еще грубее предложил Веретенников, которому до смерти не хотелось видеть их обоих. Он неохотно взял, со стола колокольчик и, когда в дверях появился пожилой и вечно сонный камердинер Яков, коротко заявил:
– Ты что-то очень плохо сегодня выглядишь, Яков. Иди домой, голубчик, мы с гостями одни останемся.
– Слушаюсь, барин, – поклонился слуга, – осмелюсь спросить, кто же тогда будет подавать вам кушанья?
– Отдохни, – повторил Веретенников, – а подаст нам ужин пускай та молодая девка, что посуду моет на кухне. Как там ее зовут? – И он прищелкнул пальцами, сделав вид, что забыл. – Любкой, что ли?
– Точно так, – грустно подтвердил старый слуга, не однажды бывавший свидетелем барских забав с крепостными девушками. – Не извольте беспокоиться, все будет исполнено. Ее как? Принарядить прикажете?
– Ступай, ступай, Яков, – ответил Веретенников, – пусть как она есть, так и выходит к нам. Кушанья подаст и будет свободна.
Когда испуганная и даже побледневшая от столь неожиданного приглашения в барские покои Любаша появилась в гостиной, гости остолбенели. Едва успела она выйти на кухню за бутылками и закусками, как Столбов, воздев к потолку руки, воскликнул сладеньким голоском:
– О, мои шер Григорий, я вижу, вам не изменяет хороший вкус! Какие изящные движения, какие ножки! А ты обратил внимание, друг мой Слезкин, на ее тонкое, бледное лицо? Она словно с полотна бессмертного Рафаэля сошла. Не так ли?
– О да, – мрачно подтвердил гость из Питера. – Эта девушка способна поспорить с самой Венерой.
– У тебя уже с ней амуры, мон шер Григорий? О! Мы лишь можем тебе позавидовать.
Любаша носилась то вниз, на кухню, то назад, в гостиную, где затевалось пиршество, то в кладовую, и у нее тяжелели ноги от страха и ощущения надвигающейся беды. Она бледнела, слушая их откровенно циничные восклицания, понимая, что трое бесцеремонно стараются рассмотреть ее всю, как красивую скаковую лошадь на торгах. Однако испуг оказался напрасным. К полуночи барин был смертельно пьян и еле-еле держался в кресле.
– Мон шер Григорий, – верещал Столбов, – мы никуда не хотим уезжать в эту темную ветреную ночь. Не ровен час, в Змеином буераке нас, твоих верных и преданных друзей, настигнут разбойники и всех до единого изничтожат.
Пьяно икнув, Веретенников пробормотал:
– В моем имении нет разбойников, я их всех пересек. Я их каждый день секу. А вы… вы можете оставаться, черт с вами. Мы еще утром по лафитничку мадеры саданем. Только девку… девку мне эту самую позовите.
– Я здесь, барин, – упавшим голосом проговорила Любаша.
– Ах, это ты, – ухмыльнулся Веретенников, в глазах у которого Любаша уже двоилась, расплываясь в бесформенное розовое облако. – А почему так тихо говоришь? Ты уходи. Уходи, чтоб я тебя сегодня не видел. И ни одному из этих господ не позволяй себя провожать.
– Слушаюсь, барин.
Любаша белой тенью выскочила из барского особняка и за полночь постучалась в крайнее окошко белого флигелька, в тесную каморку, где обитали старый конюх Пантелей и Андрейка. Он будто почувствовал, тотчас же прилип лицом к холодному стеклу, кивнул головой, и это означало: сейчас выйду.
…В заброшенной беседке у пруда было тихо и глухо. Прижав к себе напуганную Любашу, Андрейка гневными глазами глядел в темень. А она шептала, не в силах успокоиться:
– Это было так страшно, Андрейка. Я одна, а их трое пьяных на весь пустой дом.
– Но он же ведь к тебе не приставал? – затаив дыхание, тяжело спросил парень.
– Нет, – отрицательно покачала головой Любаша, – только глаз все время с меня не спускал. И взгляд у него все время был тяжелый-тяжелый, словно о чем-то думает, а ответа найти не может на мысли свои подлые. Как было страшно, Андрейка! А если он меня второй раз в позднюю ночь к себе призовет? Тогда что, Андрейка? Ведь он же, зверь ненасытный, скольким девушкам жизнь испортил. Клаша Журавлева четыре года назад, бают, в пруде из-за него утопилась.
– Не бойся, Любашенька, – зашептал ей в самое ухо парень. – Если сызнова позовет, без меня не вздумай ходить. Я тайком за тобой тогда пойду и буду рядом где-нибудь под деревьями стоять. Ты у меня одна, и я ни за что тебя не отдам этому извергу на поругание. Можешь не сомневаться, любимая.
Они разошлись, а на самой зорьке его разбудил дед Пантелей, покашливая, спросил:
– Что там у тебя случилось? Куда вчера ночью бегал?
Андрейка рассказал ему все, что было известно от Любаши.
– Да-а, – запуская корявую руку в нерасчесанную бороду, промолвил дед Пантелей. – Плохо твое дело, парень. Наш барин человек какой? Уж если он прилип, ни за что не отступится. Тем более девка твоя, как на беду, ему приглянулась. Не оставит ее он в покое. Если б ты знал, скольких он девок перепортил, почитай, на моих глазах. Уж до чего подлая у него натура! Если понравилась какая, к себе норовит расположить, кушанья по ночам велит подавать, покои свои убирать. Смолчит, покорится – все шито-крыто. Наиграется досыта, как кот по весне, потом и замуж за какого-нибудь мужика силком выдаст. А с той, которая перечить надумает, жестоко обойдется. Ух как жестоко! Если увидит, что не льнет к нему, а еще хуже – отбиваться задумает, велит экономке в один из вечеров принарядить. А та, стерва, это понятие ой как хорошо усвоила. Это знаешь, мой милый, что такое обозначает слово «принарядить»?
– Что? – шепотом спросил Андрейка.
– А то, что девку облачают в самое легкое, прозрачное платье, в каких одни только графини на балы хаживают. Что спереди, что сзади, почитай, сплошное бесстыдство. Только фаты не выдают да к попу под венец не ведут. Все гораздо проще бывает. Когда бьет полночь, барин приказывает девке подать стакан кофию. Но не в гостиную, где завсегда ужинают, а прямиком в спальню, в постель, стало быть. Делает вид, змей-горыныч, что без этого подлого стакана кофию заснуть не может. На весь дом об эту пору нет ни души, и сам понимаешь, чем все кончается.
– С Любашей он такого не сделает! – криком перебил его Андрейка. – Не посмеет!
– И-эх, – вздохнул старый Пантелей и жалостливо перекрестил утонувший в бороде, поблекший свой рот. – И не такие, как ты, роптали, да толку что. Одним и тем же кончалось.
Андрейка опустил голову и горестно вздохнул, понимая свою полную обреченность, а дед Пантелей суровым бесстрастным голосом продолжал:
– Тех парней, которые супротивничали, он так свирепо ломал: кого на солдатчину без времени и сроку отсылал, кого плетьми до чахотки доводил. Одно слово – ирод.
– Дедушка Пантелей, научи, как быть? – в последней надежде воскликнул Андрейка. – Может, есть где-нибудь край, куда сбежать от нашего изверга можно? Где свободу человек приобрести способен? Неужели у господа бога для таких, как мы, ни свободы, ни правды не заготовлено и вся земля так устроена, что нет на ней спасения? Как же так, дедушка Пантелей? Жить и не надеяться на лучшее?
– Эвон, – горестно усмехнулся старый конюх. – В сказках все это, сынок. В сказках да еще в священном писании, а не у нас в Зарубино.
– Да почему же так? – едва ли не застонал Андрейка. – Ты, дедушка Пантелей, много пожил, тебе расставаться с белым светом, возможно, вскорости. Так ты об скажи тогда, для чего, допустим, я на свет народился. Зачем моя покойная мать в муках меня рожала? Чтобы с утра и до ночи год за годом я на барина Веретенникова спину гнул и обиды от него терпел одна другой лютее? И чтобы любовь мою единственную он мог растоптать играючи, и в душу светлую Любашину грязно наплевать только за то, что она крепостная? Я вот иногда в степь широкую выйду нашу российскую, и все поет во мне от радости небывалой. А как вспомню, кто я такой и что на долю мою несчастливую выпало, так и враз свет божий меркнет. И выходит, что я похуже раба самого распоследнего. Солнце не для меня, а для барина Веретенникова, земля – для барина Веретенникова, леса, пашни, луга – тоже для него, ненавистного. И даже Любаша, даже Любаша – единственная моя надежда, единственный светлый луч в жизни!
Он вдруг заплакал отчаянно и глухо.
– Ты это, того, – сердито остановил его бородатый Пантелей, – не больно-то раскисай. Мужик ты аль барышня что ни на есть кисейная? Мужик завсегда терпеть должен и на царство небесное рассчитывать.
Андрейка рывком поднял голову. Глаза у него были сухие, темные, будто в каждом из них только-только отгорело по одному костру и остался лишь пепел. В обмазанное глиной окно весело лез рассвет, солнце уже золотило подоконник, и даже крытые соломой избы зарубинских мужиков не казались убогими.
– А я плевал! – яростно крикнул он. – Плевал я на царство небесное, какое мне в деревянной нашей церкви красноносый поп Агафон сулит, и на всех апостолов плевал! Я на земле хочу жить свободно! – Он вздохнул и продолжал уже гораздо тише: – Эх, дедушка Пантелей, ты добрый. Ты меня никому не выдашь. Вот и душу поэтому всегда раскрыть тебе можно, про все беды обсказать, как отцу родному. Думка меня часто посещает: а вот взять бы и написать обо всем этом царю. Ведь должен же он видеть правду. Может, если бы узнал про то, как мучит нас барин Веретенников, как шкуру с каждого норовит снять живьем, голодом и муками заморить… может, и вышла бы тогда какая острастка Веретенникову, а нам послабление. И под стражу, может, его тогда взяли бы.
В грустных, потухших глазах Пантелея отразилась острая тоска.
– Вот ты куда загнул, парень. Эге, горячая голова. А ну-ка, тпру и выпрягай лошадей. Да куда же ты напишешь, мил человек? Да ведь ни одно твое письмо до царя не дойдет, а будет в волости или в губернии вскрыто. Вернут его верные люди в белые руки самого Григория Афанасьевича да еще скажут с укором: «Больно вы распустили своих подлых мужиков, господин Веретенников. Пошто бунтовать им разрешаете? А ну-ка, всыпьте негодному холопу своему Якушеву Андрюшке как можно больше плетей, дабы он знал, как жаловаться на своего помещика-кормильца». Вот тебе и весь сказ.
– Значит, и выхода никакого нет? – покачал головой Андрейка, и густой его, пышный чуб побежденно поник, упав на лоб. Но вдруг глаза заискрились. – Дедушка Пантелей, а если сбежать? Уйти куда глаза глядят, подаяние по пути просить, на мелкую всякую работу наниматься?
– Не можно, – затряс старый Пантелей бородой. – Не можно, потому что без пачпорта никуда тебя не допустят и загремишь ты прямиком в арестантские роты.
– Стало быть, нигде нет свободного края, чтобы меня принял?
– Нету, – отрезал было дед Пантелей, но вдруг зачесал покрытый морщинами лоб свой. – Слушай, а ведь я тебе наврал, парень. Безбожно и бессовестно наврал. Есть такая земля, и лежит она не так уж далеко от нас, к югу от Воронежа. Если ехать на лошадях, то дня два на это уйдет, не боле. С посохом идти дольше, конечно.
– И как же она называется? – с недоверием спросил Андрейка, на всякий случай поближе придвигаясь к деду Пантелею.
– Казачьей вольницей, землей Войска Донского, – ответил повеселевший дед. – Разве никогда не слыхивал о таком крае, парень?
– Нет, – оторопело произнес Андрейка.
– А ведь оттуда и Кондратий Булавин, и Разин Степан, и Пугачев Емеля. Все бунтари, одним словом.
– Вот бы попасть туда, – тихо вздохнул Андрейка, – сразу душой просветлеть бы можно.
– Пошто же колеблешься? – подзадоривающе откликнулся дед Пантелей. – Беги.
Андрейка посмотрел на большие свои кулаки и сник.
– Разве так просто, дедушка? А Люба? С ней нешто легко в такой рисковый путь отправиться?
– Ну тогда как знаешь, – неодобрительно покосился на него дед. – Однако совета моего не забывай.
9
Шли дни, какие-то светлые и удивительно короткие, наполненные неутоленным счастьем. А ночи, о них и вовсе трудно было рассказывать. Лишь на самой-самой зорьке, под крик последних петухов, воровато озираясь, пробирался в свою каморку Андрей и, стараясь не разбудить старого конюха, ложился на высокий, набитый жесткой соломой матрац. Но и тут никогда не засыпал сразу, долго лежал с открытыми глазами, вспоминая Любашины ласки, от которых еще и сейчас, казалось, не остыло тело.
А утром с дедом Пантелеем они дружно хлебали из одной глиняной миски жидкую молочную тюрю с кусками кислого ржаного, плохо пропеченного хлеба. Прочесывая бороду от застрявших в ней крошек, старик подозрительно спросил:
– Слушай, Андрейка, а она, твоя Любка, стало быть… она, часом, не того-энтого? Не забрюхатела?
У Андрейки застыла в руке деревянная ложка.
– Нет, дед, – ответил он резко, – вовсе не того-энтого. Да и зачем бы я такое сотворил бы, если мы еще не муж и жена?
– Ну, мало ли, – уклонился старик, – любовь – дело горячее, сам об энтом не из святого писания знаю. Оно в жизни нашенской по-всякому бывает. Недаром же бают: бедному жениться, ночь коротка. Я только спытать хотел.
Они заканчивали завтрак в глубоком молчании. О чем-то своем, и видимо сокровенном, долго раздумывал барский конюх, а молодого парня теснили его собственные мысли. «Ну чего я на него так осерчал, – думал про себя Андрейка. – Он же от сердца спрашивал. Да и я в том разе не такой уже безгрешный». И он вспомнил о том, как однажды ночью, бурно лаская вдруг затрепетавшую Любашу, с бьющимся сердцем спросил:
– Слушай, а что, если мы с тобой с нынешнего дня как муж и жена будем?
– Я не знаю, как это, – прошептала она, но тут же отрицательно закачала головой, и улыбающийся ее рот ускользнул от его поцелуя.
– Ты что? Мне не веришь? – нахмурившись, спросил Андрейка, а девушка только вздохнула.
– Нет, – сказала она, а большие глаза ее внезапно стали черными, как два колодца. – Разве можно тебе не поверить? Только подожди. Ведь он же нам обещал разрешить свадьбу по осени. А ты сильный и твердый. Значит, дождешься…
– О барине заговорила, – невесело уточнил Андрей. – Жестокий человек наш барин, что трезвый, что пьяный. В нем всегда злобный зверь сидит. Он и сам с утра не знает, что вытворит к вечеру. Ох, Люба, так он нам и разрешит пожениться! Держи карман шире.
– Но ведь он же пообещал, – почти всплакнула девушка.
– Не то, видать, у него на уме, – проговорил парень, крепче привлекая ее к себе.
Любаша прижалась к нему теплой твердой грудью, и последующие ее слова прозвучали в потемках еще грустнее:
– Ох, Андрейка! Как придет мне на ум та ночь, когда прислуживала им троим, пьяным, дыхание замирает. Неужели это еще повторится?
– Не знаю, – сурово отозвался он. – Не знаю, Любаша, не спрашивай больше, не надрывай душу.
– А если повторится? – заглядывая ему в глаза, спросила она. – Ты меня защитить тогда сможешь?
– Смогу, – с яростью ответил Андрей.
Но дни проходили, а барин Веретенников ни разу не потревожил Любашу, ни разу не остановил при встрече и не обратился к ней ни с какими словами, несмотря на то что на подворье он ее вблизи или издали видел не однажды. И это его внешнее безразличие усыпляющим образом подействовало на влюбленных.
– Послушай, Андрейка, – не совсем уверенно стала рассуждать Любаша, – может быть, зря мы с тобой думаем о нем так плохо? А вдруг он и вовсе не такой злодей, каким мы его представляем? А?
– Не знаю, – хмурился Якушев.
В апреле, когда весна достигла своего расцвета и напоенным запахом первых трав, дурманящим и пьянящим, был голубоватый прозрачный воздух, пришли веселые пасхальные дни с христосованием и песенными вечерами. Парням и девкам села Зарубино начало казаться, что даже подневольный труд на барина Веретенникова стал не таким гнетущим, раз можно гулять, танцевать и петь до полуночи и печь из пожалованной управляющим Штромом муки нарядные куличи с такими душистыми белыми маковками. Большие и малые колокола деревянной зарубинской церквушки вызванивали с такой лихостью, что казалось, будто бы от их гуда вот-вот лопнет и упадет наземь и сама колокольня.
Выходя из церкви, Андрей и Люба натолкнулись на запряженный четвериком барский экипаж. На козлах, в сапогах, щедро смазанных дегтем, и новенькой черной фуражке с лакированным козырьком, сидел дед Пантелей, а на мягком сиденье бесцеремонно развалился толстый помещик Столбов в белом полотняном костюме, с пунцовыми от хмеля щеками.
– Уйдем-ка лучше подобру-поздорову, – обеспокоенно прошептала Любаша, крепче прижимая к себе локоть Андрея. Но тот даже не успел отозваться. Из толпы, широким ручьем вытекавшей из церкви, внезапно выделилась так хорошо им знакомая фигура барина Веретенникова. Чуть пошатываясь, он догнал их, бесцеремонно-презрительным, холодным взглядом скользнул по лицу Андрейки и, словно бы его совсем здесь не было, обратился к одной лишь девушке.
– Любаша, – проговорил он с самым что ни на есть ласковым выражением, так не идущим его мрачному лицу, – а ведь сегодня все христосуются. Почему бы и нам… Христос воскрес, дорогая Любаша.
– Воистину воскрес, – упавшим голосом отозвалась она.
Барин притянул к себе девушку за плечи и трижды поцеловал в губы. Он долго не отпускал ее от себя. Смешанный запах дорогих духов и спиртного угара плеснулся ей в лицо. Любаша почувствовала, как весь подобрался и напружинился Андрейка. Очевидно, и Веретенников это почувствовал, потому что неожиданно остановил на нем холодные свои глаза, недобро усмехнулся и погрозил жестким указательным пальцем.
– А ты чего набычился? С тобой я целоваться не буду. Вот тебе крест, не буду. А ну-ка подвинься, Столбов. – И с этими словами Веретенников плюхнулся на обтянутое кожей сиденье. – А ну, гони, Пантелей! И-эх! – И экипаж умчался.
Они подавленно поглядели друг на друга и ничего не сказали. Да и разве нужны были слова, если и так все было ясно. Всю ночь, до самого почти рассвета, полыхали ярким светом окна в барских покоях. Гремела музыка, нестройные голоса и шарканье танцующих вырывались в распахнутую дверь, и, как померещилось на какое-то мгновение Андрейке, была в этом веселье мрачная озлобленность ко всему окружающему и жестокость, искавшая себе выхода.
А на следующий вечер на единственной широкой зарубинской улице, куда стекалась молодежь на гуляния, их разыскал господский повар Трифон; осклабившись, оповестил:
– Слышь, Любка, тетка Лиза велела немедленно тебе до нее явиться. Галопом чтобы бежала.
– Зачем, не знаешь? – встревоженно спросила девушка, но Тришка на всякий случай опасливо покосился на Андрейку, заржал в кулак и убежал, ничего не ответив.
– Не оставляй меня, – горько вздохнула Любаша. Андрейка молча кивнул. Когда они пришли на господский двор, ночь успела уже сгуститься и последние зарницы погасли в небе. Андрейка чувствовал, что бьет его мелкая нехорошая дрожь, и не знал, как ее подавить. Падающая звезда вычертила неровный пушистый след и погасла.
– Говорят, чья-то душа отлетела, – тихо проговорила Люба. – Уж не моя ли?
– Замолчи! – круто оборвал ее Андрейка. – У нас теперь одна мера на жизнь. Если отгорим, так вместе!
– Только вместе. – Любаша доверчиво стиснула его локоть, шепотом произнесла: – Подожди меня тут. Я у тетки все разузнаю и приду.
– С места не сойду, – пообещал Андрейка таким же шепотом, тяжелым от закравшегося тревожного подозрения.
Любаша скользнула в приоткрытую дверь первого этажа, и эта дверь тотчас затворилась за ней, погасив выбивавшуюся в ночь полоску света. По узкому коридору первого этажа прошла она мимо кухни и кладовой в комнату экономки. С порога спросила:
– Вы меня звали, тетя Лиза?
Высокая седая экономка неторопливо встала ей навстречу. На худом обесцвеченном лице только большие глаза ярко светились, и по ним можно было безошибочно судить, что, возможно, не так давно экономка была очень красивой, но красота эта быстро сгорела, оставив навсегда во всем ее облике выражение горечи и тоски. Холодея от ужаса, Любаша увидела перекинутое через спинку стула тонкое белое платье, о котором она столько уже наслышалась, и голубые туфельки, расшитые затейливыми серебряными блестками. На худом лице экономки застыло печальное выражение. Среди дворовых она считалась доброй и рассудительной, многое на своем веку повидавшей женщиной, умевшей пожалеть человека, но и хранить молчание, когда надо было оберегать тайны барина Веретенникова.
– Звала, – подтвердила она кратко и после долгой паузы напряженным голосом выдавила: – Не так я, как он. Надо, чтобы ты осталась, Любонька… барину прислуживать осталась. После двенадцати ночи, как только гости разъедутся, ты ему в постель кофий должна подать. Сам велел, я тут ничего не могу…
– Тетя Лиза, – с последней надеждой всматриваясь в ее лицо, умоляющим голосом сказала девушка, – а вы… вы рядом со мною будете?
Седая голова экономки опустилась, и одно только слово, холодное, еле слышное, слетело с высохших губ:
– Нет.
Экономка помедлила и не сразу, а после долгой паузы прибавила слова, дававшиеся ей с огромным трудом.
– Барин, – начала она сбивчивым горьким голосом, – барин велел всей прислуге после двенадцати уходить. Ты одна подле него останешься… только не плачь. Я ведь тоже когда-то прошла сквозь это. Не плачь, милая, потому как слезами горю не поможешь.
У Любаши подкосились ноги. Ища опоры, она стала медленно, как слепая, водить вокруг себя руками. Они наконец натолкнулись на спинку стула, сжали холодную белую материю выглаженного платья. Упав на колени, Любаша громко заплакала, повторяя одно и то же:
– Господи, да за что же это? За что же, я спрашиваю?
Экономка опустилась рядом с ней на деревянный пол, жилистой рукой стала гладить мягкие темные волосы девушки.
– Покорись, Любонька, супротив судьбы нельзя бунтовать. Смириться надо. Может, потом он и на самом деле за Андрейку тебя выдаст.
– Что? – отшатнулась Любаша. – Потом? Да разве я буду потом кому другому нужна? Разве я смогу после этого надругательства жить?
– Смирись, – еще раз раздался над нею тоскливый голос, и, тяжко вздохнув, экономка умолкла. Но Люба в эту минуту порывисто вскинула голову, и седая покорная барская прислужница удивилась внезапной перемене. Ни скорби, ни подавленности давешней не было теперь на лице у девушки. В синих, от слез просохших глазах сверкала одна лишь ярость.
– Смириться советуете, тетя Лиза? А если я не смирюсь? Если я дом подожгу, чтобы вместе с ним, ненавистным, сгореть вот в этом самом белом платье, какое вашими руками так ладно на мою погибель выглажено!
– Что ты! Что ты! – испуганно отшатнулась от нее пожилая женщина и начала истово креститься. – Не будь строптивой, девонька. Не ты первая, не ты и последняя. А я ничего не знаю… Вот тебе ключ, и я ничего не знаю. Барскую волю я выполнила, а теперь ухожу. Кофий на плите. Барин любит что ни на есть горячий. Гляди, чтобы вскипел получше, и потом неси в спальню. И советом моим не пренебрегай: веди себя покорно, поплачь побольше. Может, все еще и обойдется, и не тронет тебя он, может.
Экономка ушла, и Любаша осталась одна на опустевшем первом этаже. Где-то скреблась мышь, ее однообразное царапанье лишь подчеркивало эту убийственную тишину. Наверху раздавались голоса гостей, но и они потихоньку тускнели и выцветали и наконец покрылись громким окриком хозяина, упорно звавшего камердинера.
– Яков! Старик Яков! Где ты там, черт побери, запропастился? Проводи-ка гостей да и сам отправляйся восвояси.
Потом раздался противный сладенький голосок Столбова:
– Мон шер Григорий, ты великий хитрец. Думаешь, не знаю, почему столь решительно нас выпроваживаешь? Хочешь остаться поскорее наедине с этой прелестной пейзанкой?
– Иди, иди, сочинитель, – хрипловато напутствовал Веретенников. Потом загрохотал засов, и все стихло. Любаша долго простояла в оцепенении. Ее вернули к действительности напольные часы. Коротко и одиноко лязгнул в барских покоях один удар.
– Половина двенадцатого, – прошептала Любаша и подумала о том, что уже скоро часы ударят двенадцать раз и барин ее позовет. Девушку колотила мелкая дрожь, и только сейчас она вспомнила об Андрейке. «Он же стоит у входа, ничего не зная. Это только с парадной стороны барин самолично запер дом на замок, а Андрейка ждет во дворе. Но что он может сделать, милый, добрый и такой беззащитный Андрейка. Ведь стоит барину кликнуть трех-четырех своих слуг, и все будет кончено. Его изобьют до полусмерти, как и в тот раз, когда отбился от табуна Зяблик». Передернув плечами, Любаша вышла во двор.
От дверного косяка отделилась тень, и тревожный голос парня прозвучал в потемках:
– Это ты?
– Плохо, Андрейка, – тихо заплакала Любаша на какой-то одной тоскливой ноте. – Беда к нам пришла. Барин велел на всю ночь остаться в доме ему прислуживать.
– Вона что! – упавшим голосом протянул Андрейка.
Любаша всхлипнула и положила подбородок ему на плечо. Андрейка поддержал ее сильной рукой, прижал к себе безвольно-податливое тело. Его и самого начинала захлестывать слабость, порожденная горькой безысходностью, сознанием неотвратимо надвигающейся беды. Гладя Любашу по голове, он с горечью думал: «Кто же ее оборонит, ежели не я? Но что я могу?» И вдруг со всей мрачной отчетливостью понял, что слова сейчас не нужны, а нужны только действия. Он еще не мог сказать, какие именно, но уже был твердо в этом уверен, и уверенность эта намертво поразила в нем слабость.
– Я пойду с тобой, – сказал парень. Его бил мелкий неприятный озноб. Будто раздетым выбежал он на мороз, вернулся в избу и никак не мог отогреться. Но это продолжалось недолго. Андрейка поглядел на девушку каким-то новым, неожиданным для нее взглядом. В нем боролись и грусть и тоска, отступая под непреклонностью принятого решения. – Другого выхода нет, – сказал он беззвучно. – Я иду с тобой.
– Что ты, незадачливый, задумал? – глухо спросила Любаша.
– Пойду с тобой, – повторил упрямо парень. – И все время буду рядом. Если он тебя не тронет, уйду оттуда вместе с тобой.
– А если?.. – прошептала Люба. – Мне же выдали это проклятое платье. Ровно камень к ногам привязали, прежде чем в воду столкнуть.
– Пусть только попробует тронуть. Пока живой, в обиду не дам.
– Что же ты сделаешь? – спросила она так тихо, что парень скорее по движению губ понял эти слова, чем их расслышал.
– Будет видно, – произнес он твердо. – Идем.
– Хорошо, – согласилась Любаша. – Я впущу тебя первым. Надо только, чтобы никто не подсмотрел.
– Верно, – откликнулся парень.
Она пропустила его вперед и, осторожно оглядевшись по сторонам, затворила за собой дверь. В темном углу, при дрожащем свете свечи они долго стояли молча. Опять противно скреблась назойливая мышь, будто не закончившая начатую давным-давно работу. Прижавшись к лицу Андрейки горячей щекой, девушка отрывисто шептала ему в ухо:
– Скоро полночь, и он меня кликнет.
– Знаю, – деревянным голосом отозвался Андрейка. – Ступай и не бойся. И не ищи меня глазами. Когда надо, я всегда буду с тобой. Всегда, понимаешь!
Она послушно кивнула. На верхнем этаже, в барской гостиной, отчетливо раздались тревожно-нетерпеливые шаги.
– Барин ходит, – прижалась к Андрейке холодным вспотевшим лбом Любаша.
– Он, – подтвердил Андрейка и ощутил, как задрожала ее ладонь на его плече.
– Тебе жутко? – спросила она.
– Нет, – ответил Андрейка плохо повинующимся голосом. – Я никогда не боюсь, если решил.
– А чего же дрожишь?
– Это с непривычки, скоро я каменным стану.
– А мне страшно, – прошептала девушка, и сейчас же захрипел, стронулся с места невидимый отсюда маятник и отбил двенадцать ударов. И рухнула тоскливая тишина, уступая место определенности. Еще не затих последний, двенадцатый удар, как сверху донесся нетерпеливый голос Веретенникова:
– Любочка, где же ты, моя добрая фея? Иди скорее… и кофе неси, конечно.
– Несу, барин, – откликнулась Любаша чужим, неповинующимся голосом. – Кофий осталось подогреть.
– Да бог с ним, неси холодный, – потребовал Веретенников.
– Ступай, Любаша. Может, все еще и обойдется, – неуверенно предположил Андрейка.
– Я иду, – покорно подтвердила девушка. Она зашла на кухню, дрожащими руками сняла с плиты кофейник, поставила на поднос. А рядом – пустую чашку и блюдечко с сахаром. Поднос колебался в ее руках, пока шла она по коридорам нижнего этажа и ступенькам широкой, на веер похожей лестницы, уводившей в барские покои. Дождавшись, когда она встанет на первую ступеньку, Андрейка неторопливо пошел следом. Когда Любаша была на полпути к барской гостиной, она все ж таки не выдержала и обернулась. Андрейка ободряюще покивал ей в полумраке головой.





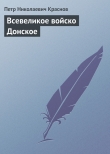


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)