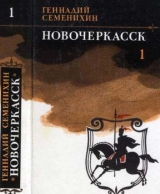
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
– Павел Сергеевич, – улыбнулась хозяйка дома, – хотя я и в стане неверующих, но ваш визит как подарок от бога. У нас же сегодня с Сашей супружеский праздник – годовщина дня бракосочетания.
– Вот это да! – воскликнул гость. – Значит, мне положено кричать «горько». Однако я не вижу бокалов и бутылки вина.
Надежда Яковлевна метнулась в коридор и возвратилась с двумя бутылками цимлянского игристого.
– Кажется, исправила свою ошибку. А кто откроет?
– Могу и я, – не совсем уверенно протянул Александр Сергеевич, но жена отрицательно покачала головой.
– Ой нет, Саша. Во-первых, в такой торжественный день ни тебе, ни мне этого делать не положено, а во-вторых, ты не справишься, прольешь вино на скатерть и потом долго будешь нас убеждать, что, пока ты жил в Петербурге, не вылазил из винных подвалов потомков мадам Клико и лучше всех знаешь, как надо с этим вином обращаться.
– Короче говоря, гусар среди нас налицо один, – объявил Павел. – А ну, подставляйте бокалы, я этим гидрам капитализма быстро головы снесу, – кивнул он на бутылки.
В эту минуту в зал из детской вошли принаряженные мальчики: один лет семи, со светлой челкой мягких, как шелк, волос, другой в длинных брюках и заправленной в них белой рубашке, смуглый тринадцатилетний Григорий, с темными пугливыми глазами и загорелой шеей. Ладонью проведя по стриженой шершавой голове, он нерешительно произнес:
– Здравствуйте, дядя Паша, а мы вас ждали.
– Ну и дипломат, – не в силах победить смех, отозвался Павел Сергеевич.
– Ничего, – заступился за сына Александр, – он накрепко заповедь усвоил, что самая тонкая ложь бывает у дипломатов.
– Да, – согласился Павел, – но не самая добрая, если вспомнить господ в изысканных фраках, с которыми приходится воевать нашему Чичерину. А у вашего Гришатки ложь святая.
Гриша, ничего не поняв, стыдливо потупился. Младший шмыгнул носом и вместо приветствия спросил:
– Дядя Паша, а это правда, что вы у Фрунзе служили?
– Служил, – весело подтвердил Павел Сергеевич, и его рука, счищавшая с бутылочной пробки серебряную фольгу, замерла.
– И конь в нашем сарае ваш стоит?
– Мой.
– А его можно потрогать, Гриша хочет спросить.
– Ну и дипломат, – повторил Павел. – Разумеется, можно. Но только при мне. Передай своему Грише, что он и лягнуть еще может. Я вам даже разрешу в седле посидеть. Так и скажи Грише, от имени которого вопросы задаешь.
– Вот здорово! – закричал Венька. – Ты слышишь, Гриша!.. А когда?
– Пообедаем и пойдем все вместе в сарай.
Венька с тоской оглядел ломившийся от еды стол и уточнил:
– А вы долго будете обедать?
– Да часа полтора, – усмехнулся Павел Сергеевич.
– Полтора часа, – разочарованно протянул мальчик. – Это же так долго, дядя Паша… А вы, как я, не можете? Я за десять минут все съедаю. Меня за это мама саранчой называет. Давайте мы, как саранча, поедим и пойдем с конем играть. А они пусть сколько хочут сидят.
– Венечка, – укоризненно перебила мать, – во-первых, не хочут, а хотят. А во-вторых, не приставай к взрослым. Учись у Гриши. Смотри, как он скромно себя ведет.
– Это потому, что он большой, – заявил Венька, – и потому, что не родной тебе… да, да, ты его, как меня, не любишь!..
У Надежды Яковлевны вздрогнул подбородок и вспыхнули щеки.
– Вениамин, замолчи! – прикрикнула она. – Иначе станешь в угол.
У Павла Сергеевича, наблюдавшего эту сцену, погрустнели глаза и приобрели какой-то стальной оттенок. Он подумал, что вот и выплыла наружу, как заноза, которую трудно вытащить из тела, эта маленькая семейная тайна, видимо, старательно оберегаемая родителями. Вроде все в порядке: на Гришатке и рубашка с таким же, как у отца, косым воротом, чистая и наглаженная, и головенка у негр стриженая, и туфельки новые на ногах обуты, а в глазах тоска и печаль недетская. И взрослые к ней привыкли настолько, что уже не обращают внимания.
– Гришатка, а ну иди ко мне, – позвал решительно Павел Сергеевич, – вот же рядом со мной место свободное. – И, когда мальчик приблизился, деловито заключил: – Сидай. В тесноте, да не в обиде.
Хлопнула пробка, и тугая светлая струя обрушилась в бокал. Тем временем Надежда Яковлевна наполнила стаканы детей малиновым лимонадом. Павел поднялся с пенящимся бокалом, кратко провозгласил:
– В доброй старой русской былине было три богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Вот Илья Муромец, – хлопнул он Гришатку по плечу. – Подрастает Добрыня Никитич, – кивнул на Веньку, – а теперь Алешку Поповича надо вам заводить, дорогие родители. Одним словом, «горько»!
Взрослые засмеялись, осушили свои бокалы, и обед начался. Павел старался поддерживать разговор не только со взрослыми, но и с обоими мальчиками. Он радовался, видя, как грустное выражение сбежало с лица Григория. А Веня, дергая себя за оттопыренные уши, задавал все новые и новые вопросы до той поры, пока Александр Сергеевич не пригрозил ему ремнем. Надежда Яковлевна, искоса наблюдавшая за гостем, удивлялась тому, как этот суровый с виду человек так быстро сошелся с мальчиками. Несколько смущаясь, она спросила:
– Павел Сергеевич, а у вас своих детишек не было?
Он потемнел лицом, прервал на полуслове рассказ о буденновцах и белых, который с разинутыми ртами слушали ребятишки, скупо вымолвил:
– Нет. – И замолчал.
Маленький Веня бесцеремонно воскликнул:
– Дядя Паша, ну а дальше? Ты же недорассказал. Догнал Буденный атамана Чугая? Срубил ему голову или нет?
– Я потом, мальчики, – извинился гость.
Мрачная тень пробежала по его лицу, отсветы горя ожили в расширившихся глазах, и уже ничто не могло эти отсветы погасить.
– Не было у меня ни сына, ни дочери, – выговорил он наконец. – А ведь должен же был кто-то быть… В 20-м на врангелевском фронте у сестры медицинской Лены Вяткиной мог бы родиться мой ребенок. Мой, понимаете? Это была единственная женщина в моей судьбе, такая близкая и понятная. Жизнь подпольщика, вы же знаете, какой она была напряженной и суровой. Совсем не обязательно ее испытать, чтобы судить об этом, да и о том, как было трудно иметь подпольщику семью. Иные заводили, а я не мог.
– Почему, Павлик? – тихо спросил Александр Сергеевич.
– Боялся любить и быть любимым. Горе не хотел принести близкому человеку. И не совладал с собою все-таки. Медсестра Лена была такой, что за один волосок с ее светлой головы я готов был весь земной шар пешком обойти. И сам же, можно сказать, ее погубил. Если бы не пошел к ней в ту ночь в лазарет на свидание, возможно, она сейчас сидела бы здесь, рядом с нами, вот на этом самом стуле, на котором восседает Гришатка.
Павел замолчал, большой острый кадык дернулся оттого, что он удерживал рыдания. Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна сделали вид, будто ничего не замечают, но, пересилив себя, Павел, не поднимая головы, продолжал:
– Кому ж я об этом расскажу, как не вам… Вы, Надежда Яковлевна, не подумайте, что боль причинили мне своим вопросом. Если я начал говорить, то уже не остановлюсь и обязательно закончу, как бы мне тяжко ни было. Характер у меня такой, и никуда уже от него не уйдешь. Лена у меня была – лучше не сыщешь. Глаза большие, голубые, как звездочки. Мне даже и впрямь казалось, что в темноте они искрятся, но это от сильной влюбленности, разумеется. Коса светлая, ниже пояса. На край света за Леной бы сейчас пошел, если бы воскресла и позвала. Она уже той порой беременна от меня была… Сколько ночей мы о будущем проговорили! Когда не было боев, я почти каждую ночь к ней в лазарет хаживал. И сила, которая к ней меня толкала, называлась силой любви, самой что ни есть торжествующей. Врангелевские посты, очевидно, все приметили и в плен меня захватить порешили. Еще бы! И во сне ведь не придумаешь лучшего «языка», чем комиссар полка. Словом, когда в сопровождении своего верного ординарца Феди Клюева направился я на очередное свидание, напали они на санитарную палатку, стоявшую на отшибе. Лена первой же вражеской пулей была убита наповал. А на меня врангелевский офицер с маузером кинулся. Хотел колодкой по голове стукнуть, да промахнулся. А тут наши подоспели и всех врангелевцев порубали. Один офицер в темноту ужаком уполз. Так и не смогли его обнаружить в потемках. Папаху кинул, а сам от нее, чтобы нас со следа сбить, в другую сторону подался. Но хоть и темно было, а я его рожу до каждой черточки запомнил. Когда он на меня колодкой маузера замахнулся, я его за запястье схватил и руку к земле стал гнуть, тут и разглядел как следует. Рожа широкая, глаза с крупными белками, губы толстые, лоб низкий, волосы курчавые на него свисают. И ярость меня страшная обуяла. Неужто от такого гада смерть я должен принять? Словом, если я его на том свете даже увижу, то узнаю и уничтожить стремиться буду как последнего гада революции. Я бы его и в той палатке голыми руками задушил, да к своей Леночке на ее стон бросился, все надеялся, еще выходим. Да уж куда там… Взял я ее за плечи, прижал к груди, но жизнь уже покидала ее… Лежала она красивая, строгая, гордая, а глаза ее словно сказать мне что-то самое заветное хотели… Тот офицер, этим моментом воспользовавшись, бежал. И не исключено, что до сих пор ходит по нашей земле да еще речи за Советскую власть произносит. Если бы его поймал, я его из нагана бы не расстреливал. Я бы ему посуровее смерть придумал. Такую, чтобы при одном упоминании о ней у него волосы дыбарем встали. – Павел Сергеевич отодвинул от себя бокал с недопитым цимлянским, осипшим голосом попросил: – Надежда Яковлевна, голубушка, дорогая! Заберите от меня подальше этот напиток благородный, а мне в кружечку алюминиевую или, по крайней мере, в стаканчик граненый чего-нибудь свеженького покрепче налейте, чтобы единым духом его принять.
– Да чего же вам, Павел Сергеевич? – растерялась хозяйка. – Вы и на самом деле застали нас врасплох. – Она до того посерьезнела, что даже ямочки исчезли на щеках. И была похожа на любую хозяйку дома, которая во что бы то ни стало старается угодить гостю, но не знает, как это сделать. – Коньяку у нас нет, рома тем более. Даже водки… – При этих ее словах Павел все мрачнел и мрачнел. И тогда Надежда Яковлевна, совсем уже потупившись, рискнула: – Там у меня в бутылке спирт остался для растираний. Он чистый, медицинский, но вы же не станете его пить. Ради бога, не обижайтесь за такое предложение…
– Что? – загрохотал своим чуть простуженным голосом Павел Сергеевич. – Я обижусь? Спирт? Медицинский? Милая Надежда Яковлевна, подавайте-ка его сюда, и чем скорее, тем лучше!
Когда Надежда Яковлевна принесла бутылку, наполовину наполненную бесцветной жидкостью, и стала уточнять, сколько налить, гость оживился, протянул к ней руку:
– Давайте ее сюда, пожалуйста, я сам распоряжусь.
Надежда Яковлевна придвинула к нему хрустальную рюмку, но Якушев решительно ее отстранил:
– Нет.
Тогда хозяйка, рассмеявшись, подала граненый стакан.
– Не то, – повеселел Павел Сергеевич, – тащите-ка алюминиевую кружку.
– Павел Сергеевич, – взмолилась Надежда Яковлевна, – да нет у нас такой! Хотя постойте, есть эмалированная.
– Сойдет, – одобрил гость.
Когда на стол была поставлена коричневая эмалированная кружка, он взболтал спирт и вылил в нее весь без остатка. Внимательно следивший за всеми этими приготовлениями Александр рассмеялся:
– Неужели ты неразбавленный станешь пить? Совсем как брамин – огненную воду?
– Нет, – замотал головой старший брат, – придется все-таки разбавить, а то завтра я своим орлам на плацу не те команды подавать буду. Долейте, пожалуйста, сырой водички почти до самого края, – попросил он Надежду Яковлевну. – Словом, чтобы «аш два о» получилась ничего. Ребята, смотрите и никогда не пейте подобно мне, – засмеялся он и поджег спирт. Султанчик фиолетового огня встал над кружкой. – Ну что? Видели? А теперь раз, два, три и аллюр три креста! – Сказав это, он поднес к губам кружку с горящим спиртом и выпил ее до дна.
– Вот это да! – вскричали хором Гриша и Веня. – Дядя Паша, да ты же настоящий факир! Тебя в цирке можно показывать!
– Спасибо, что хоть не в зверинце, – воскликнул старший Якушев, закусывая соленым огурцом. – Это я за ваше здоровье, родственнички. Живите сто лет на радость земле нашей, кровью политой, у беляков отбитой. И еще хочу я посмотреть, как вы поцелуетесь. Одним словом, «горько», «горько» и «горько»!
Надежда Яковлевна и Александр встали и смущенно повиновались.
Все, что было на столе, иссякало с неимоверной быстротой. После спирта Павел сметал такое количество еды, что хозяйка начинала уже всерьез опасаться, хватит ли всего ею приготовленного. Но гость внезапно отложил в сторону не до конца опустошенную тарелку и благодарно заметил:
– На этом все. Далее командир кавалерийского полка не может уже чревоугодничать, потому как сыт по горло.
Александр Сергеевич вдруг спросил:
– Брат, а у тебя фотография погибшей невесты не сохранилась?
Павел поднял на него чуть захмелевшие глаза – они уже не были веселыми.
– Увы, Саша… Не до фотографий в ту пору было. У меня навек осталась одна самая главная ее фотография – память о ней человеческая. Вот закрою глаза и всю-то ее, каждую черточку вижу… И будто зовет она меня по ночам нежным своим голосом в какую-то даль, а куда – не знаю. Ну почему в ту ночь подлой вражьей пули не нашлось и на меня у судьбы? Не мучился бы сейчас на земном шаре бывший командир эскадрона Пашка Якушев…
– Что вы, Павел Сергеевич, – испуганно прервала его Надежда Яковлевна. – Да разве можно так себя изводить? Вы оглядитесь получше вокруг. Жизнь – она всегда прекрасна, какой бы изначально не казалась. Заживет душевная боль, найдете другую женщину…
– Такую, как она, ни за что, – мрачно возразил Павел, и тихая улыбка озарила его лицо. – Помню, ночевали мы однажды на сеновале в отбитой у белых деревеньке. Меня после боя сон так сморил, что как убитый на сено повалился. Встаю и вижу, как сквозь застрехи веселый рассвет в сарай пробивается, кусочек голубого неба сверкает. Сидит надо мною в одной белой рубашоночке Лена с распущенной косой, а ее светлые волосы обнаженные плечи закрыли. «Знаешь, Павел, – говорит она, – я сегодня всю ночь глаз не сомкнула. Гляжу на тебя и с такой тоской думаю, что каждый день под смертью таскаешься. Неужто отнимет тебя у меня косая? Как жить после стану?..» Вот как она говорила, а вышло все наоборот. Ее у меня смерть отняла… Так как же я могу про нее забыть и о других женщинах думать! Нет уж, видно, до самого последнего дня холостым гулять по земному шарику суждено донскому казаку Пашке Якушеву…
Надежда Яковлевна отвернулась в сторону и сделала вид, что закашлялась. Александр Сергеевич в волнении снял пенсне, затем снова его утвердил на носу. Тяжело дыша, он боролся с подступающим кашлем.
– Не понимаю я вас, – вымолвил он неодобрительно.
– Кого это нас? – рассеянно уточнил Павел.
– Вас… большевиков.
– В чем же?
– Жестокие вы все-таки люди. И ничего у вас нет за душой, кроме голой идеи, за которую вы так легко отдаете свои жизни.
– Какая ж такая у нас голая идея? – сердито спросил Павел.
– Да не одна, а их много, – ответил брат. – Критикуете религию, утверждающую, что земля стоит на трех китах, а ваше учение о мировой революции даже не на трех китах, а на песке основано. Неужели ты полагаешь, что американский рабочий, сытый, хорошо обутый и одетый, имеющий дом, немедленно откликнется на ваш призыв и скажет: дайте мне винтовку и пулемет, и я пойду воевать за мировую революцию, готовый и к голоду, и к смерти?
Якушев-старший неопределенно пожал плечами:
– Ну, сегодня, может быть, не пойдет, а придет время, на нашу агитацию и революционную идею откликнется.
– Да никогда он не откликнется, – рассмеялся Александр Сергеевич, – потому что в душе он неисправимый собственник. А у вас ничего за спиной, кроме фанатичной веры в несбыточный коммунизм. И как мало при этом подлинной человечности.
– Это почему же, Саша? Скажи.
– И скажу, – твердо возразил Александр Сергеевич. – Вот слушал я историю о твоей любви и гибели Лены, и сердце сжималось. Ведь твоя драма – она выше любой шекспировской. Но корень ее в чем? В бесчеловечности, Павлик. Для вас любая рядовая личность, я оставляю в стороне вождей, это бесконечно малая величина. И вы стараетесь объединить эти величины в роты, полки, армии, дав им одну идею. А люди-то разные, и разве можно объединить их одной идеей, принудить мыслить одинаково, если все они разные и наклонностями, и характерами?
Павел Сергеевич посуровел и, словно желая успокоиться, провел ладонью по волосам. И уже не осталось в его взгляде той веселости, с которой он, бравируя, поднимал кружку со спиртом, и той тоски, с какой рассказывал о своей единственной, первой любви.
– Вот ты как заговорил, Саша, – произнес он раздумчиво, – Ты же наш хлеб советский ешь, кровушкой политый, а судишь о сегодняшнем дне, извини на слове, как мелкий буржуй. И откуда у тебя психология гнилая такая выковалась? Рос в бедности, в голоде и холоде, а чуть-чуть расправил крылышки во время своего московского житья – и получилось точь-в-точь по пословице: из грязи да в князи. Откуда ты взял, что нельзя одной идеей народ сплотить? Это смотря какой идеей. За нашей, например, идеей миллионы трудящихся пошли. А знаешь, как эта идея на всечеловеческом языке формулируется? Ленин об этом кратко, но с потрясающей глубиной сказал: вся власть Советам! Между прочим, мне об этой идее впервые бывший царский полковник генерального штаба, казак по происхождению, Михаил Степанович Свечников сказал. Мудрый человек, Порвал со своим классом и в самом ответственном, семнадцатом, году в большевистскую партию вступил. Даже был в группе, обеспечивающей возвращение Ленина в Петроград. И к мировой революции мы в свое время приблизимся. Будь спокоен.
Александр Сергеевич не соглашался. Когда спорил, он был очень упрям. На возражения собеседника сердился, губы у него начинали дрожать, лысый лоб багровел. Затем он делал вид, что надвигается очередной приступ астмы, и под этим предлогом удалялся в кабинет. Сейчас же, пожав плечами, с ласковой, прощающей улыбкой он обратился к жене:
– Посмотри, Надюша, на этого упрямца. Мы с ним целую ночь, спали вместе на одной кровати в петербургской гостинице, и, когда Павлик перед сном раздевался, я ужаснулся. У него же вся спина на допросах полицейскими служаками была исполосована! Полагаю, с тех пор шрамов меньше не стало.
– Ошибаешься, братишка, больше, – усмехнулся Павел. – На Перекопе мне и от белогвардейской шашки маненько досталось. Так что теперь не спина, а географическая карта целая, но только карта побед, а не поражений. И победы все во имя народа, во имя ленинской правды.
– Вот как, – сощурился Александр Сергеевич, серо-синие глаза которого ласково смотрели на брата, словно перед ним был не умудренный жизнью человек, а ребенок. – А вот насчет побед хочу поспорить. Почему победы твоих друзей всегда с жестокостью были связаны? Разве твои товарищи по оружию не проливали невинную кровь?
– Например? – перебил его старший брат строго.
– Например, зачем расстреляли профессора Синельникова, крупного специалиста по электротехнике? Это был эрудированный человек с утонченными манерами. Его арестовали меньше года назад. Ты об этом что-нибудь знаешь, Павлик?
– Знаю, Саша, – неохотно проговорил брат. – Синельвиков прятал в своем доме целое сборище офицеров и помог всем им уйти.
– Да, но он это делал, по-видимому, из гуманных побуждений.
– Из гуманных? – горько переспросил Павел. – А пригретые им гаденыши, по-твоему, тоже из гуманных побуждений из-за угла убивали честных советских граждан, да? – Он вздохнул и устало покачал головой. – Ты вот о пролитой нами крови заговорил. Да, текла кровь. А какая, скажи мне, революция делалась без крови? Что же мы, на брудершафт пить шампанское, что ли, должны были с теми, кто в нас стрелял? А ты подумал о той крови, что была пролита последним царем и его приспешниками? Теми, что Невский проспект трупами усеяли, в тюрьмах и ссылках тысячи верных сынов отечества уничтожили? Ты все измеряешь тем, сколько стоила белая булка при царе и сколько она в первые годы Советской власти стоила, когда кругом разруха да банды.
Александр Сергеевич замолчал и, чувствуя, что не находит аргументов для возражения, ушел в кабинет, сославшись на подступающий кашель и на то, что не хочет курить при всех дурно пахнущий астматол. Надежда Яковлевна, провожая ироническим взглядом его спину, пояснила:
– Он всегда так выходит из боя.
– У старых казаков это называется «дать тыл», – поддержал ее Павел.
Через несколько минут хозяин возвратился и как ни в чем не бывало сел на свое прежнее место, но спора больше не возобновлял.
Хозяйка разрезала торт и подала чай. Предложила еще выпить по бокалу цимлянского, но мужчины отказались. Александр Сергеевич стал упрашивать старшего брата остаться на ночлег, но тот решительно возразил:
– Не могу, Саша. Право слово, не могу. Посуди сам. Ведь больше часа скакать до персиановских лагерей, а в шесть утра построение полка, на котором мне как командиру надо принимать рапорт. Так что на этот раз уволь.
В сумерках Павел вывел из сарая буланого жеребца, разрешил ребятам по очереди посидеть в седле и добродушно сказал на прощание:
– Ты, Гришатка, уже настоящий кавалерист. Хоть к самому Семену Михайловичу Буденному в ординарцы тебя отдавай. А Вене еще немножечко подрасти надо.
– Я это быстро, дядя Паша, – заверил мальчик.
Александр Сергеевич тихо напутствовал брата:
– Ты, Павлуша, будь поосторожнее. Неспокойно у нас по ночам на окраине. Шалят.
– Ничего, – усмехнулся Павел. – У меня для шалунов эта штука всегда наготове. – И он вынул из кармана наган.
– Ой ты, – задохнулся от радости Венька. – Дядя Павел, а потрогать можно?
– Это тебе не игрушка, постреленок, – ласково щелкнул он малыша по носу и еще раз, прощаясь с ними, сказал: – Хорошо, что мы наконец-то встретились. Не взыщите, Саша и Надя, буду теперь у вас частым гостем. Скучно бобылю в Новочеркасске жить.
– А ты все-таки женись, – чуть в нос поучающе проговорил Александр Сергеевич. – Залечи свою душевную рану и женись. Вот я же женился во второй раз. Все в жизни поправимо, братец, непоправима одна только смерть, – философски заключил он. – И никогда к тому же не забывай, что, пока человек живет, ему известна лишь одна дата в собственной судьбе – дата рождения. Вот и женился бы ты, мой дорогой, памятуя эти мои слова.
– Куда мне, – рассмеялся Павел, – ты же интеллигенция, да еще научно-артистическая: и математик, и драматический тенор в одном лице. Вы по иным принципам живете, нежели мы, командиры РККА. – Понизив голос, он попросил: – Саша, и еще об одном. Не бурчи ты, ради бога, на Советскую власть. Век новый пришел на нашу землю, а ты, как улитка, в нору заполз и знать ничего не хочешь. Примешь этот век – слава тебе людская. Откажешься – сдует тебя со своего пути ветер нашей истории революционной.
Александр Сергеевич горько вздохнул:
– Жесток ты, брат мой. Жесток и категоричен.
Павел Сергеевич ничего на это не ответил. Он вскочил в седло, помахал провожающим рукой и поскакал в темноту. Конь поднял фонтанчики пыли на ведущей к городскому вокзалу немощеной улице.
– Ну и помчался дядя Паша! – восторженно выкрикнул маленький Венька. – Вот бы я так мог!
Примерно через час после проводов гостя, заканчивая на кухне уборку, Надежда Яковлевна услышала отчаянный кашель, доносившийся из кабинета. Отложив в сторону последнюю домытую тарелку, она сняла клеенчатый фартук и поспешила туда. Александр Сергеевич в теплой нижней рубашке сидел, чуть откинувшись в кресле, и держался ладонью за грудь. Голова его была запрокинута, синеватые белки казались огромными, а лицо было серым от напряжения. Кашель буквально накатывал на него волна за волной. Александр Сергеевич стонал, как попавшее в бурю суденышко, в груди у него хрипело, по огромному лбу струился пот. Отплевываясь в жестяную консервную банку, он так тяжело дышал, что могло показаться, будто он доживает свои последние минуты. На чистом блюдце тлел табак астматол, насыпанный пирамидкой. Синеватой струйкой расплывался дымок, от которого становилось легче.
Надежда Яковлевна появилась на пороге.
– Очень плохо? – деловито осведомилась она. – Что-нибудь надо?
Муж отрицательно покачал головой, с усилием проговорил:
– Это от бокала вина, наверное. Убеждал себя, что не надо пить, да стадное чувство победило, погнался за вами, вот и расплачиваюсь.
Он недоговорил. Накатил новый приступ, который довел его почти до крика. Надежда Яковлевна вспомнила: когда вышла за него замуж и с Александром Сергеевичем случился такой же, как и сейчас, приступ, она решила, что он умирает, и стала одеваться, чтобы бежать за врачом. Однако муж с трудом перевел дыхание и даже попытался улыбнуться:
– Чудачка ты, Наденька… Придется привыкать… Такие приступы редко у кого кончались смертью, хотя они и очень мучительны. Спи…
И она действительно привыкла к ним за совместно прожитые годы до того, что иной раз даже не вставала, если это случалось глубокой ночью. Но сейчас приступ был очень сильным, и она не могла оставить мужа в одиночестве.
– Тебе ничего не надо? – повторила она свой вопрос.
Кашель бил его с новой силой, но и на этот раз он ничего не сказал, лишь отрицательно помотал головой. Она постояла на пороге в надежде на то, что приступ пройдет и он скажет ей что-то, но кашель действительно прошел, а слов она не дождалась и молча возвратилась на кухню.
Проходя через детскую, она бережно поправила одеяло на спавшем Веньке, равнодушно прошла мимо кровати Григория и, стараясь не шуметь, быстро убрала посуду в черный резной буфет. Проверив в коридоре запоры на двух дверях, одна из которых выходила во двор, а другая на улицу, хозяйка отправилась спать. Часто дыша под одеялом, еле сдерживая подступающие рыдания, она безжалостно обрушилась на себя. Ну почему она не пожалела мужа, которому сейчас, вероятно, очень тяжело? Почему не подошла ближе, не положила руки ему на плечи, не поцеловала его, обессиленного? Она не догадывалась, что и Александр Сергеевич в эту минуту, подавляя тяжелые вздохи, размышляет о том же самом. «Где же хотя бы капелька милосердия? Ведь видит же ясно, как я изнемогаю от астмы, и хотя бы одно ласковое слово, один жест, продиктованный жалостью… Только холодный вопрос „не нужно ли чего?“ – вот и все сострадание. Можно подумать, что я и сам не смог бы встать и налить себе валериановых капель или сходить на кухню за теплой водой». И он вспомнил другую женщину, свою первую жену Настю. Та бы всю ночь напролет просидела с ним рядом, шутила бы и смеялась до той минуты, пока приступ не кончится и пока обессиленный Александр Сергеевич не рухнет на кровать и не провалится в сон, успев благодарно прошептать: «Спасибо, Настюша».
Нет Настеньки. Своими руками девять лет назад обрядил он ее, холодную, изглоданную чахоткой, чтобы передать на попечение старух, приготовившихся положить ее в гроб. Маленький Гришатка, ничего не понимая, сидел в углу, держа в руках разноцветную юлу. А потом они уехали из Харькова в Новочеркасск, потому что родной край по-прежнему тянул к себе Александра Сергеевича. И вскоре в Александровском саду он встретился со старой своей знакомой Наденькой Изучеевой. Она первая бросилась к нему и зарыдала.
– Саша, Саша… Какая же она жестокая, наша жизнь, если обрекает человека на такие испытания!.. Ведь мы в свое время так дружили с твоей Настенькой… так дружили. А теперь ты потерял ее, а я своего Ванечку…
Александровский сад быстро наполнялся вечерними посетителями. Чтобы не привлекать внимания, Александр Сергеевич посадил Надю на скамейку в малоприметной, не освещенной фонарями аллейке. Он был в форме землемера и на вопрос своей старой подружки о том, как теперь живет, ответил с грустным смешком:
– Ты же видишь. Оперного певца из меня не получилось, великого математика тоже. Брожу летом по полям и лесам с теодолитом, зимой сижу на камеральных работах. Вот и все.
– А наши детские годы не забыл?
– Нет, – ответил он односложно.
– И то, как я тебя провожала в Москву за счастьем?..
– Как тебе не совестно, Наденька! – возразил он печально. – Ни тебя, ни матушку твою, ни Якова Федоровича, ни тот день…
– Не надо, Саша, – прервала она. – Слишком тяжко вспоминать, как на наших с тобой глазах погиб мой отец. Ты лучше вспомни о тех последних минутах на перроне вокзала.
– Ты тогда сказала, что будешь меня ждать, – тихо промолвил он, и это прозвучало как укор.
– Я не виновата, поверь, – после долгой паузы сказала она. – Ты учился в Москве, а Ваня был рядом. Ты был призрачным и далеким, а он реальным. И порыв был… зачем скрывать. Приходи к нам в гости. Обязательно приходи. Мы с мамой всегда будем рады, – Она вдруг встала со скамейки и направилась к выходу. Желтый гравий зашуршал под ее ногами и стих.
А потом их встречи стали ежедневными, и осенью Александр Сергеевич сделал ей предложение. Он только спросил однажды, отводя от неловкости взгляд:
– Надюшенька, а вот Гриша… он тебя не остановит? Ведь все-таки чужой ребенок?
– Вот еще! – пылко воскликнула Надежда Яковлевна. – Да как ты можешь!.. Он теперь нашим будет, а не чужим.
«Вот и ошиблась Наденька, – невесело подумал Александр Сергеевич. – Не хватает у нее души, чтобы одинаково относиться и к Вене, и к Грише. Не дай бог, чтобы у ребят возникла обоюдная неприязнь». И с этой мыслью он крепко заснул.
А Надежда Яковлевна долго еще была не в силах заснуть и, беспокойно вздыхая, лежала с открытыми глазами, вся какая-то поникшая и надломленная. И снова одна и та же мысль сверлила сознание, «Плохая ты, Надя, – корила она себя. – Очень плохая. Ты сейчас должна встать, пойти в кабинет и приласкать этого доброго человека. Ведь он же отец твоего сына и бедного сиротинки, он мягкий и справедливый. Он готов отдать семье всю свою жизнь без остатка. По шесть лекций в день читает студентам техникума, чтобы семья жила хорошо. Но ты не можешь так поступить, потому что не находишь в себе сил горячо его полюбить и одинаково относиться к Грише и Вене. Разве это не так? Ты не мать, а мачеха, и не только потому, что нет в тебе доброты и ласки в глазах, когда они видят Гришу, но и потому, что даже к мужу не чувствуешь любви. А почему? Неужели бедная Настя, ушедшая из этого мира, всему виной? Зачем ты, неискренна перед собственной совестью, когда убеждаешь себя, что ревность к Насте всему причиной? Опомнись, ведь он же соединил свою судьбу с ней, когда ты была уже замужем. Замужем», – мысленно повторила она, и вдруг память возвратила прошлое
…Она неожиданно увидела поле с колыхавшейся рожью на самой окраине Воронежа и себя в строгом черном платье с белым воротничком, какие носили все слушательницы женских Бестужевских курсов в ту пору. Вот она бежит навстречу чуть загорелому кудрявому саперному офицеру, вырвавшемуся в свой родной город с фронта на короткую побывку, бросается ему на грудь, смеется и плачет от радости. Споткнувшись, она падает в густую хлебную россыпь и видит над собой ослепительно голубое небо и лицо, закрывшее это небо разметавшимися светлыми кудряшками и веселыми васильковыми глазами. «Мой, мой», – замирает она от счастья. А потом они выбираются из ржи на поляну, и он, ее Ванечка, певучим голосом втолковывает ей, как маленькой:





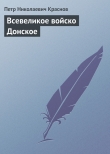


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)