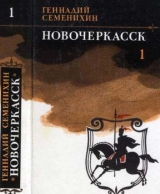
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)
Чтобы подбодрить участников похода, император Павел прислал им карту Индии с указанием районов ее и богатств, которые немедленно перейдут в собственность казаков, едва только те их достигнут. Но марш по задонским степям, без обогрева и запаса провианта, становился все труднее и труднее. Пушки тащили через сугробы, орудийной прислуге не каждый день предоставлялась возможность хотя бы на час протянуть к огню красные от холода руки и застывшие ноги. Снежные бураны настигали воинов, били в лицо холодной крупой и ветром. В начале марта наступила оттепель, но и она не принесла облегчения. Лед на Волге вздулся и побурел, когда подошли к ней платовские конные полки. Но кто имел право отменить переправу, если ее приказал осуществить сам император!
Платов представил Павла в ботфортах и парике, волевым жестом прокладывающего на карте через Волгу линию этой переправы и совсем не думающего в роскошном своем кабинете о всей ее тяжести, о людских страданиях и лишениях. И Матвею Ивановичу, видавшему виды военному начальнику, в одно из таких мгновений хотелось выкрикнуть: «К черту! Не могу! Отбирайте саблю, украшенную бриллиантами, сажайте снова в Петропавловскую крепость! Не могу губить человеческие души!» Ценою больших усилий подавил он в себе это желание.
И началась переправа. О любой атаке говорят – кровавая. Но эта долгая переправа через широченную Волгу в нелепом далеком походе была еще тяжелее. Лед трещал под копытами всхрапывающих от испуга лошадей, кололся, давая выход свинцовой, недоброй воде. Одна из первых повозок рухнула в полынью и немедленно ушла на дно. Произошло это так стремительно, что никто и ахнуть не успел. Матвей Иванович ощутил, как оцепенели веки и непроизвольно скосился тонкий рот. Когда повозка уходила под лед, лошади даже не успели заржать и только крик гибнущего солдата-возницы, отчаянный и тоскливый, донесся из стремнины:
– Проклятый царь! Анафема…
Выплеснулись в этом крике и боль, и обреченность, и надломленность духа, рожденная у человека сознанием своей безысходности. Платов ощутил на себе укоризненные взгляды земляков и поспешил отвернуться.
– Что я могу поделать? – оправдываясь перед собственною совестью, бормотал он. – Плетью обуха не перешибешь! Стоит лишь заикнуться о всей нелепости этого решения, и сразу же окажешься за глухой стеной одиночки.
Пять часов длилась эта тяжкая, кровавая переправа. Многих недосчитались казаки. А потом, когда все ж таки перешли за Волгу, голод и цинга настигли войска на марше. Казаки стали пухнуть, требовать добавка в котловом пайке и, получая отказ, нещадно ругали и Орлова, и Платова, и самого царя. Несколько человек померли от цинги, и один из них при всех публично заявил:
– Не Платов виноват, это царь слабоумный ведет нас на погибель!
Платов в эту минуту проходил по конюшне, приспособленной под лазарет, тесной от стонов человеческих, остановился подле умирающего, сиплым от простуды голосом спросил:
– Какой станицы будешь, родимый?
Но у больного цингой уже навеки закрылись глаза, и кто-то из стоящих сзади подсказал:
– Это Митрий Степанов из Арпачина.
– Царство ему небесное, – вздохнул Платов и заученно перекрестился. Потом, нахмурив брови, обратился ко всем живым суровым, не принимающим возражений голосом: – Марш к Бухаре будем продолжать, как и подобает Войску Донскому.
Никто не ответил. И потянулись новые сутки марша. Голод, разразившийся в Поволжье, осложнил доставку провианта, и платовские полки перешли на двухразовое питание. Выдаваемый паек был до того скуден, что многие казаки откровенно выражали свое недовольство.
23 марта отряд Матвея Ивановича сделал привал в селе Мечетном Вольского уезда Саратовской губернии. На рассвете, когда генерала остро мучила бессонница, нажитая еще в Петропавловской одиночке, в сенцах послышался шум и властный окрик:
– Эй, кто-нибудь! Живые люди тут есть? Платов надобен.
– Так ведь отдыхает же он, – растерянно объяснял кому-то верный его ординарец Спиридон Хлебников.
– Я и сам знаю, что в это время генералу положено отдыхать, – повторил незнакомый голос. – Но у меня пакет особой государственной важности, и к тому же перед тобой не кто-нибудь, а курьер его императорского величества, осведомленный, как надо поступать в подобном случае.
Матвей Иванович босыми ногами нашарил ночные туфли, потянулся за брюками. Полуодетым появился перед незнакомым офицером в форме императорского курьера, державшим в руках покрытый сургучными печатями пакет.
– Слушаю вас, милейший.
– Ваше превосходительство, – отрапортовал курьер, – велено передать лично вам в руки.
– Давайте, – хриплым спросонья голосом проговорил Платов, – а сами идите отдыхать. Вероятно, устали с дороги, – закончил он теплее, бросив взгляд на забрызганные грязью сапоги царского посланца.
Прибавив в лампе огня, Платов торопливо сорвал печати, всем своим существом чувствуя, что пакет этот содержит известие огромной важности. Поднес к глазам плотный лист гербовой бумаги, и сердце заколотилось от волнения. Короткий текст гласил, что в ночь на 12 марта скончался император Павел и на престол вступил его наследник Александр, повелевший немедленно прекратить поход казачьих войск на Индию и вернуть всех его участников в родные донские места.
Впервые Платов почувствовал, что у него есть сердце, способное болеть не только от горьких обид, но и от радости. Он выскочил в прихожую комнату и весело крикнул Спиридону Хлебникову:
– Спиря! Немедленно командиров полков всех сюда! Всех! Слышишь, Спиридон, батюшка царь Павел в Санкт-Петербурге повелел всем нам долго жить. Поход на Индию отменен! Будем по домам возвращаться.
Хитрый Спиридон хотел было скроить на лице горькую гримасу, но, увидев, что его начальник так откровенно радуется, вдруг вытянул руки по швам и во весь голос гаркнул:
– Ура, ваше превосходительство!
– Дурак! – одернул его Платов. – Чего орешь? Император ведь помер. Событие прискорбное.
Спиридон сделал вид, что сконфузился, с подчеркнутой старательностью вытянул руки по швам, но гаркнул еще громче прежнего:
– Виноват, Матвей Иванович, больше не буду!
– Пошел вон отсюда, – незлобиво приказал Платов, не удивляясь тому, что лицо верного ординарца становится еще радостнее.
Хлебников закашлялся и так же громко отрапортовал:
– Рад стараться, ваше превосходительство.
Гремя сапогами, вышел он из комнаты, а Платов, грустно вздохнув, проводил его жалостливым взглядом и подумал о том, как трудно дался поход этому уже немолодому казаку, постоянно кашляющему от грудной болезни, а иной раз попросту задыхающемуся на ветру, но никогда не распространяющемуся о своем недуге. И вспомнились Матвею Ивановичу собственные его слова, произнесенные им однажды в присутствии многих знатных петербургских вельмож, так их тогда покоробившие. Один из царских прислужников, наделенный многочисленными наградами и почестями, длинно распространялся о своей преданности трону российскому и, завершив свою речь, заносчиво спросил у Платова:
– А вы что думаете по сему поводу, генерал?
Матвей Иванович с холодным презрением охватил взглядом хрупкую фигуру вельможи, сжал сначала тонкие губы, но тотчас же согнал с лица своего хмурое выражение. Самым добрым голосом произнес он слова, которые оглушили придворных:
– Мы не рождены ходить по паркетам да сидеть на бархатных подушках. Там вовсе можно забыть родное воинское ремесло. Казак на то и есть казак, чтобы этим ремеслом владеть отменно. Наше дело ходить, по полю, по болотам, а если и сидеть, так сидеть в шалашах или еще лучше под открытым небом, чтобы и зной солнечный и всякая непогода не были нам в тягость. Так и будешь донским казаком.
«Что там вельможи, – подумал сейчас Платов, – вельможи так и не поняли этих слов, духом до них своим не дошли. А как эти слова прямым самым образом относятся к моему верному ординарцу Спиридону Хлебникову и тысячам других казаков, которые даже в этом неразумном походе верны своему долгу до последнего удара сердца!»
Перед глазами донского атамана вновь страшным видением встали разбухшие дороги, по которым прошли его полки неизвестно зачем и неизвестно к какой цели, опухшие от цинги и голода лица казаков, которых он знал по именам и фамилиям, могилы, оставленные на этом трудном пути, повозки и хрипящие кони, погибшие во время переправы через Волгу. С тоской и болью думал Матвей Иванович о том, как легко идти в бой и даже принимать смерть, когда ты знаешь, что нужна и твоему войску и всему Отечеству Российскому победа, и как горько и непонятно, если нет перед тобой никакой цели, если даже ты, командир и повелитель войска, умом и сердцем понимаешь бесцельность всего совершаемого, но не можешь, никакими путями не можешь ее отвратить.
За стенами крестьянского домика пронзительно свистел восточный ветер, остервенело гудел в печной трубе, где-то поблизости жалобно ржали казачьи лошади. Прокаленные морозом приступки застонали от тяжелых шагов. Это возвратился на минуту Спиридон, доложил, что половина командиров полков через минуту-другую прибудут, а остальных он пошел известить.
– Буди, буди, да поскорее, – одобрительно отозвался Платов и вновь возвратился к одолевавшим его тяжелым мыслям, к вопросам, отвечать на которые было трудно.
Оставшись в одиночестве, Матвей Иванович с горечью подумал о том, сколь много зависит в жизни даже такой огромной страны, как Россия, от одного человека, в чьи руки отдана государственная власть. «Простит ли его бог, не знаю, но я не прощу, – рассудил Матвей Иванович, – не могу простить ни свои седые виски, нажитые за годы сидения в одиночке, ни этого нелепого, безрассудной его волей продиктованного похода, ни полуторатысячеверстного пути сквозь ветры и метели, с тяжелыми болезнями и гибелью людей, ни горюшка черного, что полной мерой пришлось отведать моим землякам и любимцам, воинам Войска Донского. Шутка ли сказать, покрыть за два месяца такое расстояние двадцатитысячным конным отрядом. Ведь это же был самый длинный и самый никчемный из всех казачьих походов».
…Платов окончательно отрешился от сна. Встав с кровати, подошел к высокому прямоугольному зеркалу. «Откуда они его сюда, в Новочеркасск, привезли?» – подумал он о старательных казаках своей войсковой канцелярии. Гладкое стекло добросовестно отпечатало его худощавое лицо с горбатым носом и тонкими изгибами бровей над задумчивыми глазами, в которых бродила острая грусть. Хмель выветрился из головы. Глаза его смотрели на пробуждающийся мир строго и холодно. А рассвет все смелел и смелел, и вскоре всю комнату с высоким сводчатым потолком затопило утреннее солнце. Новый день занимался над пробуждающейся землей, еще не остывшей от вчерашних скачек и топота конских копыт, от буйного казачьего перепляса и таких волнующих, то лихо-радостных, то задумчиво-скорбных, песен.
Платов распахнул окно, и живительный степной воздух, напоенный запахом чебреца и мяты, ворвался в комнату, ободряюще плеснул в лицо. За окном лежала вымощенная булыжником новая улица, горбились железные зеленые и красные крыши, под которыми уже обитали первые переселенцы. Платов радостно покачал головой: как все-таки быстро были возведены первые кварталы этого города, уже объявленного столицей Войска Донского.
– Здравствуй, новый город! Здравствуй, Новочеркасск! Что-то ты принесешь и мне, и моему любимому казачеству? – задумчиво проговорил Платов.
Часть третья
Расплата
Помню, когда мне было восемь с небольшим, наша учительница, бывшая санитарка буденновского полка, одинокая пожилая женщина с грустными голубыми глазами, в которую мы всем классом были безоговорочно влюблены, однажды сказала:
– Вот что, дети. Напишите мне к следующему понедельнику домашнее сочинение на тему: «Мой дедушка». Каждый из вас может взять семейный альбом и отыскать в нем фотографию своего дедушки. У всех у вас есть папы и мамы. Они могут подробно рассказать о дедушке. Договорились?
– Договорились, Вера Михайловна, – загалдели мы в ответ.
Отца моего дома не было, а мать, выслушав эту просьбу, молча достала альбом с фотографиями и стала его перелистывать.
– Вот твой дедушка, – сказала она, остановив свой палец на одной из них. Фотографии были наклеены на плотный картон с красивым, в завитушках, фирменным штампом владельца мастерской, под фамилией которого крупными буквами было напечатано: город Новочеркасск. На матово-синем фоне я увидел хмурого человека с широко расставленными круглыми невыразительными глазами, про которые принято говорить: глаза-пуговки. Редкие волосы обнажали препорядочную плешь. Человек этот постно, как показалось мне, недружелюбно глядел на меня.
– Это и есть дедушка? – спросил я разочарованно.
– Это и есть, – со вздохом ответила мать, – только я не советую тебе что-либо про него писать. Твой дедушка ничего особенного на нашей земле не совершил, даже для того, чтобы заслужить право быть героем школьного сочинения. Был купцом, разорился, и только. Уж если ты получил от учительницы задание написать сочинение, так пиши лучше о прадеде своем, об Андрее Якушеве. – Она порылась в верхнем ящике облезлого деревянного комода – отец всегда называл его тещиным приданым – и извлекла оттуда обернутый материей карандашный рисунок, сделанный, вероятно, очень и очень давно и так проигрывающий в сравнении с роскошным снимком новочеркасской фотографии придворного фотографа Полити.
– Так ведь это же, – грустно заметил я, – даже не фотография.
Мать засмеялась и взъерошила мои волосы.
– Глупый! Это наша семейная реликвия. И самая дорогая к тому же, если хочешь знать. Да будет тебе известно, что этому рисунку более ста лет. Вглядись получше, глупыш.
Я вгляделся получше, но восторга в себе не обнаружил. Разочарованный, я долго смотрел в темно-карие глаза матери и удивлялся их необыкновенному свойству: когда мать была веселой, они бушевали яркими искорками, но стоило ей только загрустить, в зрачках ее эти искорки мгновенно угасали, словно стайка птичек улетала, и они меняли свой цвет, становились строгими, даже отчужденно холодными.
– Твой прадед, – продолжала мать, – был человеком драматической судьбы.
– А что такое драматическая судьба? – не вытерпел я.
– Как бы тебе объяснить, – запнулась мать, – каждый человек ищет в жизни свое большое счастье, но далеко не каждый легко его добывает. Иной идет к своему счастью очень долгим путем, терпит горечь, обиды, несправедливости. Бывает, что за такое счастье приходится платить даже собственной жизнью. Вот это и есть, по-моему, драматическая судьба.
Я долго рассматривал рисунок. На нем было изображено вырванное с корнем дерево, перегородившее лесную дорогу; судя по кроне, сосна или ель. У этого дерева стоял казак в высокой черной шапке, с длинной саблей на боку, и держал под уздцы оседланного коня. Глаза у казака были добрые, но печальные, и на всем лице, с острыми лучиками морщин в углах рта и тонкой полоской не слишком густых усов над верхней губой, лежала печать недавно пережитой обиды. Очевидно, рисунок этот доставался из комода и разворачивался на свету весьма редко, потому что карандашный штрих был еще достаточно резок.
– Так твоего прадеда в восемьсот двенадцатом году нарисовали, когда Кутузов погнал Наполеона от сожженной Москвы на запад. Вы еще будете и в школе эту войну изучать. Так вот, прадед твой только-только вернулся из боя и спешился, чтобы размять ноги, потому что долго-долго скакал в седле. И вдруг подъехал к нему всадник, усатый, веселый, и крикнул: «Послушай, братец! А ну-ка, задержись в этой позе, и я тебя увековечу. Ишь ты, какой красавец. Да как же это глупый Бонапартишка осмелился идти против этаких богатырей?» Незнакомец быстро нарисовал твоего прадеда, свернул было рисунок, чтобы забрать с собой, но вдруг передумал и сказал, обращаясь к Андрею Якушеву: «Нет, лихой рубака, ты лучше на память его возьми. И всем потом говори, что тебя сам Денис Давыдов увековечил во время привала». С этими словами он поставил в уголке свою подпись. Вот как это было, сынок!
Я в ту пору явно недооценивал автографы и тем более не знал, кто такой Денис Давыдов, но меня озадачило другое.
– Так ведь это же казак! – воскликнул я разочарованно.
– Ну и что же? – удивилась мать.
– Как что? А все казаки белогвардейцы.
В темно-карие глаза матери снова вернулись веселые птичьи стайки.
– Откуда ты взял, что все, кто родился на Дону, – белогвардейцы? – спросила она с укором.
– Все как есть, – стоял я на своем.
– Значит, и Буденный? – не без ехидства уточнила мать.
– При чем тут Буденный? – восстал я решительно. – Буденный – это герой из героев, командарм Первой Конной. Вот он кто!
– И все-таки он на нашей донской земле родился, – стояла на своем мать. – Если не веришь, спроси у своей учительницы.
Я внял этому совету и на следующий день узнал много такого, о чем не имел никакого представления раньше. В присутствии всего класса Вера Михайловна подтвердила материны слова о том, что Семен Михайлович Буденный, наш самый любимый герой, действительно рос на Дону и что далеко не все донские казаки каратели, вешатели и белогвардейцы. Впервые я тогда услышал о Подтелкове и Кривошлыкове; а о восемьсот двенадцатом годе, Кутузове, Платове, Денисе Давыдове и таких воинах, как мой прадед, она рассказывала до самого звонка на большую перемену. Когда я возвратился домой, то весело сообщил своей родительнице:
– Оказывается, ты права. Казаки бывают и белые и красные. А про нашего прадеда Вера Михайловна сказала, что он настоящий герой, если под знаменами самого Кутузова бил Наполеона. Мама, а наш прадед действительно много подвигов в том восемьсот двенадцатом совершил?
– Много, – не задумываясь, ответила мать, помогая мне снять тяжелый заплечный ранец из желтого дерматина, в котором грохотали чернильница-непроливайка и высыпавшиеся из пенала карандаши. – Много. Только жизнь у него не стала от этого легче. Он погиб очень молодым, всего на двадцать восьмом году, и вся его короткая жизнь была сплошным страданием.
1
Над небольшим, хорошо укрепленным французским городком Намюром низко-низко висело мутное февральское небо. Тучи прятали от человеческого взгляда купол местной церкви и едва-едва не задевали своими бледно-дымчатыми краями острые камни крепостной стены с врезанными в нее бойницами. Помутнелое небо веяло холодом, но холод этот был не тем ярко-синим бодрящим морозцем, который стоял сейчас где-нибудь под Москвой, Тарусой или Смоленском. С неба время от времени срывались капли дождя, перемешанного со снегом, а ветер над голыми полями дул колкий, пронизывающий до костей.
Преследуя разбитые наполеоновские войска, Матвей Иванович Платов оторвался с одними верховыми казаками от пехоты, преодолевавшей непролазную грязь, и остановился у стен Намюра, разместив свой штаб в большой деревне. Накинув на плечи мохнатую кавказскую бурку, зябко морщась, расхаживал он по довольно просторной комнате, где на столе уже лежали полевые карты, в углу были свалены запасные седла, а от чекменей входивших и выходивших казачьих офицеров тянуло топким запахом конского пота.
Платова знобило. Даже испариной покрылся широкий лоб, отчего к нему прилипли жиденькие прядки волос. За стеной дома послышался топот издалека прискакавших лошадей и человеческие голоса. Вбежал покашливающий ординарец Спиридон Хлебников и, важно откозыряв, доложил:
– Ваше превосходительство, Матвей Иванович, возвернулся парламентер.
– Живой, здоровый? – быстро спросил Платов. – Немедленно веди ко мне.
Порог перешагнул майор Денисов. Он еще устало дышал от стремительной езды. На смуглом обветренном лице под бровями вразлет почтительно замерли красивые выпуклые глаза, когда он откозырял и вытянулся в струнку. «Вот ведь история, – подумал Платов. – Был полицейским офицером сыска, малопонятным человеком, а в боях и походах таким молодцом оказался, что лучше и не придумаешь. Не зря ему майорский чин пожалован по моему ходатайству».
– Ну что, голубчик? Как вижу, живым и невредимым тебя отпустили французские завоеватели?
– Белый флаг помог, ваше превосходительство.
– А главного их коменданта видел?
– Так точно.
– А какое он впечатление произвел? – медленно приближаясь к основному вопросу о результатах переговоров, тянул Платов. Тянул потому, что уже догадывался, что не с доброй вестью вернулся парламентер.
– Хорохористый мужичок, – поморщился Денисов.
– Та-ак, – протянул Платов. – А теперь выкладывай ответ, каким бы он пакостным ни был.
– Комендант гарнизона Намюра сдать крепость немирному отказался, – глядя в глаза походному атаману Войска Донского, доложил майор. – Он попросил слово в слово передать ответ.
– Передай, – все больше мрачнея, выдавил Платов.
– Разрешите слово в слово? – звякнув грязными шпорами, осведомился Денисов.
– Давай.
– Комендант ответил: «Рвы наполнятся трупами, река обагрится кровью, но города не сдам! Храбрость французов известна всем».
– Экий хвастун! – возмущенно закричал Платов. – С битой мордой, да еще смеет говорить о храбрости! Это что же? Выходит, бегство от Москвы до Парижа, у стен коего мы стоим, храбростью у них почитается? Иди отдохни, голубчик. Ты отменно выполнил мое поручение. А ты, Хлебников, обойди всех полковых командиров и передай, что я хочу видеть их у себя в два часа дня. Поспешай.
Оставшись в одиночестве в просторной комнате нерусского дома, с гравюрами и портретами на стенах, Матвей Иванович ощутил новый приступ озноба. Скептически поглядев на рекомендованные полковым лекарем порошки, он достал из окованного железом небольшого дорожного погребка бутылку перцовой настойки, налил половину стоявшего на комоде простенького бокала и, стоя перед зеркалом, самому себе подмигнув, выпил.
– Это все же получше, чем порошки, – усмехнулся он.
Озноб как будто бы ослабел. Платов, не раздеваясь, лег на жесткий деревянный диван, положив под голову скомканную бурку. Более двух часов оставалось еще до совещания с командирами полков, на котором ему предстояло объявить свою волю. Но практически решение уже готово, обдумано им до мельчайших подробностей. Все взвешено, и никаких сомнений не осталось. И еще он был теперь уверен, что принятое им решение обязательно приведет к победе. «А почему? – смеживая тяжеловатые веки, спросил он самого себя и тотчас же ответил: – Я ведь все же удачливый».
Ему вдруг вспомнился эпизод из собственной жизни, никоим образом не связанный ни с какими штурмами и кавалерийскими атаками. Любимец всего двора, перед отъездом на Дон был он как-то приглашен на обед в покои императрицы Марии Федоровны. И все протекало отменно, но уже после десерта, откланиваясь, Платов задел саблей драгоценную фарфоровую вазу и опрокинул на пол. А хороший фарфор, как известно, и бьется-то хорошо. Ваза разлетелась вдребезги. Лакеи в раззолоченных ливреях, прислуживавшие во время обеда, замерли от столь неслыханного происшествия. А Платов ужасно растерялся, для чего-то отскочил в сторону, поскользнулся и неминуемо упал бы, если бы находчивая Мария Федоровна сама не поддержала его за локоть. Он обрел равновесие и, рассмеявшись, ответил: «Государыня! И падение мое меня возвышает, потому что я имею счастье еще раз поцеловать руку моей монархини». Затем он оборотился к придворным, присутствовавшим на обеде, и прибавил: «А пословица-то и на самом деле сбылась! Говорят, что если казак чего не возьмет, так разобьет. Первое неправда, а второе и со мною сбылось».
«Вы удачливый, – наградила его милостивой улыбкой императрица, – вы далеко пойдете!»
«Вот и пошел, – подумал про себя Платов. – Можно считать, от сгоревшей Москвы до самого Парижа дошел. И дойду!»
Он вдруг окончательно задумался, представив, каким сложным и трудным был этот путь, сколько осталось позади разоренных деревень и городов, обнищавших семей, оставшихся без крова, сколько лично ему известных казаков сложили головы, кто на окраинах Смоленска, кто под Бородино, а кто и при форсировании Березины во время преследования Наполеона. И как это царь Александр не разглядел сразу коварную сущность человека в черной треуголке, с жирным, выпирающим брюшком, которое даже самый искусный портной не в состоянии был скрыть. С этим человеком Платов впервые встретился при заключении хрупкого Тильзитского мира, не предвещавшего ничего хорошего в будущем. В свите придворных присутствовал Матвей Иванович при свидании Александра I с Наполеоном. Холодные, надменные глаза восходящего полководца остановились на какое-то мгновение и на нем. Внезапно, не отвечая на взгляды присутствующих, Наполеон обратился к нему:
– Говорят, вы отменно стреляете из лука, господин генерал?
– Немножко умею, – скромно ответил Платов, и беседа с помощью переводчика продолжалась.
– Господин генерал, – с подчеркнутой вежливостью попросил Наполеон, – а не могли бы вы показать свое искусство?
– Пожалуй, никаким особым искусством я не обладаю, – сдержанно ответил Платов, – но лук держать в руках мне приходилось. Что правда, то правда.
Принесли мишень, и Платов с большого расстояния одну за другой послал в ее центр три стрелы. Наполеон воскликнул «браво», но лицо его тотчас же стало холодным.
– Скажите, генерал, неужели на Дону все казаки столь метко стреляют?
– Если понадобится, то все, – не моргнув глазом, подтвердил Матвей Иванович.
– О! – воскликнул Наполеон. – С таким войском трудно было бы сражаться.
– Зачем же сражаться? – возразил донской атаман. – Лучше дружить.
На той встрече Наполеон подарил ему золотую табакерку, а Платов ему свой лук, украшенный драгоценными каменьями. Табакерка и по сей день была при нем. Взял ли Наполеон его лук, когда шел покорять Москву и тем более когда в ноябре 1812 года, бросив армию, бежал в почтовой карете под именем Коленкура, оставив маршала Нея прикрывать отступление своей разбитой армии, этого Матвей Иванович не знал.
Стараясь улечься на жестком диване поудобнее, Платов свесил левую ногу, и сапог звонко царапнул шпорой немытый пол. Тупая боль на мгновение сковала позвоночник и тотчас отпустила. «Это уже не от простуды, а от старости, – решил он и тяжело вздохнул. – Разве легко в шестьдесят два годика с рассвета и до заката качаться в седле наравне с молодыми казаками, ходить в атаки под артиллерийским огнем, показывая войскам пример хладнокровия и неустрашимости».
Лишь на несколько минут успел он забыться в зыбком сне, но мгновенно очнулся, когда в комнату, намеренно громко стуча сапогами, вошел Спиридон и сказал:
– Ваше превосходительство, командиры полков собрались и ждут распоряжений.
– Зови, – приказал Матвей Иванович.
Когда несколько рослых полковников, гремя саблями, вошли в комнату, он уже успел протереть глаза и накинуть на себя черную кавказскую бурку, сразу сделавшую богатырской его не слишком-то крупную фигуру.
– Садитесь, боевые мои соратники, – приветливым жестом пригласил их Платов и развернул на столе полевую карту. – Спиридон, пришпиль-ка ее получше да позаботься о самоваре. – Потом он встал, разминая кривые кавалерийские ноги, циркулем ткнул в небольшой черный прямоугольник. – Вот Намюр, дорогие мои полковники, крепость, что застряла у нас как в горле кость. И дышать трудно, и сразу ее не проглотишь. Но хочешь не хочешь, а чтобы хорошо дышать, надо ее немедленно проглотить.
– Проглотим, – всколыхнулся над столом голос полковника Коротаева. – И не такие крепости проглатывали.
– Спасибо за подобную готовность, – одобрил Платов. – А теперь послушайте и меня. – Платов уперся локтями о край стола, ладонями охватил седеющую голову с розовыми залысинами. – Как известно вам, сегодня утром я посылал в Намюр парламентера. Была слабая надежда на то, что гарнизон благоразумно сдастся. Однако комендант сей крепости оказался довольно дерзким офицером и решительно отклонил капитуляцию. – Платов отнял от головы ладони, сцепил их перед собой. – Что будем делать, господа полковники, в подобной, неблагоприятно для нас сложившейся обстановке? – Он встал и, не снимая бурки, прошелся по комнате, бросив косой взгляд в темный угол, где Спиридон возился с медным пузатым самоваром, таким родным в этих далеких от России краях, – Разумеется, господа, самый простой выход – это дождаться, пока подтянется пехота с артиллерией и численный перевес будет за нами. Но позволю себе заметить, что Намюр – опорная крепость на пути к Парижу и, если не взять ее с ходу, наступление всей русской армии будет замедлено. А имеем ли мы на то право?
– Нет, не имеем! – выкрикнул кто-то из полковников, а остальные поддержали его сдержанным гулом голосов.
– Правильно, – проговорил Платов. – Надо штурмовать. Но так как нас мало, то предлагаю осуществить сей штурм в ночное время. Полки должны быть спешены и выдвинуты на осадную позицию, орудия также выдвинуты вперед. Что касаемо лошадей, то они будут оставлены позади. С наступлением темноты приказываю при обозах и на всей глубине нашего тыла непрерывно жечь костры и переносить огни все дальше и дальше от крепости, дабы создать у неприятеля иллюзию, что на него идет несметная сила. Мои славные боевые полковники! Вспомним пословицу: на бога надейся, а сам не плошай. С вашей помощью я решился взять этой ночью Намюр и открыть дорогу на Париж. Мы русские, и никакая сила нас не сломит!
– Верно! Возьмем Намюр приступом! – раздались одобрительные голоса. Платов взял со стола свернутый трубочкой лист бумаги и вновь обратился к присутствующим:
– Тогда разрешите огласить приказ? – Голос его звонко разнесся под низким сводом потемневшего от времени, давно не беленного потолка. – «С пламенной любовью к отечеству совершим сей ночью приступ к Намюру. Со всех полков снаряжается по три, а с Атаманского – пять сотен наших казаков с дротиками. У кого есть патроны, тот должен быть при ружьях». – Платов отложил в сторону лист, и тот мгновенно скатался в трубочку. – Виноват, – вскричал Матвей Иванович, – а конец-то я забыл! Вот каков конец: «Овладев городом, не чинить жителям никакого вреда, никакой обиды. Покажем врагам нашим, что мы побеждаем супротивников верою, мужеством и великодушием». А теперь, с богом! – быстрым властным взглядом перебегая с лица на лицо, заключил Платов. – Ступайте по своим полкам и начинайте подготовку.
2
Сумерки в этом краю наступают быстро и неотвратимо. Напитанная дождем и снегом огромная туча остановилась над окраиной деревни и, казалось, готова была рухнуть на аккуратные домики, ставшие временным местожительством донских казаков, на рыхлые невспаханные поля с побуревшей прошлогодней стерней и разбухшие от грязи дороги. Только одна из них, вымощенная булыжником, была твердой и относительно чистой – дорога, уводившая в крепость Намюр.





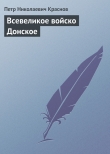


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)