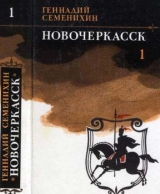
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
– На что вы намекаете? – вспыхнул атаман, и бурая краска даже пробила загар на его лице. – Я покорный слуга великого монарха царя России.
– Ну ладно, ладно, – примирительно согласился генерал-инженер, – пусть будет «Ермак Тимофеевич». – И они снова углубились в детальное обсуждение плана.
Платов тогда и представить не мог, сколько бед и огорчений принесет впоследствии воинству и донскому казачеству неосмысленная попытка обуздать могучий Дон и повернуть его в русло хилого Аксая. Тысячи людей пытались по ею распоряжению насыпать земляную плотину, с утра и до ночи день за днем перевозили они огромное количество земли, а первый же паводок шутя смыл их неудачную, и даже попросту невежественную, если говорить о законах гидротехники, насыпь, похоронив отчаянные старания и самые светлые побуждения атамана Войска Донского и его свиты.
А ведь все это понадобилось хитрому, изворотливому до Волану лишь для того, чтобы, окончательно усыпив колебания Платова, лишить его последних сомнений в том, что новая столица области Войска Донского может быть основана только в одном месте: не в Азове и не в Аксайской станице, а в одном лишь Бирючьем Куте. После длительного обсуждения составленного де Воланом плана Платов решительно накрыл чертеж твердой смуглой рукой:
– Что ж, инженер, вероятно, будем считать вопрос исчерпанным?
– Да, мой генерал.
– И восемнадцатого мая года одна тысяча восемьсот пятого, согласно повелению императора всея Руси Александра, осуществляем заложение?
– Да, мой генерал.
– И я соберу назавтра войсковой круг на майдане и объявлю на нем нашу волю?
– Без всякого колебания, Матвей Иванович.
– Так что же! – воскликнул сразу повеселевший Платов. – Осушим же за это еще по одному кубку в столь жаркий день. Уж больно вкусно это самое вино у старика Белобородова.
16
Поздним вечером Андрейка Якушев и Дениска Чеботарев пригнали с пастбища коров. Сначала отвели двух телок и одну дойную корову на подворье к Чеботаревым, потом загнали остальных в баз Луки Андреевича. Щедро попоив их из колодца, парни постояли во дворе, с наслаждением вдыхая запах весенней ночи. После памятного всем кулачного боя они ощутили такое обоюдное влечение друг к другу, что озадачили этим всех окружающих. Даже тихая, ласковая Любаша и та заявила однажды при всех домочадцах:
– Смотри, Андрейка, я тебя скоро к Дениске заревную. Совсем на меня глядеть перестал. К лицу ли тебе?
– Да ты что! – смутился Андрейка. – Тут ведь дружба иная. Он мне теперь брательник на всю жизнь.
Постояв под высоким звездным небом и обменявшись несколькими малозначительными фразами, парни задумали было расходиться, но Андрейка, опомнившись, возразил:
– Постой, Дениска. Чего тебе спешить до дома? Зайдем лучше до нашего Аникина. Видишь, в горнице какой яркий свет. Повечеряем и еще поболтаем.
Чеботарев насмешливо покосил правым плечом:
– Чегой-то гутаришь? Можно думать, у моей матери нечем повечерять. Идем до меня. Она и пышечек, и парного молочка подаст.
Но Андрейка решительно воспротивился и насильно поволок друга за собой.
– Пошли сначала до нас, козел упрямый. Негоже, чтобы ты за весь день ни единым словом с Лукой Андреевичем не обмолвился. Да и Любаша с тетей Анастасией тебя ждут.
– Ну, зайду, – неохотно вздохнул Чеботарев. Вытерев обувь в сенцах о половичок, они прошли в горницу, увидели на столе чугунок с холодным борщом, кринку молока, наполовину уже опорожненную, горку серого хлеба на тарелке. Свечи горели вовсю, и в горнице было светло, как на празднике. «С чего бы это?» – подумал Якушев, но тотчас догадался. На диванчике рядком сидели хозяйка с Любашей, а напротив, в шароварах и чириках с затейливой позолоченной кавказской обшивкой, распоясанный и по-домашнему небрежный, Аникин, жестикулируя, вел какой-то рассказ, который обе женщины слушали с нескрываемым увлечением. Даже обычно ласковая Любаша, недовольно затеребив косу, шепотом сказала:
– Сидайте за стол и вечеряйте чем бог послал, а нам не мешайте.
Андрей и Дениска не стали спорить, лишь усмешливо переглянулись: что это, мол, за фокусы в нашем курене сегодня. Хитрый Аникин, уловив эту иронию, прервал на полуслове рассказ и обратился к ним:
– Слышь, хлопцы, там в печке еще гречневая каша стоит. Можете брать да с молочком исть. А мне не мешать. Тем паче угощения у вас, как на Меланьиной свадьбе.
– На какой, на какой? – встрепенулась Любаша.
– На Меланьиной, – повторил Аникин, – это, девонька, ведаешь что? Дон-то наш, батюшка, историями богат. К примеру, сказывают, будто в свое время на поимку мятежного атамана Кондратия Булавина царь отряд стрельцов чуть ли не в тыщу голов послал. Шли они, шли, из сил выбились и заснули в нескольких верстах от Черкасска. Кондратию Булавину об этом сторожевые казаки донесли, и он со своими молодцами ночью весь отряд порубал. Вот и пошла по Дону поговорка гулять: кондрашка хватил.
А другой атаман женился в Черкасске на казачке – красавице Меланье и повелел гулять свадьбу три дня; а чтобы всего хватило, приказал столы с винами и закусками на всем пути расставить – от церкви до своего атаманского, дома. Три дня пировали казаки, а все равно съесть и выпить, что на столах, не смогли. Вот и стали с той поры гутарить, когда видят много еды: ты, мол, что, как на Меланьину свадьбу наготовила, хозяйка. А на подлинной Меланьиной свадьбе все казаки, за исключением одного, довольны были.
– А этот почему же? – вступила в разговор Анастасия. – Чегой-то я не слыхивала.
Лука Андреевич, хитровато сощурившись, почесал затылок.
– Зараз обскажу. Недопил он, понимаете ли. Возвращается со свадьбы, и между им и дружком такой разговор. «Был на свадьбе?» – спрашивает дружок. «Да-а был…» – «Как свадьба?» – «Так себе». – «Закуски не хватило?» – «Была и закуска». – «Вино плохое?» – «И вино хорошее. Принуда не было, вот и тверезый остался». – Все расхохотались, а Лука Андреевич нравоучительно заметил: – Нашим хлопцам принуда не надо. Продолжайте исть, а я тут бабонькам про нашего атамана Матвея Ивановича буду сказывать. Да и вам не грешно прислушаться.
Черпая борщ из одной деревянной расписной миски, Андрей и Дениска ловили размеренную речь видавшего виды казака. Теребя под расстегнутой рубашкой тонкую цепочку серебряного крестика, Лука Андреевич нравоучительно продолжал:
– То я вам про знаменитые подвиги нашего бесстрашного атамана сказывал. А вы вот вопрос задали о его житейском происхождении. Так я и это обскажу, родненькие. Наш Матвей Иванович, он не из графьев и не из князьев каких урожден будет. И не из дворян-белоручек, каким даже в постель служанки расфуфыренные кофии заморские подают. А порожден он был в семье донского войскового старшины Ивана Платова, судоходного мастера.
Как-то летом, если память мне не изменяет, в августе одна тысяча семьсот пятьдесят первого, когда еще, по другим законам, вольготнее нынешнего жили наши казаки донские, вышел старшина Платов на протоку посмотреть свое судно. Жена в ту пору на сносях у него была. Идет войсковой старшина по сухому донскому бережку, пыльцой пробитому, по травушке зеленой, от росы давно уж просохшей, и вдруг птица пролетела низко-низко над его головушкой и прямехонько ему на шапку кусок хлеба уронила. Войсковой старшина перекрестился и положил тот кусок в карман. К берегу подошел, а из глуби донской воды да к ногам его громадный сазан выплеснулся. «Что бы это могло означать? – подумал в тот миг войсковой старшина. – Неспроста ведь это». А домой пришел и узнал, что жена разрешилась сыном. Обрадовался добрый казак, помолился сперва перед образом, а затем уж собрал друзей, угостил их рюмкой водки, как и подобало в старые времена. Закусили они хлебом, птицей оброненным, да сазаном, что к ногам его выбросился. И в тот же день нарекли нового жителя городка нашего Черкасского Матвеем. Родители нашего атамана были люди небогатые. Любили его; но не баловали. Грамоте кое-как обучили, а дальше науки Матвей Иванович познавал уже сам. А в тринадцать годков его уже урядником на действительную службу царскую зачислили. Во как было, стало быть!
– Лука Андреевич, – невпопад встрепенулась Любаша, – вы старый казак и все тут знаете. А как на Дону в старину женились? Поведайте.
– Ишь куда ты хватила, касаточка, – заворчал притворно хозяин. – Старина, она, брат ты мой, понятие сурьезное. Тогда ведь казаки жили чем? Набегами да войнами и добычей от них. Царю-батюшке служили справно, но больше всего любили свободу. Даже поговорку сложили: лучше смерть на воле, чем жизнь в плену, Говорят, что эту поговорку наши генералы как самую мудрую истину в военный устав внесли. И еще песенка была тогда сложена.
А у нас на Дону живут не по-вашему,
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут, хорошо живут.
Малость охотились, малость рыбу ловили, а ее непочатый край. А что касаемо женитьбы, так про церковное венчание и понятия тогда не имели. Человек брал себе жену, выходил на круг и объявлял перед казаками и атаманом: «Ты будь мне жена». «А ты будь мне муж», – отвечала нареченная.
– А если расходились? – лукаво играя синими глазами, поинтересовалась Любаша.
– Тогда и того проще, – ухмыльнулся Лука Андреевич. – Муж в праздничный день выводил свою бабу на майдан. В лучшие наряды облачалась при этом казачка. На голове рогатая кичка, отделанная серебром, а то и золотом. От нее на лоб и шею свисали нити разноцветного бисера с серебряными монетами на концах. И еще с кички тонкий белый шарф спускался аж ниже пояса. Ну а платье – кубелек, – его красоту и вовсе не обскажешь. Оно из шелка или парчи, с застежкой на поясе, а та и вовсе вся в драгоценных каменьях. Выйдет такая на круг, блеснет глазами да как посеет дробный стук каблучков, молнией промчится, а потом с озорством выкрикнет:
Кому люба, кому надобна,
Выбирай иди без робости,
Жить ты будешь со мной в радости…
Стоят, бывалоча, казаки, красотой ее зачарованные, да думают про мужа ейного: «Ну и дурак Лариожка, ить какую бабу с база своего выставил». Пока окружающий люд молчал, бывший муж норовил всем объяснить: «Она мне гожа была, работяща и домовита. Бери, кому надобна». И вдруг какой казак самых горячих кровей как встрепенется да завопит: «Мне она надобна! Беру немедленно!» И чтобы никто иной не опередил, выскочит на центр круга и накроет эту бабу зипуном своим, как это по обряду полагалось.
Аникин, оборвав свою речь, пытливо посмотрел на женщин, внимательно его слушавших.
– А дальше что бывало, дядя Лука? – не вытерпела Любаша.
Лука Андреевич осанисто провел ладонями по лицу.
– Далее оно по-всякому случалось. Бывало и так, что по прошествии двух-трех недель новый муж приходил к старому и жалобно возвещал: «Слышь, Лариоша, возьми назад свою бабу. Не подошла она мне. В постели ледащая, по хозяйству не работящая, одним словом, завалящая. Возьми, ради бога. Вот те крест, на радостях и тебе и всей станице угощение за свой счет царское выставлю».
– А если такая жена, что никто не брал? – не успокаивалась Любаша.
– Ежели никто, – покашлял хозяин, – ежели никто не брал, тогда баба уходила на свободу. И не очень весело было ей в таком разе. Но и тут все без церквей и попов обходились. Не то что теперь, когда без креста и шагу не ступишь. Чуть что, тебя геенной огненной пугают.
Кто-то громко постучал с улицы в ставню.
– Эй, Лука Андреич, выдь-ка на минутку, дело до тебя, – раздался хрипловатый голос.
– Ты, что ли, Спирька? – окликнул Аникин, узнавший по голосу войскового писаря Спиридона Хлебникова.
– Я.
– Так заходи в дом.
– А у тебя сенцы не на запоре?
– Зачем же их запирать, чудодей, – рассмеялся Аникин. – От кого, скажи мне на милость? Разбойников у нас нету.
При этих словах деревянная ложка вздрогнула в большой руке Андрейки, и он быстро посмотрел на Любашу… «Боже мой! – подумал он про себя с болью, – И до каких же пор я буду вздрагивать при слове „разбойник“? Неужели всю жизнь теперь предстоит скрывать правду и терзаться душой из-за этого проклятого барина Веретенникова?» Обожженная его взглядом, Любаша вздохнула, и в синих больших ее глазах отразилась такая нечеловеческая тоска, что даже Анастасия удивилась.
– Чего это ты так пригорюнилась, девонька?
– Да так, тетя Настя, взгрустнулось чегой-то, – отвела она взгляд.
«Хорошая ты, Люба, – подумал Андрейка, – каждую мысль мою с полуслова понимаешь. С тобою не страшно всю жизнь пройти вместе, до последнего часа».
– Ты чего замер, как бирюк перед прыжком? – засмеялся Дениска. – Давай поторапливайся, а то я вкусный борщик и сам прикончу.
В горницу вошел высокий худой Спиридон Хлебников, сорокалетний казак с бледным продолговатым лицом, на котором ярко выделялись густые черные усы.
Половина черкасских казаков знали о том, что Хлебников болеет чахоткой тяжело и неотвратимо, но, общаясь с ним, делали вид, что далеки от этой догадки и воспринимают его как человека с совершенно полноценным здоровьем. Лишь однажды богомольный есаул Илья Белобородов проговорился, охая:
– Все чахнешь ты да чахнешь, Спиридон Ермолаич.
У Хлебникова в ярости подпрыгнула тонкая цепочка бровей.
– А тебе какого черта надо, калика ты перехожая! – взорвался войсковой писарь. – Тебе до меня какое собачье дело, пес брехливый?! Я еще допреж того, как от чахотки издохну, знаешь, сколько басурманов вострой шашкой порубаю, чучело огородное!
Белобородов испуганно закрестился и попятился от него.
Войдя в аникинский дом, Спиридон, приложив к губам ладонь, постарался сдержать предательский кашель и, когда это ему удалось, негромко обратился к хозяину:
– Вечер добрый, Лука Андреич. Меня за тобой послали. Ждут тебя у Федора Кумшатского в курене.
– По какой такой надобности? – пренебрежительно усмехнулся Аникин, но исподнюю белую рубашку на голой,? груди застегнул.
– У него все домовитые казаки собрались. Тебя да Фрола Семиколенова поджидают, чтобы разговор зачать.
– О чем гутарить собираются?
– Придешь, узнаешь, а я пошел.
Аникин наспех оделся, тонким кавказским ремешком подпоясал синий праздничный зипун, для приличия пообещал Анастасии скоро возвратиться.
…В прохладной обширной горнице богатого казака Федора Кумшатского, владельца двух окрестных мельниц, пивоварни и многих сенокосов, сидело человек пятнадцать домовитых казаков. На столе стоял огромный жбан с медовухой, окруженный объемистыми глиняными кружками. Каждый, если хотел, подходил к столу и наливал себе по потребности.
Лука Андреевич, покашляв в кулак, про себя решил, что разговор предстоит, возможно, долгий и перед этим стоит промочить горло. Взяв жбан в руки, он доверху наполнил пустую кружку, медленно, со смаком причмокивая, выпил. Толстый, с лоснящимися красными щеками, будто их только что распарили, Кумшатский снисходительно улыбнулся:
– Коль Лука Андреевич прибыл, можно и начинать. Дайте ему лишь жажду молодецкую утолить.
Убранство просторной горницы кумшатского дома заметно отличалось от других казачьих куреней. Здесь висели на стенах дорогие персидские ковры, увешанные саблями, пистолетами и кинжалами, а на гравюрах и картинах, исполненных маслом, были запечатлены эпизоды былых сражений. На стульях лежали вышитые золотистой тесьмой мягкие подушки. Шаги любого вошедшего были неслышными, оттого что пол был устлан скрадывающими звук коврами. В углу золотился целый иконостас, а от серебряной лампадки стлался приторный запах деревянного масла. За стеклами высокого буфета серебром и никелем отливали лафитники, соусники, вазы и кубки заморского происхождения. Но самой большой гордостью хозяина были многочисленные кадки с домашними цветами: фикусы, папоротники, пальмы, колючие кактусы образовали целый ботанический сад. Среди них стояла низкая скамеечка, застланная цветным ковриком.
Сейчас в горнице были заняты пожилыми состоятельными казаками не только все стулья, но и жесткие дубовые диваны, приставленные к стенам. А на низкой скамеечке, посреди кадок с цветами, сидел самый главный из черкасских богатеев, худой и сутулый от бремени лет Фрол Семиколенов, и задумчиво гладил сверху вниз обеими холодными своими ладонями мягкую, совершенно седую бороду. Кумшатский отвесил ему почтительный поклон.
– Фрол Аникеевич, все собрались. Ждем твоего слова.
Старец встал и заговорил глухим тихим голосом, так что все остальные слушали его напрягаясь.
– Други мои и братья. Вот собрались мы в курене у верного товарища моего Феди Кумшатского, дабы обсудить, как же нам жить дальше. Длинно говорить не стану. Всем вам уже ведомо, что с высочайшего повеления царя-батюшки решено превратить сильный и древний наш Черкасский городок в обыкновенную станицу, а заместо него стольным городом Войска Донского сделать Новый Черкасск, что порешили обосновать на безводной горе в урочище Бирючий Кут. Завтра утром ударят в колокола и все черкасские казаки высыпят на майдан выслушать волю нашего атамана Матвея Ивановича Платова, который всем нам прикажет готовиться к переселению. – Фрол чуть-чуть усилил голос, и на впалых его щеках вспыхнул неяркий румянец. – Меня вот-вот господь бог с этой земли к себе призовет, но я в вашу пользу хочу высказаться. Вот мы собрались здесь, почти все домовитые казаки городка Черкаеека. А почему нас именуют домовитыми? Да потому, что мы своим горбом, не в пример запьянцовской гулящей голытьбе, нажили и дома, и подворье, и торговлишку кое-какую. С нами никто не волен не посчитаться. В наших руках и лучшие куреня, и животина всякая. Рыбная ловля, сенокосы, мельницы. Так неужто мы должны будем все это побросать и в почтенных летах начинать на новом месте все сызнова? Где же справедливость, я спрашиваю? – Он обвел покрасневшими слезящимися недобрыми глазами сидевших в горнице и сипло продолжал: – Это голытьбе, у коей ни кола ни двора и одна лишь вошь за пазухой всего капитала, той легко перебираться на новое местожительство. А мы ведь не из того теста слеплены. Мы так не можем, ибо для нас тронуться с места – это сплошное разорение, ни больше ни меньше. Верно ли я гутарю, станишники?
– Верно! – заорали в один голос сидевшие у самой двери братья Сипягины.
– По справедливости речь ведешь, Фрол Аникеевич, – пробасил неопрятно одетый и заметно хмельной прасол Митрий Коробков.
– Не можно нам переезжать в Бирючий Кут! – прорезал синий от горевшей лампады воздух горницы дискант рябого Власа Бирюкова. – Воспротивиться разом всем надо. Пусть и атаман к нам прислушается, раз считает домовитых первой опорой.
– Не поедем, пускай без нас новый город строится! Нам и здесь хорошо! Откажемся! – выплеснулись разгоряченные голоса. Федор Кумшатский с наслаждением растянул в улыбке красные влажные губы, такие толстые, что казалось, с них вот-вот закапает жир.
– Тише! Не все разом, станишники. Надо, чтобы каждый объявил свою волю отдельно. Я буду выкликать, а вы гутарьте. Братья Сипягины?
– Не поедем! – закричали со своего места оба брата.
– Кондратий Козорезов?
– Остаюсь в славном городе Черкасске.
– Назар Докукин?
– Пускай Новый Черкасск без меня строится, – ответил кривоногий моложавый казак под общий смех. Федор Кумшатский расцвел в новой улыбке.
– Молодцы, станишники… Давайте так и будем завтра на майдане держаться перед самим атаманом, и наша возьмет. Ты что скажешь, Лука Аникин?
Лука Андреевич почувствовал, как взгляды всех находившихся в горнице богатых казаков устремились на него. Аникин, растерянно озираясь, поправил полы темно-синего зипуна, зачем-то потрогал высокий, стоячий ворот домотканой рубашки.
– Я зараз еще не отвечу, – не поднимая головы, вымолвил он тихим-тихим голосом, который за неулегшимся шумом многими не был услышан.
– Что-что? – переспросил Федор Кумшатский. – Тише, станишники. Сказывай погромче, Лука Андреевич.
Аникин выпрямил плечи и остро взглянул на расшумевшихся домовитых казаков.
– Повоздержусь я трошки, станишники, – заявил он решительно. – С мыслями собраться надо, подумать. А зараз я к ответу не готов, не гневайтесь.
По горнице пронесся вздох недоумения, и стало тихо-тихо. Только Фрол Семиколенов, поглаживая седую длинную бороду, воскликнул с неодобрением:
– Вот тебе и накось! А мы-то ждали от него твердого казачьего слова. Утешил, Андреич, нечего сказать!
У хозяина куреня Федора Кумшатского с мясистого лица быстро сошел румянец.
– Ладно, Аникин, – сказал он примирительно, не без труда подавив в себе вспышку злости. – Думай. Да только пословицу не забывай про индюка, который думал, думая да и…
– У тебя памяти занимать не буду, – резко оборвал его Лука Андреевич и, нахлобучив на голову шапку с бархатным верхом, прямой походкой покинул курень.
На улице его опахнуло ночной прохладой, в глаза успокаивающе плеснулось темное небо с рассеянной среди звезд пыльцой. В черкасских домах уже угасал свет, доносился скрип уключин – очевидно, возвращался с лова рыбачий баркас. Чей-то старательный тенор выводил старинную добрую песню, и она далеко стлалась по-над разливом.
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, – все донские казаки.
После душноватой горницы Аникин вновь обрел легкое дыхание. Унялась кровь, стучавшая от волнения в висках. Неожиданно ему показалось, будто все казаки, с которыми он только что столкнулся, на одно лицо. «Как они орали, – подумал Лука Андреевич. – Не поедем, самому атаману скажем об этом, пусть без нас новый город строят!» Аникин вдруг поймал себя на мысли о том, что из тех пятнадцати казаков, которых застал он в доме у Федора Кумшатского, не было ни одного, кто бы рубился в составе платовских полков. Один только древний Фрол Семиколенов был на позициях, когда дрались на реке Калалалы, да и то в качестве фуражира. «Как же это так? – царапнуло его по сердцу. – Разжирели, разбогатели домовитые, да еще обидным словом „голытьба“ настоящих боевых казаков обзывают. И полагают, будто я с ними против нашего героя Платова пойду!»
Дома в нестройных фразах он тотчас же рассказал Анастасии и не успевшим отправиться на покой Любаше и Андрейке о сходке домовитых. Молодые молчали, вопросительно глядя то на хозяина, то на хозяйку, а жена Аникина не удержалась от панического восклицания:
– Батюшки-светы! Только жить стали как следует – и переезд. Неужто же все нам бросать: и курень свой чистенький, и баз, недавно достроенный, и скотинушку. Ить сколько все это собственными горбами наживали!
– Цыц, баба! – сердито осадил ее Лука Андреевич. – Такое великое дело творится, а ты хнычешь! И там заживем не хуже нынешнего. Только представь, какой будет столица Войска Донского город Новочеркасск! Золоченые купола к небу взметнутся. Чистенькие дома из камня со светлыми окнами и железными крышами нам, казакам, пожалуют. Атаман-батюшка верное дело замыслил, и мы, знать, поддержать его обязаны. Как на поле брани поддержать!
17
Ранним утром загудели все черкасские колокола, скликая казаков на майдан. Жители столицы Войска Донского еще не знали, зачем и почему зовет их этот неожиданный перезвон, но, вспомнив о былых сборах войскового круга, спешно одевались в самые лучшие кафтаны, зипуны и шаровары с напуском, обувались в начищенные до блеска сапоги, подпоясывались широкими разноцветными кушаками. В те давние времена колокольный звон был настолько прочной составной частью казачьего бытия, что без него ни старым, ни малым оно и не мыслилось. По каждому поводу у соборных колоколов был особый глас. Вот и сейчас звон был не густой и не переливчатый, каким обычно звали станичников к заутренней или вечерней службе, когда маленькие колокола били непрерывно и слитно, а большой величественною октавою лишь изредка вплетался в их хор. Сейчас колокола войскового собора звонили с длительными интервалами, словно после каждого удара размышляли упорно над необходимостью свершаемого.
«Бом… бом… бом…» – величественно вызванивал самый большой из них.
«Бом… бом… бом…» – вторил ему баритоном второй по величине.
«Бом… бом… бом…» – захлебывался самый маленький.
И, вслушиваясь в этот речитатив, черкасские казаки вспоминали былые времена, когда именно таким звоном разлучали их с еще теплыми от крепкого предутреннего сна женами и беззаботно посапывающими ребятишками, с уютом насиженных куреней, не обещая короткой разлуки, а то и возвращения на родное подворье вообще. Седлал казак коня, приспосабливал на твердую мускулистую спину его походный вьюк, брал саблю и пику и спешил на сборный пункт то ли для того, чтобы завоевывать для батюшки-царя и отечества новые земли, то ли для того, чтобы защищать от лютых врагов старые.
Когда-то майдан был всемогущим местом, где правил вольницей знаменитый казачий круг. Обществом избирался атаман, для того чтобы осуществлять доверенную власть во время всего, выборного срока. А кончался срок, он уступал свое место новому избраннику и без обиды и зла на сердце возвращался в строй рядовых казаков. Лишь самым большим любимцем своим продлевал войсковой круг срок власти.
Царь Петр нанес первые удары по казачьей вольнице, а матушка Екатерина довершила начатое им дело. С годами войсковой круг утратил свое былое значение и собирался лишь для того, чтобы донести до казачьих рядов уже принятое атаманом решение, либо по большим праздникам.
Разбуженный призывным гулом колокола, Лука Андреевич быстро облачился в зипун и шаровары, приоткрыл дверь, крикнул уже возившемуся на конюшне Андрейке:
– Слышь, парень, не в службу, а в дружбу, почисть сапоги!
– Сейчас, Лука Андреевич, – с готовностью ответил постоялец.
Принимая от него до блеска начищенные сапоги, Аникин услыхал тяжелый вздох.
– Что, парень? – спросил он сочувственно. – Жалкуешь, что тебя пока на круг не зовут? Погодь. Придет время, и тебя в казаки примут. Куда же девать такого богатыря.
Лука Андреевич подпоясал зипун, опушенный голубой каймой, шелковым кушаком, приладил к нему булатный нож, вложенный в черные ножны с серебряной оправой, надел на голову свою гордость – кунью шапку с бархатным верхом. В ту пору по-разному одевались на Дону. Военное обмундирование носили те, кто находился на службе. А в шумном и веселом Черкасске можно было увидеть казаков в кафтанах без рукавов из красного и голубого бархата с серебряными нашивками. Зажиточные казаки поверх таких кафтанов надевали еще самую главную часть одежды – длиннополый зипун.
Сколько былей и присказок ходило по Дону об этих самых зипунах. Отдавая им должное, казаки не без хитрецы говорили: «Зипуны-то у нас серые, да умы-то бархатные». А разного рода баталии, во время которых казаки уходили на большие расстояния от родных станиц, те так и назывались: «походы за зипунами», и даже пелось тогда: «по синю морю гулять, зипунов-то доставать».
А какие шапки и широкие шаровары носили тогда сыны Дона! А в какие яркие сафьяновые сапожки наряжались!
Беднота, конечно, выглядела гораздо проще, рядились кто во что горазд. Зипуны и шапки на бедных казаках были куда скромнее, да и серебряных ножен на кушаках не было видно.
Посмотревшись в зеркало, Аникин провел пальцами по жиденькой цепочке усов и подмигнул Анастасии:
– Смотри-ка, мать, а ведь еще в женихи гожусь!
– Да уж куда там, – незлобиво рассмеялась Анастасия. – С совком за тобой ходить надо.
– Это еще пошто?
– Песок собирать.
– Ну-ну, – погрозился Лука Андреевич. – Ты это зря, Я ить еще, знаешь, какой. Могу из похода такую красавицу привезть. – И с этими бравыми словами под смех развеселившейся супруги он покинул курень.
…Майдан пестрел яркими одеждами. Протискиваясь сквозь толпу, Лука Андреевич раскланивался с ветеранами, отвечал на почтительные приветствия молодых, с удивлением отмечая, что среди тех, с кем он побывал в баталиях и походах, так мало равных по зажиточности ему казаков.
Гул голосов плыл над широкой площадью и над отзвонившей колокольней войскового собора. Аникин подумал о том, сколько видывала центральная площадь донской столицы. Ступали по твердой ее земле мятежные атаманы Стенька Разин и Емелька Пугачев, помнила площадь горячие речи Кондратия Булавина. Да и теперь, чуть что, вспоминал атаман Платов добрые традиции и запросто выходил на народ. Лука Андреевич прошел в первые ряды, где надлежало ему быть вместе с именитыми казаками. Кто-то легонько тронул за локоть. Сладенько улыбаясь, склонился к самому уху Федор Кумшатский, вполголоса спросил:
– Ну что, Лука Андреевич, кончил думать аль нет? Слово свое веское сегодня выскажешь?
– Зараз, может, и выскажу, Федор, – неопределенно ответил Аникин.
– Ну-ну, – расплылся в льстивой улыбке Кумшатский еще раз. – Мы свое от атамана тоже не скроем.
На дощатый помост вспрыгнул войсковой писарь Спиридон Хлебников, поднял вверх правую руку и, закашлявшись, выкрикнул:
– Тише, станишники! Едут!
И застыла послушно толпа, запрудившая главную площадь Черкасского городка. Смолкли голоса, и все оборотили взоры в том направлении, в котором указывала вытянутая Спиридонова рука. Над широким переулком, успевшим просохнуть от недавно схлынувшей вешней воды, столбом стояла пыль. Глазам черкассцев предстала кавалькада нарядио разодетых всадников. Впереди на своем любимом жеребце белой масти ехал сам атаман Войска Донского. Пенилась розовая пасть норовистого скакуна, но Платов строго удерживал его от рыси, заставлял идти медленно, солидным шагом. Белые сафьяновые сапоги были твердо вздеты в стремена. Выехал он на майдан не в своей обычной генеральской форме, в какой всегда находился в войсковой канцелярии, а в праздничном старинном наряде войскового атамана. На голове прочно сидела кунья шапка.
Поверх белого узорчатого кафтана со стоячим воротником, подпоясанного красным с белыми полосами кушаком, был надет алый бархатный кафтан, отороченный золотисто-голубой строчкой каймы. Левая атаманская рука держала повод коня, а в правой была зажата сверкающая, высоко поднятая, тяжелая, золотом налитая булава. В Черкасске поговаривали, что этот символ атаманской власти, сотворенный из чистого золота, весил одиннадцать фунтов.
За Платовым, как и подобало на торжественных сборах войскового круга, на положенном удалении следовал адъютант, а еще чуть позади – нарядно одетые атаманы из Бесергеневской, Кочетовской, Раздорской и многих других станиц. Вся эта живописная кавалькада замерла по первому, знаку Матвея Ивановича. Подъехав к деревянному помосту, Платов легко для своих пятидесяти трех лет выпрыгнул из расшитого серебром и золотом седла, передал повод адъютанту и зычно крикнул, обращаясь к застывшей в почтительном молчании толпе:
– Здорово, казаки-молодцы!
– Будь здоров, отец-батюшка! – хором выкрикнули черкассцы, и крик этот был как из одной груди. В сопровождении станичных атаманов Платов взошел на помост, потряс над головой сверкнувшей ослепительным сиянием булавой и громко произнес:





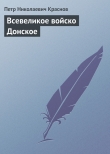


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)