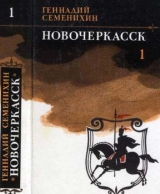
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 42 страниц)
Но однажды чуть было не случилось непоправимое. Время от времени по Аксайской улице, громыхая плохо смазанными колесами, проезжала телега, которой правил одноглазый Мирон, человек средних лет, угрюмый и нелюдимый. Рядом с ним почти всегда сидел конопатый подросток Филька с блеклыми равнодушными глазами, держа перед собой огромный сачок, предназначенный отнюдь не для ловли бабочек, а для погони за бездомными собаками. Впрочем, под бездомной подразумевалась любая псина, неосмотрительно удалившаяся от своего жилища. За спинами Мирона и Фильки вздрагивала на телеге решетчатая клетка, именуемая халабудой, в которой стонущими голосами молили о пощаде лохматые узники.
Телега эта обычно начинала свой путь почти от кирпичного завода, а завершала у Крещенского базара, на другом конце города. Мирон и Филька получали с отлова приличные комиссионные, поэтому обнаруживали отменное рвение в своей работе. При появлении халабуды тишину Аксайской улицы то и дело оглашали мальчишеские голоса: «Жорка, хавай своего Гвоздика, а то одноглазый Мирон в клетку посадит», «Митька, загоняй Тобика домой!».
Венька в тот день вышел на улицу в благодушном настроении. Его карманы были набиты белыми сухарями, предназначенными для Мурзы, и она, весело скаля зубы, уже бежала навстречу. Вдруг чья-то тень пересекла меж ними дорогу. Послышался отчаянный визг, и серый брезентовый мешок накрыл собаку. На всю Аксайскую разнесся безнадежный вопль.
– Дядя Мирон! – раздался торжествующий голос Фильки. – Смотри, на мыло какую принцессу поймал!..
– Герой! – лениво подтвердил одноглазый. – Только зачем же на мыло? Мы ее на коммерцию пустим, потому что собачонка знатная. Глядишь, и на полбутылочку дополнительно заработаем. Ась?
Веньку словно кто-то подтолкнул в спину. Горячая волна крови звоном ударила в виски, и он подбежал к вознице.
– Дядя Мирон, отпусти. Она не бродячая. Это наша собака.
Одноглазый Мирон сплюнул семечную шелуху и презрительно выговорил:
– А откуда ты взял, что не бродячая? Ежели на улицу выбежала, сталоть, уже и есть бродячая и по закону нам принадлежит. А ты еще несмышленыш и не ведаешь о том, что есть постановление. Там сказано, что всех бездомных уничтожать надоть, чтобы они бактерий всяких заразных не разводили, значитца. Ступай домой мамкину титьку сосать. Не дорос еще, чтобы мне указывать, я декрет сполняю.
За Мурзой уже защелкнулся замок, и она оттуда, из самой глубины клетки, с безмолвным отчаянием смотрела желтым глазом на одного только Веньку. И тогда мальчик понял, что, если не сделает сейчас чего-то решительного, собака погибнет.
– Дядя Мирон, выпусти! – закричал Венька. – Ты не имеешь права собаку мою убивать!
Одноглазый Мирон перестал лузгать семечки и расхохотался. Эта игра начинала его забавлять. За телегой мрачно шествовали аксайские мальчишки: Жорка Смешливый, Петька Орлов, Колька Карпов, Олег. Из ближних дворов выскакивали другие и примыкали к этой процессии.
– А ну геть, не то огрею! – погрозился Мирон и поднял кнут.
Венька сначала оцепенел, но вдруг какая-то непонятная волна будто бы подняла его на огромную высоту, и, уже ничего, кроме ярости, не ощущая, он схватил в руку тяжелый ноздреватый ракушечник и отчаянно закричал:
– Ребята, каменьями его! Каменьями!
…Позже, много лет спустя, когда надо было впервые в жизни подавлять огонь зениток, выплевывающих с земли в их одинокий Ил-12 десятки килограммов раскаленного металла, он вспомнил этот случай из затуманенного временем детства, чтобы отвести от себя волну страха, и это удалось…
Венькин камень-ракушечник попал в спицу колеса и раскололся желтыми брызгами. Камни других ребят застучали по клетке с собаками. Филька трусливо схватился ладонями за виски.
– Дядя Мирон, они же головы нам пораскровянят…
– Погодь! – сурово оборвал его одноглазый и остановил телегу как раз на самом скрещении Аксайской и Барочной. Из окон якушевского дома все происходящее было видно, как на ладони, и Венька похолодел при мысли, что отец или мать станут невольными свидетелями всей этой баталии.
– Погодь! – повторил Мирон. – Я из него сейчас мокрое место сделаю, ноги из задницы повыдергиваю!
Одноглазый грозно шагнул к Якушеву, и Венька почувствовал неодолимую тяжесть в коленях, словно какая-то сила приковала его к земле. Другие ребята попятились. Один Жорка Смешливый поднял увесистый кирпич и, сверкая глазами, крикнул:
– А ты его отпусти, дядька. Отпусти, слышишь, не то…
– Что «не то»?.. – осклабился Мирон.
– По кумполу тебя тресну! – решительно сказал Жорка и выругался так длинно и замысловато, как только на Аксайской умели ругаться.
Одноглазый, готовившийся схватить Веньку за руку, вдруг повернулся к нему спиной и шагнул к Смешливому.
– Венька, беги! – крикнул Жорка товарищу, но увидел, что тот не двинулся с места, лишь наклонился и взял в руку второй кирпич.
– А я его не боюсь! – закричал вдруг Венька. – Убивать будет – не испугаюсь. Живодер, палач, белогвардеец… Только тронь Жорку, я тебя по затылку сзади!..
– Пацаны, а мы? – крикнул самый старший из всех Колька Карпов, и все как по команде потянулись за камнями.
Пожалуй, во всем Новочеркасске не дрались так мастерски камнями, как на окраине, и не одна лихая голова облачалась после таких драк в белые бинты, которые то и дело темнели от крови. Трудно было сказать, чем бы закончилось столкновение десятка мальчишек, воинственно державших в руках кирпичи, с ловцами собак, если бы не раздался в эту минуту веселый бас:
– А ну-ка, станишники, докладайте, что здесь происходит и по какому случаю вы такие всклокоченные?
Это от бугра вверх по Барочной улице, лениво поплевывая желтыми тыквенными семечками, поднимался веселый богатырь Ваня Дронов. Был он по какой-то причине принаряжен: белая рубашка с воротничком апаш, открывающим сильную, коричневую от раннего загара грудь, белые, наглаженные в стрелку парусиновые брюки, белые туфли, начищенные разведенным зубным порошком. Дрон добродушно улыбался, демонстрируя свои идеально белые зубы. Обращаясь к одному Петьке Орлову, сказал:
– Так что здесь случилось?
– Он нас побить хотел, – хмуро ответил Петька Орлов.
Дронов небрежным взглядом удостоил охотника за собаками и произнес:
– Осмелюсь спросить, по какой такой причине ты, дядя, хотел побить моих станишников? Чем тебе помешали эти пацаны, если не секрет?
У Мирона яростно засветился зрячий глаз:
– А тебе какое дело? Почему я отчитываться перед тобою должон?
– Раз на нашу Аксайскую заехал, значит, должен и отчитываться, – спокойно пояснил Дрон.
– Вон тот сопляк, – кивнул ловец на Веньку, – требует, чтобы я белую лайку выпустил. Говорит, его. А я на улице ее словил как бездомную.
Улыбка на лице у Дрона стала прямо-таки нежной.
– Слушай, – сказал он крайне миролюбиво и ласково прикоснулся к руке Мирона. – За чем же остановка? Надо ли ссориться по пустякам? Ты возьми да и выпусти эту лайку, раз она пацану принадлежит.
– Дык я, – вдруг поперхнулся одноглазый, – дык я зараз ключ от замка туточки потерял, пока с пацанами ругался. – Он пробормотал еще несколько слов и, чувствуя всю несостоятельность своего вранья, умолк.
– Гм… – вздохнул Дрон. – Верю тебе. И такое бывает… бывает, что и медведь летает. Дай-ка я погляжу замок, может быть, мы и без ключа управимся.
Не дожидаясь согласия, Дрон обошел клетку сбоку, остановился у закрытой двери, недоуменно пожимая плечами, и вдруг накрыл замок огромной своей лапищей. Хлипкий замок жалобно пискнул и, весь погнутый, упал в уличный песок.
– Гм… – протянул Дрон, – а я и не думал, что это так просто. Трухлявый он у тебя вроде был.
Одноглазый Мирон, белый от гнева, не проронил ни одного звука.
Ваня же Дронов рывком распахнул дверь и весело закричал:
– А ну, отродье собачье, зараз разбегайтесь во все стороны, пока я добрый. Зараз этому дяде валерьянка потребна, а у меня один скипидар в наличии.
Полканы и барбосы с радостным визгом повыпрыгивали из клетки и разбежались во все стороны. Одна только Мурза вышла в какой-то растерянности и, задрав острую мордочку, долго осматривалась. Увидев Веньку, повизгивая, бросилась к нему, лизнула руку. Желтые глаза ее подернулись слезой, как показалось Веньке. Да и на самом деле, видно, растрогалась спасенная, радуясь своей удачно сложившейся собачьей судьбине.
– Вишь, как она тебя благодарит, – пробасил Дрон. – Все зверина бедная поняла. – И, неожиданно посуровев, добавил: – А теперь бери свою псину, парень, и марш домой. Да чтоб на улицу одну больше не выпускал.
Увидев входившего в калитку в сопровождении белой лайки с желтыми подпалинами Веньку, Надежда Яковлевна всплеснула руками:
– Боже мой! Да откуда ты этого зверя привел? Ее же хозяин, наверное, ищет.
Венька отрицательно покачал головой:
– Что ты, мама, у Мурзы хозяина нет. Она коммунальная собака. Кто хочет, тот и кормит, куда пустят, там и ночует. А сегодня ее как бездомную уничтожить хотели. Если бы дядя Дрон не заступился, жизни лишили бы. А за что? Какие злые бывают люди, вроде этого одноглазого Мирона. – И Венька подробно рассказал о том, что произошло на Аксайской улице, как хотели увезти Мурзу и как дружно защитили ее ребята, а добродушный Дрон поставил победную точку своим вмешательством в их сражение. Мать выслушала его не перебивая и ласково потрепала по щеке.
– Ты еще несмышленыш, Веня, – сказала она задумчиво, – а мир такой сложный, что не всегда и взрослые в состоянии его понять. Вот ты защищал собаку и считал, что был полностью прав. А эти люди, которые поймали Мурзу на улице, тоже считали, что они правы, потому что выполняли свой долг. Ведь бездомные бродячие псы иногда опасны, потому что становятся разносчиками болезней и заразы. Ты меня понял, сынок? Ведь и это правда.
– Понял, мама, – не сразу согласился Венька. – Значит, и у нас с дядей Дроном была правда, и у одноглазого Мирона тоже?
– В какой-то мере так, – смущенно согласилась Надежда Яковлевна.
– Мама, а разве две правды быть могут?
– Да видишь ли, – неожиданно запнулась Надежда Яковлевна, – на одно и то же событие можно ведь по-разному смотреть.
Венька вздохнул и, нахмурившись, покачал головой.
– Нет, мама, – сказал он решительно, – правда может быть только одна. Как в любой сказке. Или правда, или неправда. И во всем мире все, как один, правду должны считать правдой, а неправду неправдой.
Мать рассмеялась, карие глаза ее вспыхнули. Мальчику всегда казалось, что в такие минуты в эти глаза залетают веселые птички и делают их добрыми-добрыми.
– Не знаю, сынок, – озабоченно сказала она, – только мне кажется, что если бы так было, в мире стало бы скучно. Ты этого еще не поймешь, но там, где не спорят и не стремятся к лучшему, жизнь начинает закисать. Иди-ка ты лучше играть с собакой, мой маленький философ.
– Нет, мама, – повторил решительно Венька, – правда может быть одна.
В тот вечер отец пришел с работы очень поздно. Венька был разбужен голосами родителей. Отец и мать спорили. Как и всегда, когда бывал не в духе, Александр Сергеевич говорил предельно тихим голосом. Он давно выработал тактику утверждать таким образом свое превосходство над собеседником, давая понять оппоненту, что его точка зрения очевидна и ни в каких пространных аргументах не нуждается. Однако Надежда Яковлевна была вовсе не тем собеседником, который складывал оружие от вкрадчивого голоса. Она лишь больше распалялась, доказывая свое. Венька прислушался.
– Какая ты чудачка, Надюшенька, если так упрямо отстаиваешь эту свою точку зрения, – говорил отец. – По-твоему, улица облагораживает ребенка и готовит его к выполнению обязанностей гражданина в обществе? Какое потрясающее заблуждение! Улица – это рассадник дурных привычек, хулиганства, нигилистического отношения к взрослым. Улица – это тлетворное влияние на формирование характера. Да-да! И не случайно в старые времена первое, что делали обеспеченные люди, так это ограждали своих детей от уличного влияния. Ну скажи на милость, Надюша, чем ты восхищаешься? Тем, что наш лоботряс во главе оравы ему подобных пытался забросать камнями человека, исполняющего служебный долг?
– Негодяя, Саша! – пылко перебила мать. – Негодяя попытавшегося растоптать чувство сострадания ребенка к беззащитному невинному животному.
Александр Сергеевич вдруг запнулся, и его лысина покрылась мелкими каплями пота.
– Не знаю, не знаю, – проворчал он, – но ты пойми, что получается. Сегодня, не согласившись с действиями взрослого, он запустит в него камнем, а года через три-четыре в такой же ситуации пырнет кого-нибудь ножом. Вот что такое твоя улица.
– Неправда! – резко воскликнула мать, подавив горький вздох. – Сегодня наш мальчик проявил смелость и заслуживает одобрения. Эх, если бы жив был твой брат Павел!.. Вот бы в ком я нашла сейчас союзника. Он бы меня понял. Ведь только так, а не иначе, в столкновениях с опасностью воспитываются и благородство, и мужество. И наш Веня сегодня меня порадовал. Смелость в нем подлинная проснулась, Саша, а ты ворчишь, вместо того чтобы сказать доброе слово.
Александр Сергеевич расстегнул косой ворот серой сатиновой рубашки и, желая поскорее уклониться от спора, буркнул:
– Как зовут собаку?
– Мурзой.
– Это что еще за имя? Татарское, что ли?
– И вовсе не татарское, – закричал из-под одеяла Венька, – Мурза – это по-настоящему Мурзилка. Вот как.
– А ты не вмешивайся, когда мы с матерью разговор ведем! – сердито выкрикнул Александр Сергеевич. – Ишь моду завел! – Но тут же потеплевшим голосом прибавил: – Повежливее себя веди, если хочешь, чтобы мы эту собаку оставили.
– Оставь, папа!.. – попросил Венька. – Собака – друг человека, неужели ты ее прогонишь? Мурза хорошая, добрая и настоящая сибирская лайка. А из того двора ее все гонят.
– Так и быть, если хулиганить перестанешь, – решил отец.
И Мурза осталась жить на широком подворье Якушевых.
Утром прошел по-летнему короткий проливной дождь, а потом пригрело солнце, и земля на знаменитом бугре, где собирались мальчишки со всей окраины, снова затвердела. Венька Якушев, накормив Мурзу остатками вчерашнего холодного борща, шмыгнул в калитку. У врытого в землю столбика сидели почти все ребята, участвовавшие во вчерашней баталии, и, ожесточенно жестикулируя, пересказывали друг другу подробности спасения лайки. Веньку они засыпали градом вопросов:
– Дома тебя не били?
– А Мурзу оставить пахан разрешил?
– Какой такой пахан? – удивился Венька.
– Чудак, – осведомленно пояснил Петька Орлов. – Все-таки ты интеллигенция. В тюрьме пахан – это самый главный среди жуликов. Понял? А дома у тебя кто самый главный? Отец, потому что он деньги приносит. Вот и надо его паханом называть.
Рыжий Жорка, с уважением поглядев на соседа, покачал головой:
– А здорово ты в этого дылду одноглазого каменюкой запустил!..
– А что, ребята, мы его бы и сами одолели, если бы Дрон не подоспел, – шмыгнув носом, заявил Петька Орлов. А Олег Лукьянченко неожиданно спросил:
– Венька, а почему ты нам про своего дядю Павла никогда не расскажешь? Это правда, что у него два ордена. Красного Знамени было?
– Правда, ребята, – смущенно подтвердил Венька, – дядя Павел даже у самого Фрунзе служил, когда красные войска на Перекопе стояли.
Петька Орлов, что-то царапавший на земле железным прутиком, уставившись сонными глазами на Веньку, полюбопытствовал:
– А это правда, что тот гад Прокопенко, который твоего дядю Павла приказал убить, перед расстрелом на коленях ползал, пощады просил?
– Нет, – покачал головой Венька, – не так все было. Отец говорил, будто он слезинки не проронил, и все о том твердил, как Советскую власть ненавидит. Даже пена на губах вскипала. Плакал другой. Тот, что в дядю Павла стрелял. По земле ползал, за сапоги красноармейцев хватал. А Прокопенко – нет.
Венька вдруг задумался и всхлипнул. Убоявшись, что ребята его осудят, поспешно вытер слезы. Но ребята уважительно промолчали, один Жорка после долгой паузы сказал:
– Ну и гад же был этот Прокопенко! Откуда он только три ордена боевых взял? А врал про себя как! Я один раз с ребятами по городу за ним бегал, когда он рассказывал, будто сам Буденный ему серебряный наган подарил.
– Серебряных наганов не бывает, – возразил Петька Орлов.
– Ну, может, не серебряный, а с серебряной дощечкой, – согласился Смешливый. – Не в том дело. Главное, что он был подлый гад. Скажи, Венька, а дядя Павел часто к вам приезжал?
– Часто.
– А чего же ты нам его ни разу не показал?
– Отец запретил мне и Гришке об этом говорить на улице, – не поднимая головы, ответил Венька.
– Ребята, айда на речку, – позвал Жорка Смешливый, чтобы хоть как-нибудь завершить грустный разговор. Все дружно повскакали и сбежали с крутого бугра на железнодорожную насыпь, откуда до аксайской воды было рукой подать.
Желтыми песчаными языками врезались в речку два мыса, облепленные купальщиками. Один именовался «девчачкой», другой «ребячкой». Едва успели раздеться, как к ним подошел незнакомый мальчишка лет тринадцати с наколкой на правой руке. Зеленые нагловатые глаза почему то сразу задержались на Веньке:
– Ты… шкет, давай драться.
По законам окраины отказываться от вызова не полагалось, но, желая уберечь от поражения Веньку, Петька Орлов зло сказал:
– Совесть имей, он же на полголовы тебя ниже и на четыре года младше.
– А я что, – смутился парень, – я же с ним не на две руки буду. Я его на одну левую вызываю.
– А-а, – протянул Петька, не находя веских аргументов, чтобы расстроить их поединок. – Тогда другое дело.
– Ну давай! – выкрикнул парень, и они закружились. Сцепив зубы, Венька кочетом наскакивал на противника. Незнакомый парень твердо держал слово – дрался одной левой, пряча правую за спиной. Видимо, этот неравный бой и потешная петушиная Венькина поза доставляли ему удовольствие, как и то, что несколько совсем несильных ударов противника попали ему в локоть. Взъерошенная голова Веньки и его злостью поблескивающие глазенки лишь усиливали веселое настроение парня.
– Давай, давай, – подзуживал он. Один раз Венька изловчился, подпрыгнул и тычком ударил парня в нос, да по-видимому, настолько больно, что тот замотал головой и свирепо заорал:
– Ах, ты так? Ну держись!..
И Венька моментально получил такой удар в скулу, что искры заплясали у него перед глазами.
– Хватит, что ль? – ухмыльнулся парень.
– Нет, давай еще! – азартно закричал Венька. – Чего отступаешь? Трусишь?
Но парень опустил руки и беззлобно заявил:
– Нет, я больше с тобой связываться не стану, шкет.
Петька Орлов и Смешливый отвели его в сторону и стали о чем-то шептаться. Парень слушал, огорченно покачивая головой. Потом опять приблизился к Веньке, тихо спросил:
– А это правда, что ты племянник Павла Сергеевича Якушева?
– Правда, – неохотно буркнул Венька.
Незнакомый парень подставил загорелую щеку:
– Бей! Я сопротивляться нисколечки не стану.
– Не буду, – нахмурился Венька, – это же не по правилам.
Но парень, не слушая, продолжал:
– Бей сколько хочешь. Если бы я знал, что ты племянник Якушева, пальцем бы не тронул. Любому обидчику шею бы свернул. У меня, пацан, отец тоже на Перекопе воевал, и пустой рукав вместо правой руки домой принес. Он много про твоего дядю рассказывал. Даже на одной фотографии с ним вместе. Клянусь богом! Меня Сашкой Климовым зовут. Глядишь, когда и пригожусь тебе. – Он подошел, деловито ощупал покрасневшую скулу, кратко изрек: – Надувается. Плохо. Синяк будет. От отца или матери попадет.
– А может, еще пройдет? – с надеждой спросил Венька.
Климов порылся в кармане, вытащил оттуда тяжелый красно-медный пятак, деловито протянул:
– Бери, прикладывай. Вдруг поможет? Единственное средство.
Но как ни старался Венька, а шишак от удара все надувался и надувался. Он вздохнул и поплелся домой, заранее предвидя сцену, которая его ожидает. Шагавшего рядом Жорку Смешливого в последней безрадостной надежде спросил:
– Каеш, а Каеш… синяк проходить не стал?
Жорка осмотрел его с педантичностью профессионального фельдшера и, безутешно покачав головой, даже не ответил на вопрос своего друга.
– Понимаешь, матери я не боюсь, – все поняв по его сострадательному вздоху, вымолвил Венька, – а вот отец…
– Что отец? – спросил Смешливый. – Он же у тебя добрый. Неужели бить станет?
– Нет. Он меня никогда не бьет. А вот причитать как начнет, так уж лучше бы побил. «Ах, Венечка, Венечка, у тебя тут кровь, – передразнил он отца. – Еще бы на сантиметр выше тебя ударили, и без глаза бы остался, циклопом на всю жизнь. Давай поскорее тебе йодом смажем». А йод, Жорка, ты знаешь, как щиплет…
– Зачем же на синяк йод? – рассудительно осведомился Смешливый. – Йод на открытую рану лить надо.
– В том-то и дело, – вздохнул Венька. – Но мой отец считает себя великим лекарем. У него в коридорчике стоит целая тумбочка с пузырьками и мазями, ватой и бинтами. Чуть простудился: «Венечка, пей горячее молоко, а я тебе туда две капли йода из пипетки капну». На гвоздь напоролся – тоже йод да ихтиолку на царапину.
– А если живот схватит и на горшок потянет? Тогда тоже йод?
– Тоже, – согласился Венька, и мальчишки расхохотались. – Эх, если бы меня мать одна встретила, – мечтательно заключил он, издали завидев крышу своего дома. Но и этой его надежде не суждено было сбыться. Оказалось, что отец по каким-то причинам возвратился из техникума очень рано.
– Где это ты запропал? – окликнул он сына, не выходя из кабинета. – Мой, пожалуйста, руки – и марш за стол. Мама уже суп разливает.
Венька стремглав бросился к умывальнику, а затем на кухню, где они обычно обедали, когда не было гостей. Тарелки с дымящимся фасолевым супом уже стояли на клеенке. Вошла мать, неся в руках блюдо с котлетами и жареным картофелем, весело осведомилась:
– Проголодался небось, Венечка. Твоя Мурза оказалась великолепной собакой. Уж такая ласковая да понятливая. Отец считает, что ее по ночам надо сажать на цепь, чтобы злее была.
Венька предусмотрительно сел в тесный угол под единственную икону, с которой безмолвно смотрел бледно-восковой апостол Павел. Ее присутствие в семье неверующих Якушевых объяснялось очень просто. Икона эта когда-то принадлежала матери Александра Сергеевича Наталье Саввишне и осталась как память.
Все были голодны, и ложки очень быстро застучали по дну тарелок. Говорили о всяких пустяках. У отца проштрафился какой-то студент, и тому был поставлен неуд, мать сокрушалась, что зря отвела во дворе целую грядку под арбузы и, судя по всему, урожая не будет. «Кажется, ничего не заметили, – обрадованно подумал Веня. – После обеда сразу лягу в постель, скажу, подремать захотелось. А к вечеру синяк и пройдет».
– Мама, – просительно заговорил он, – можно, я кисель с вами кушать не буду? Я уже супом и котлетами объелся.
– Можно, – спокойно ответила мать, а отец как-то внимательно посмотрел на него и прищурился.
– Можно, сынок, – согласился он. – Но прежде чем покинуть весьма скучное общество своих родителей, не сумеешь ли ты ответить на один вопрос?
– На какой, папа? – насторожился Венька.
– Поведай нам, отчего в этой комнате стало столь светло.
– Это оттого, что за окнами лето.
– А еще почему?
– Не знаю, – заерзал на стуле Венька. – От солнца, наверное.
– А по-моему, не столько от солнца, сколько от фонаря, который в данное время так ярко освещает паше жилище.
– От фонаря… Шутишь, что ли? Про какой фонарь ты говоришь?
– А про тот, сынок, – ехидно улыбнулся отец, – который так уютно устроился под твоим правым оком. Его еще синяком именуют.
– Какой синяк? – запротестовал Венька, понимая, что минута расправы наступила. Отец и мать были сейчас похожи на двух прокуроров, которым принесли неопровержимое обвинительное заключение. Но всему наперекор сын перешел в яростную атаку:
– Какой еще синяк ты выдумал? Нет у меня никакого синяка. Это тебе показалось.
– Показалось? – суховато переспросил Александр Сергеевич. – Мать, принеси ему зеркало. Да не какое попало, а наше самое лучшее, фамильное, в оправе из слоновой кости. Наш наследник давно уже себя не лицезрел.
Надежда Яковлевна с удовольствием выполнила просьбу. Тонкие ее губы так и вздрагивали от сдерживаемого смеха:
– На, Венечка, полюбуйся.
Сын взял зеркало в руки: оттуда на него глянул глаз, наполовину заплывший от фиолетового синяка.
– Странно, – пробормотал Венька, – а я и не заметил. Откуда же он?
– Вот и я хотел полюбопытствовать, сынок, кто это тебя так вздул, – уже без улыбки проговорил отец. – Шутка ли сказать, ударил бы тебя этот матерый хулиган на два сантиметра правее. – и мог бы оставить навсегда без глаза.
– Меня никто не бил, ты выдумываешь, – заверещал Венька, – это меня калиткой стукнуло.
– Ка-лит-кой? – по слогам произнес отец и усмешливо посмотрел на мать.
– Да-да, калиткой! Мы стояли с Олегом у его ворот, подул ветер, и калитка бац меня по лицу… Вот и все.
– Здорово, Венька, – захохотал Александр Сергеевич. – Да ты, оказывается, врешь поскладнее барона Мюнхаузена, про которого я тебе книжку читал. За окном такая жара, что ни один листок не колышется. Олегова же калитка весит не менее двух пудов. Как же она могла тебя ударить в такую безветренную погоду? Это что-то новое в науке.
– А вот и ударила! – исчерпав все аргументы, выкрикнул Венька и стремительно выбежал из комнаты, считая себя смертельно обиженным.
Много лет спустя, вспоминая об этом эпизоде, он подумал, как иногда важно отстаивать свою точку зрения. И, вероятно, как огромное человеческое счастье, отпущенное ему на долю судьбой, оценивал он способность в самые последние мгновения подавлять в себе опасные колебания, а если говорить точнее, то страх, и ощущать, как ему на смену приходит боевой азарт и презрение к опасности, которых не счесть в боевом полете. И, возвращаясь живым и невредимым на свой аэродром, перебирая в памяти все подробности того, что было в бою, беспокойно ворочаясь ночью на жестких нарах фронтовой землянки, Вениамин Якушев вспоминал родную новочеркасскую окраину и мысленно обращался к своим родителям: «Милые мои старички! Сколько вы сделали для меня, родные! Как тяжело вам давались мои первые шаги по земле в дни голода и невзгод, как согревали вы меня своим дыханием в колыбели и радовались моему первому слову, с какой самоотверженностью выхаживали от брюшного тифа, когда жизнь пыталась навсегда покинуть мое слабеющее тело.
Есть разные единицы измерения подвига. Одна из них – мужество при спасении утопающего или доброта, при которой ты способен поделиться с ближним последней коркой хлеба, другая – способность отстоять и поставить на ноги человека, увидевшего белый свет после своего рождения в дни голода и разрухи, воспитать его добрым и справедливым ко всему окружающему, способным отличать правду от лжи, ясность души от скрытого в ней лицемерия, приучить к труду во имя счастья себе подобных. И лишь в одном вы были неправы, утверждая, что влияние улицы – тлетворное. Нет, уберечь наша Аксайская улица от дурного могла, потому что и она пробуждала в нас, мальчишках, чувство локтя и дружбы, непримиримость к противникам и осуждала осторожность, к которой вы пытались меня приучить, милые мои старички».
Так думал Вениамин Якушев в бессонные фронтовые ночи накануне очередного летного дня, с тоской вспоминая родную окраину и друзей-одногодков, разлетевшихся но всем фронтам после 22 июня в памятном сорок первом году, который черной тучей накрыл тогда нашу землю.
В отличие от брата Гришатки, обожавшего истории про пиратов и свободолюбивых индейцев, больше всего любил Венька вечерние отцовские рассказы о донском атамане Матвее Ивановиче Платове. Он почти наизусть знал все, о чем по вечерам говорил им Александр Сергеевич, и, если отец не был последователен при изложении какого-нибудь сражения или эпизода, сын бесцеремонно перебивал своего родителя:
– Нет, папа. В Петропавловскую крепость Павел Первый заточил Платова еще до похода донских казаков в Индию.
Либо:
– Тут ты ошибся. Платов со своими войсками в Новочеркасск из Парижа не в мае, а осенью пришел.
Александр Сергеевич в такие минуты ласково поглядывал на супругу:
– Смотри, Наденька, в нашей семье растет Иловайский.
Но никто не подозревал, какие бурные фантазии возникали в пылком воображении мальчика в те часы, когда в доме Якушевых гасла последняя керосиновая лампа. Лежа с закрытыми глазами на своей жестковатой кровати, Венька отчетливо видел скачущих всадников, их кивера и высоко поднятые сабли, дымки орудий, расплывающиеся над бородинским полем, карету, в которой убегал из Москвы потрясенный Бонапарт. Тем более никто не мог предположить, что теперь каждое событие в своей жизни мальчик связывает с Платовым.
Однажды в корзине, набитой книгами, Венька нашел прейскурант цен на музыкальные инструменты. Он равнодушно перелистал страницы с красочно изображенными на них гитарами, мандолинами и балалайками и уже готовился отложить его в сторону, как вдруг одна из картинок привлекла его внимание. На ней был запечатлен старик в белой чалме. Он играл на серебряной дудочке, а у ног его извивались три очкастые кобры.
– Мама, кто это такой? – спросил Венька у Надежды Яковлевны.
Мать всмотрелась в рисунок.
– Это индийский заклинатель ядовитых змей, – сказала она.
– А почему же змеи его не кусают?
– А ты видишь – он им играет?
– На этой вот дудочке?
– Это не дудочка, Веня, а флейта, тончайший музыкальный инструмент.
– И они его слушают?
– Они до того зачарованы его музыкой, что не могут даже двинуться с места. Мне сейчас некогда. Придет отец, расспроси его.
Венька с трудом дождался отца.
Тот очень долго, как показалось Вене, плескался над тазом, смывая с лица пыль и усталость, однако пребывал в хорошем расположении духа.
– Геодезическую практику завершил, Наденька, – улыбнулся он матери, – еще с недельку потрудиться осталось – и два месяца отпуска.
– Папа, – перебил Венька, – ты мне про этого старичка расскажи. – И протянул ему прейскурант. Отец близоруко взглянул на текст.
– О! – воскликнул он весело. – А ведь в его руках флейта.
– А флейта правда хороший инструмент?
Легкое облачко печали тронуло лицо отца:
– Ты знаешь, когда в опере дают «Ивана Сусанина», то перед тем, как подняться занавесу, оркестр исполняет увертюру. И боже мой, какая это увертюра, какие великолепные партии у скрипок, виолончели… И какой нежной становится музыка великого Глинки, когда в нее вплетаются флейты. Впрочем, если она в талантливых руках, флейту и одну слушать можно. Хочешь, я расскажу тебе маленькую историю? – Отец вытер руки розовым полотенцем и, сев на табуретку, разложил его на своих коленях. – Один древний город, разоренный врагами, неожиданно подвергся нашествию голодных крыс. Крысы ворвались в него через главные ворота, загрызли стражников и широким потоком хлынули в город. Даже на вторые этажи домов забирались по лестницам. Все живое на своем пути уничтожали. Во дворце ужасный переполох. Бледный от страха царь собрал свою свиту и сказал придворным: «Что будем делать? Мы обречены на гибель. Кто спасет нашу страну, тому пожалую самую высокую награду». В зале воцарилась гробовая тишина. Молчали мудрецы, знатные придворные, и самые храбрые воины в том числе. Да ведь и что мог сделать любой отважный воин со щитом и мечом своим с миллионами крыс? Убил бы тыщу, а остальные все равно его загрызли бы. И вдруг из самого заднего ряда выступил старичок аптекарь в белой чалме с длинной седой бородой и, волнуясь, сказал: «О великий государь! Я могу спасти наше отечество». «Ты? – удивился царь. – Да если ты это сделаешь, я велю наградить тебя десятью бочонками золота. Но если солжешь, прикажу бросить в темный подвал, чтобы крысы съели тебя самого». Старичок покачал головой и спокойно ответил: «Мне не надо твоего золота, государь. Подари мне навсегда ту серебряную флейту, что висит в твоем тронном зале на стене, и я отправлюсь спасать наш народ». Старичок получил флейту и покинул дворец. Крысы немедленно окружили его со всех сторон, готовясь загрызть. Но вдруг заиграла серебряная флейта, и они словно окаменели. А старичок спокойно направился сквозь их полки к городским воротам, вышел из них, продолжая играть, и увел из пострадавшего города всю крысиную армию. Долго он вел их по пустыне под палящим солнцем, пока не приблизился к подножию высокой-высокой горы. Вздохнул от усталости и стал подниматься, а крысы – за ним под звуки флейты. Но на большой высоте они стали тысячами отставать…





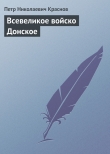


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)