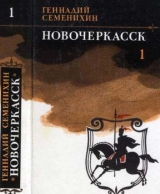
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
– Отец, можно тебя на минуту?
Каждую неделю Александр откладывал от жалких гривенников, выдаваемых ему на завтраки, по две-три копейки, чтобы к концу недели купить что-нибудь отцу: либо немного халвы, которой тот любил лакомиться, либо кусок колбасы с мягким ломтем пышного белого каравая, порой еще горячего. Он знал, где можно было найти в эти часы своего родителя, но о его возникшей дружбе с Изучеевым ничего не ведал и поэтому был растерян от неожиданности.
– Ты не вставай, – сказал он, заметив, что отец подтягивает к себе палку с оленьей головой. – Вот, возьми, а я помчусь домой, а то много уроков задали, – закончил он, передавая пакет. Старик благодарно прижал подарок к груди, но сына не одобрил. Поглядев на него в упор слезящимися от солнца и ветра глазами, грустно покачал головой:
– Да как же так, сынок… Саша… я тебя с добрыми людьми хочу познакомить, а ты стрекача норовишь задать.
Незнакомый крепкий мужчина в запыленной и запачканной известью блузе шагнул навстречу, протягивая руку:
– Не годится, молодой человек. Мы с дочкой просим, а вы…
Пришлось повиноваться. Саша и не заметил, как его ладошка потонула в большой сильной ручище каменщика. От незнакомца веяло здоровьем, силой и добротой. Наденька с пунцовыми от волнения щеками сделала реверанс.
– Ну вот, дорогой Александр Сергеевич, – одобрительно сказал незнакомец, – меня кличьте Яковом Федоровичем, дочь мою – Надеждой. Погутарьте друг с дружкой, а мне от туда зараз надо, – указал он жилистой рукой на самую высокую из всех возводимых стен собора. – Дело такое. Там я действительно на высоте буду. Выше самого царя земного. А? – И он озорно подмигнул, удаляясь от них.
Несколько минут спустя высоко над землей и булыжной площадью столицы Войска Донского поднялись «качели» Изучеева, и все трое оставшихся на земле увидели его гибкую, уменьшенную расстоянием фигуру. Ловко наклоняясь и выпрямляясь, Яков Федорович выполнял свое рискованное дело.
– Надя, а ему там не страшно? – нерешительно спросил Александр.
Девочка окинула его быстрым взглядом.
– Да что вы! Мой папа ничего не боится, – ответила она гордо.
– Но ведь на такой высоте опасно?
Наденька опустила коротко стриженную головку и вздохнула.
– Опасно, – горько подтвердила она. – Так бывает опасно, что однажды я слышала сама, как мама ночью плакала, а папа ее утешал. И говорил при этом: «Потерпи, скоро я уйду. Вот кончится подряд, и уйду. А пока надо терпеть, потому что мы больше нигде не заработаем таких денег». – Девочка вдруг прервала свою речь и так неожиданно перескочила на другую тему, как одни лишь подростки умеют это делать. – Вы к нам приходите, Саша, – тряхнув белым бантом, сказала она. – Мама и папа будут очень рады. Вы ведь на два класса старше меня. Так что, если задачки будут плохо решаться, попрошу когда-нибудь помочь, а не сможете, будет стыдно, как старшему.
– Я задачки в уме решаю, – надулся Александр, – даже корни квадратные извлекаю. Меня за это Пал Палыч в пример всему классу ставит.
– А меня он тупенькой считает, – со смехом призналась Надежда. – Он же и у нас математику преподает.
В эту минуту старый Якушев встал со скамейки и неуверенными шагами двинулся к дому. Надя связала в узел освободившуюся посуду и попрощалась. Саша догнал отца, поддерживая за локоть, повел по улице. Вечером после ужина он сдержанно спросил у отца:
– Ты завтра снова пойдешь гулять к собору?
Старый Якушев погладил его по голове:
– Пойду, сынок, потому что мне очень нравятся эти люди.
– Мне Надя тоже понравилась, – откровенно признался сын и, задув в лампе огонь, босыми ногами протопал к своей кровати.
Весна меняла древнюю донскую землю на глазах. Суровая, когда была скована морозом и со всех сторон продута жесткими степными ветрами, теперь эта земля добрела с каждым днем. Отцвели сады, и спала вода на займище. Аксай и Тузлов постепенно входили в свои берега. Дворники с пристрастием подметали по утрам панели перед новыми зданиями. Предприимчивое купечество оснащало центр вывесками, оповещающими обывателей об открытии новых рестораций, гастрономических и мануфактурных магазинов, гостиниц.
По вечерам в Александровском саду надрывался полковой оркестр, и молодые офицеры из казачьих полков лихо отплясывали со своими барышнями краковяк и мазурку. Лишь в маленьком флигельке, где со своим младшим сыном ютился бывший, а ныне разорившийся торговый казак Сергей Андреевич Якушев, все оставалось прежним. Сын и отец вели все ту же спартанскую жизнь. Сами подметали полы и мыли посуду, рассчитывали деньги на скудный провиант, наперед зная, что жалких средств едва хватит на полуголодное существование.
Однажды Александр заикнулся о том, что ему бы именно сейчас в самую пору бросить гимназию и уйти на завод или пойти в подручные к Якову Федоровичу Изучееву, но отец застучал посохом об пол и визгливым, немощным голосом выкрикнул:
– Хватит! Один уже ушел и через два месяца обещал явиться на побывку. А где он? Где, я спрашиваю? И ты теперь хочешь меня заживо в гроб уложить?
Александр умолк, сраженные его неоспоримым доводом. Когда он загасил свет, в комнате наступила кромешная темень. Засыпая, он слышал сдавленные рыдания отца и безошибочно угадывал, что в эти минуты его престарелый родитель перебирает в памяти все подробности своей невеселой жизни.
На другой день на рассвете они были разбужены отчаянным стуком. Подойдя к порогу, Александр испуганным голосом спросил:
– Кто там?
Дверь трясли так, что старенькие запоры жалобно повизгивали, грозя вот-вот полететь на пол.
– Открывайте, полиция!
– Отопри, сынок, делать нечего. Ни перед богом, ни перед государем мы ни в чем не повинны.
В комнату в сопровождении заспанного дворника ввалился дюжий жандарм. От него пахло табаком и водкой. Желтые зрачки сверкали недобрым огнем. Не дожидаясь приглашения, он придвинул к себе стул и шумно на него сел. Небрежно взглянув на засуетившегося Сергея Андреевича, положил на стол розыскную бумагу и указал на приклеенную к ней фотографию. С нее смотрело лицо старшего сына Павла. Спокойное, крутолобое, широкое. Павел, сфотографированный анфас, казалось, смотрел лишь на одного отца, словно только ему хотел сказать что-то ободряющее. Но в глазах его в то же время была твердость.
– Ваш сын, господин бывший негоциант? – грубо спросил жандарм.
– Мой, – жестко ответил старый Якушев, и Александр с удивлением отметил, что никогда еще не было такой решимости в голосе отца. Жандарм поднял тяжелый подбородок. Желая сразу обрубить все узлы, он накрыл ладонью розыскную бумагу.
– Сын здесь давно появлялся?
– С тех пор как ушел на заработки, так и не был.
– Если появится, – рявкнул жандарм, – обязаны немедленно сообщить в полицию. Под страхом уголовного наказания.
– Это почему же? – упавшим голосом спросил Сергей Андреевич. Внезапно он весь поблек и сжался, плечи жалко опустились. Складки на обвисших щеках прорезались еще глубже.
– А потому, – нравоучительно произнес жандарм, – что опасный политический преступник сын ваш, Павел Сергеевич Якушев, в настоящее время находится в бегах и, как все бунтари, по указу его императорского величества разыскивается. На него объявлен всероссийский розыск.
– Это за что же? – простонал старый Якушев. – Что он мог сделать плохого, мой Павлик? Он рос таким добрым, всегда старался быть справедливым.
– Вот-вот, – перебил жандарм, – он действительно стоял за справедливость. Но за какую? За справедливость господ социалистов!
Убитый горем, Сергей Андреевич низко наклонил голову.
– А суть в чем? – выдавил он. – Что совершил мой сын во имя той справедливости? Какие незаконные поступки содеял? Чем бога прогневал нашего?
– Чем бога, то мне неведомо, – сухо ответил жандарм, – а вот чем прогневал помазанника божьего, царя нашего, это я знаю доподлинно. Ваш Павел, несмотря на юный свой возраст, примкнул к опасным политическим преступникам, мечтающим о свержении законной власти, распространял гнусные листовки против престола и отечества, пытался в Александро-Грушевске бунтовать вместе с шахтерами, скликал их на демонстрации.
– Мой Павлик? – с грустным удивлением переспросил Якушев. – Да он же у меня еще безусый мальчонка.
– В том-то и дело, что безусый. Однако мал, да удал, – подтвердил жандарм и спохватился, понимая, что сказал лишнего. Он встал, с грохотом отодвинул стул, натянул на голову форменную фуражку с кокардой и шагнул к выходу.
– Ну да ладно, – сказал он на прощание. – Мое дело предупредить, а там как знаете, господин Якушев. – И дверь за ним захлопнулась.
Сергей Андреевич и Яков Федорович Изучеев мирно сидели в скверике, где произошло их первое знакомство. В тот день работы на строительстве нового собора были закончены раньше обычного, и грохот лебедок, скрип тросов, поднимавших и опускавших грузы, надолго стих. Легкий ветерок доносил снизу, от самой железнодорожной станции, а сказать точнее – с просохшего и уже затвердевшего после схлынувшего разлива луга, запахи трав. Яркое солнце слепило глаза так, что приходилось зажмуриваться, Сломанной веточкой вербы каменщик чертил на вытоптанном перед скамейкой пятачке какие-то замысловатые, одному ему понятные узоры и слушал рассказ Якушева о жандарме, наведавшемся в их дом. Глаза его оставались непроницаемыми до той поры, пока старик не замолчал. Только тогда, отбросив в сторону ветку, повернул Изучеев к нему свое настороженное лицо.
– Знаешь, земляк, на сей раз ты очень важного дела коснулся, – не сразу выговорил он. – Парень в шестнадцать лет – это уже не дитя, от мамкиной сиськи отнятое, а настоящий мужчина. Видно, прав он был, когда опасную дорогу для себя выбрал. Я тебе Америку не открою, если скажу, что жандармы существуют прежде всего для того, чтобы смелых людей ловить и в кандалы заковывать. А смелые люди живут для того, чтобы бунты и революции совершать.
При последних словах бывшего станичного атамана старик заерзал на скамейке и стал беспокойно озираться по сторонам.
– Смелые ты речи держишь, Яков Федорович, как бы не услыхал, не ровен час, кто-нибудь.
– А ты, земляк, не боись, – дерзко усмехнулся собеседник, – не боись, тебе гутарю, потому что ежели жить нам доводится один только раз, то какая же нам цена, когда и говорить и думать разучимся? Какие ж мы тогда казаки, сыны Дона вольного, скажи мне на милость? Ты на донские степи лучше оглянись, земляк! Стон по ним идет… Богатые станишники так голытьбу подмяли под себя, что многие боевые казаки по миру пошли.
– Господь терпел и нам велел, – вставил было Сергей Андреевич.
– Господь! – вскричал Изучеев, и в его карих глазах заметались стайками яростные искры, будто кресалом высеченные. А я не верю господу богу – и в заповеди его не верю, и в лик его восковой тожить. Ить что получается, земляк? Заповеди у него хорошие, да только кому они служат? Кто их наизнанку умело выворачивает, чтобы несчастную голытьбу разорять? Богатеи, домовитые да и купцы, вроде тех, вровень с какими ты в свое время встать хотел, пока они тебе все карманы не вывернули.
– А по-моему, ради святого дела все должны трудиться, – стал упрямо перечить Якушев. – Ты же вот трудишься.
– То есть как это? – даже опешил Яков Федорович.
– Собор-то своими руками строишь, хоть бога особенно и не почитаешь.
– Ну, знаешь ли, золотой мой земляк, мало ли что… Собор – дело иное. Он не только для верующих созидается. Это же какое украшение города будет!.. Как бы музей какой, что ли. А потом и другое возьми во внимание. Я тут не молюсь, поклонов никому не отбиваю. Я тут деньгу на прожитие заколачиваю. Вот заработаю впрок маненько и переметнусь еще куда уже не по церковному, а по мирскому делу. Надо же как-то существовать бывшему атаману станицы Кривянской. А ведь до бога высоко, до царя далеко.
– Покорность и смирение – вот что главное в жизни, почтеннейший Яков Федорович, – попробовал было его урезонить Якушев, но тот гневно в ответ ему возразил:
– А вот погоди. Народятся на Дону новые Кондратия Булавины да Стеньки Разины, они покажут покой и смирение!
Изучеев яростно мотнул головой и, буркнув «до свидания, земляк», побрел домой. Сергей Андреевич долгим взглядом проводил его ладную, крепко сбитую фигуру.
Под пасху разом позвали горожан к заутрене Александро-Невская, Никольская, Троицкая, Михаило-Архангельская, Успенская и все другие новочеркасские церкви. Дружно затрезвонили самые маленькие колокола. Тотчас же им вторили колокола среднего калибра, и, наконец, вплелись в этот хор большие, величавым басом стали раскатывать свое внушительное и неторопливое «бам, бам». Город будто помолодел, посветлел и оживился. До праздника еще оставалось порядочно времени, но улицы быстро теряли деловой вид. Нарядные витрины всех магазинов уже манили к себе прохожих, у входа в театр яркая афиша приглашала обывателей на праздничное представление. В скверике, что был разбит перед атаманским дворцом, на деревьях и столбах развешивались десятки разноцветных фонариков для иллюминации. И только в недрах строящегося собора еще кипела работа.
Когда Яков Федорович Изучеев в новой синей косоворотке подошел с Наденькой к скамейке, на ней уже сидели в меру своих возможностей приодетые отец и сын Якушевы. На Саше была видавшая виды, но постиранная и отутюженная гимназическая форма. Зато фуражка была на самом деле новой: лакированный козырек так и сверкал. На отце его ладно сидела классическая тройка, чуть-чуть отдающая запахом нафталина, облысевшую голову венчал черный цилиндр, приобретенный им еще во времена купеческого процветания. Александр и Надежда ласково улыбнулись друг другу, и девочка весело объявила:
– А ты знаешь, Саша, у меня опять задачка не получается. Ты ведь убедился, что я в математике тупенькая. Решишь за меня?
– Да я не против, – растерялся Александр, – только где будем решать?
– Как где? Разве ты ничего не знаешь? Твоего папу и тебя мои родители приглашают к нам в гости. Вот как!
– Да, да, – улыбаясь, подтвердил Яков Федорович. – Перехватила дочурка у меня эстафету, так сказать. Сейчас я с ходу получу деньжонки, и все мы немедленно направимся к нам. И никакие отказы не принимаются. Моя Прасковья Михайловна уже и стол накрывает, и четверть с наливкой наикрепчайшей в погребе холодит, и маринады рыбные всяческие у нее на завершении. Стало быть, подождите меня здесь с полчасика, и будем шествовать прямо к цели.
Веселой походкой освободившегося от забот человека Яков Федорович зашагал к желтой стене собора и скрылся в проеме, сквозь который проникали все рабочие. Отсутствовал он долго, а потом возвратился с несколько обескураженным лицом. Костюм на каменщике был уже не новый, в каком он торопился за получкой, а рабочий, покрытый пылью, с заметными даже издали изъединами от извести.
– Холостой выстрел получился в нашей баталии, – огорченно развел он руками. – Десятник сказал, что деньги привезут еще через полтора часа, а меня попросил на верхнем ряду кладку закончить. Я согласился, потому что какая разница, когда это сделать – сейчас или после святого праздника. Гроши-то все равно будут начислены. Аккурат к нашему возврату Прасковьюшка моя и стол чин по чину накроет. Уж и поспорим мы сегодня с тобою, батюшка Сергей Андреевич, по поводу седой старины нашего Дона тихого и нонешнего разбойного времени. Не задержу вас долго: десятник сказал, сам меня на верхотуру поднимет, сам оттуда и спустит. Он уже дербалызнул малость, но силушки ему, чтобы меня поднять и опустить, ни у кого занимать не придется. Так-то, друзья мои… – И он опять зашагал к желтой стене собора. Прежде чем исчезнуть в проеме, Яков Федорович обернулся и помахал им рукой.
Рабочих в этот день на строительстве было мало. Из-за стены доносились неразборчивые голоса. Верхолазов вообще не было видно. Вскоре голоса находившихся внизу заглушил ржавый скрип лебедки. Цепь неохотно наматывалась на барабан. Прошло не так уж мало времени, прежде чем «качели» поднялись над недостроенной с южной стороны стеной. Это были единственные в этот час «качели», с которых должна была производиться укладка кирпича. Словно одинокая лодка, преодолевающая бурное течение реки, покачиваясь, приближались «качели» к стене. На них стоял только один человек. Тех, кто вращал барабан лебедки, не было видно.
– Папочка! – сложив ладошки трубочкой около рта, звонко прокричала Наденька. – Возвращайся поскорее. Мы тебя очень жде-ем!
Человек, кажется, услышал ее голос, потому что сразу обернулся и приветственно помахал рукой. Затем «качели» причалили к стене, и отец начал кладку, утрамбовывая кельмой раствор. Не было на Руси ничего крепче известкового раствора, на котором кладка производилась. Вот и стояли поэтому здания не осыпавшиеся и не облупленные по веку, а то и больше, радуя глаз любого прохожего.
Точными, сноровистыми движениями Яков Федорович укладывал один кирпич за другим. Затем «качели» сдвинулись, и он начал новый ряд. Он работал бесшумно, да и разве можно было уловить шум тем, кто стоял в скверике. Ведь на высоте более чем двадцати пяти саженей велась кладка. Какой она точности и хладнокровия требовала! У слабонервного от одного только взгляда с такой высоты на землю помутнело бы в глазах и закружилась голова, если бы он вспомнил о том, что стоит почти неогражденный. Яков Федорович к числу слабонервных не принадлежал. Сколько раз поднимался он на такую высоту и, заставив замолкнуть застучавшее было сердце, спокойно и расчетливо укладывал кирпич. Сейчас все шло как надо. «Качелям» становилось все легче и легче оттого, что последние кирпичи исчезали, превращаясь в часть большой стены. И вдруг будто что изменилось в самой природе этого ясного, тихого предпраздничного дня. Носилки качнулись, словно подброшенные ветром: так лодка погибает на воде, настигнутая девятым валом. С грозным предупреждением загрохотал барабан лебедки и смолк. Цепи, надежно удерживавшие все это время «качели» каменщика на большой высоте, вдруг оборвались, как нити, и Наденька, первая увидевшая все это, закричала от ужаса. На ее глазах отец отделился от дощатого помоста и, оставшись без опоры, полетел вниз. Какие-то мгновения он и «качели» падали вместе, но потом каменщика обогнали соединенные болтами доски…
– Проща-ай, дочка! – слабо донесся крик, и это были последние в жизни слова, с которыми обратился к ней родной отец.
…Когда они прибежали на место происшествия, над пыльным захламленным низом собора еще не до конца рассеялось облако едкой удушливой пыли. Тело несчастного Якова Федоровича было покрыто рогожей, и Наденьку, как она ни билась, к нему так и не подпустили. Невесть откуда появились городовые, кто-то прислал экипаж, и ее, бесчувственную, усадили на заднее сиденье рядом с тем самым десятником, который уговаривал каменщика положить верхний ряд, потому что денег для расчета еще не привезли. Так началась пасхальная неделя в семье Изучеевых.
Сергей Андреевич, встав на колени, долго копался в нижнем ящике комода, пока со вздохом облегчения не вытащил оттуда аккуратно сложенный, совсем почти новый визитный фрак – единственную дорогую вещь, которая кроме цилиндра осталась в его обнищавшем гардеробе, облачился в него и долго смотрел в зеркало. Нижнюю часть фрака он не видел, но тем, как выглядят плечи и грудь, остался весьма доволен. Саша, разбуженный шумом, высунул из-под одеяла нерасчесанную, с жиденькими, прядками голову и сразу обо всем догадался. Взгляды их встретились, и отец коротко сказал:
– Надо, сынок. Надо. Он был единственным близким нам человеком из мира живых. Надо попрощаться с ним в этот скорбный час.
Саша облачился в гимназическую форму, и они отправились к Изучеевым. По пути зашли на Азовский рынок, купили там на отсчитанные отцом пятаки букет ранней персидской сирени, перемешали ее с желто-белыми ромашками. Сергей Андреевич удовлетворенно кивнул головой, разглядывая свое приобретение.
Небольшой домик с желтым фундаментом из ходкого на Дону камня – ракушечника – нашли сразу, и по сдержанному плачу, доносившемуся из-за калитки, поняли, что это и есть жилище Изучеева. Сергей Андреевич перекрестился и осторожно толкнул калитку. Десятка полтора старух, заполнивших тесный дворик, сидело в зеленой беседке, выстроенной хозяином в небольшом садике среди кустов роз и на приступках террасы. Одна из них молча показала остановившемуся было в нерешительности старику на дверь, ведущую в покои.
Уже в сенях улавливался пряный запах полыни и чебреца, разбросанных по полу. Белый каменный домик, выстроенный покойным Яковом Федоровичем, был небольшой, но аккуратный. Так и чувствовалось по всему, что много сил и любви вложил в него бывший атаман станицы Кривянской, когда рыл фундамент, тесал доски, цинковыми листами покрывал крышу, сажал деревья.
Потоптавшись на пороге, Сергей Андреевич осторожно толкнул дверь, и они вошли. Оттого, что ставни были закрыты, казалось, что в доме темно и душно. В горнице под единственной иконой Николая чудотворца горела медная лампадка, распространявшая устойчивый запах деревянного масла. Пламя свечей выделяло из полумрака гроб, покрытый коричневым лаком. На прислоненной к стене крышке не было обычного серебряного креста. Яков Федорович лежал в этом гробу под белым покрывалом почти под самый подбородок. Остроскулое смуглое его лицо было спокойным и кротким, словно размышлял он о вещах, близко им к сердцу принимаемых: то ли о боге всемогущем и отношении к нему рода людского, то ли о правде, в поисках которой ум его, да и сам он, метался всю свою жизнь.
Сергей Андреевич подошел к изголовью, сначала положил цветы, а потом поцеловал покойника в холодный, уже пожелтевший лоб. Полная женщина в черном длинном платье с золотыми серьгами в ушах и высокой прической, широкая в кости, на вид чуть моложе самого Якова Федоровича, посмотрела на них заплаканными глазами и одним лишь молчаливым кивком поздоровалась. Рядом с нею, наоборот, во всем белом стояла Наденька, лишь бант в ее волосах был траурным. Она не плакала, но лицо ее было необычайно бледным. Бескровные губы стискивало горе.
Сделав Саше незаметный для других знак, она вышла во двор. Якушевы последовали за ней. Растерянно и неуместно Наденька слегка присела, приветствуя гостей заученным движением.
– Сергей Андреевич и Саша, – сказала она взволнованным голосом, – папа вас очень любил. Мы его хороним завтра в двенадцать часов и очень вас просим прийти. Если Сергею Андреевичу тяжело, он может остаться до поминок у нас дома, а на кладбище не ходить.
Голос Наденьки дрогнул, казалось, она вот-вот зарыдает. Но девочка справилась с собой.
– Вот и нет у нас больше папы, – прошептала она. – И никогда он глаз не откроет. А какой был добрый да ласковый… Не каждый казак бывает таким.
– Он у тебя и смелым каким был, – прибавил Саша. Наденька благодарно взглянула на него.
– Да, смелость и доброта. Они в каждом человеке должны сочетаться, иначе он не будет красивым душой и умом своим. Разве не так?
Неожиданно жиденькие ее бровки сошлись над переносицей, а в узких глазах заплясали недобрые огоньки. Своенравно взглянула она на Сашу, будто призывая тотчас же согласиться с ее словами.
– А я вчера от мамы потребовала, чтобы она все иконы из комнат вынесла и в чулан заперла. Одну разрешила оставить. Тот образок, что ей сам папа подарил перед венчанием в церкви.
– Да как же это, девочка? – всполошился Сергей Андреевич. – Ведь все-таки бог – наш повелитель всевышний, которому мы покоряться должны, потому как в страхе божьем жить надо вечно.
– А я не хочу! Ведь тогда крыльев у человека не будет и мечты никакой, – топнула ножкой в белой туфельке Наденька. – Не хочу, и все. Я бы и последний образок выбросила, если бы это не папин подарок. Бог, говорите? Да где он на самом деле был, когда с папой несчастье случилось, почему беду от него не отвел?!
– Да, да, – вдруг раздался за ее спиной хрипловатый голос незаметно подошедшей матери. – Если он всемогущ, почему же он Яшеньку не уберег, счастья нас земного лишил? Идем в дом, доченька, иначе ты опять разрыдаешься. До свидания, люди добрые. Ждем вас завтра в последний путь моего Яшеньку проводить. Приходите, не побрезгуйте.
Домой Якушевы возвращались молча. Над Новочеркасском сияло солнце и небо было голубое-голубое, без единого облачка. Это так не вязалось с темной комнатой, душным запахом лампадного масла и шепотным причитанием старух во дворе. За всю дорогу лишь несколько слов пробубнил старик, рассерженно постукивая палкой с оленем о плиты мостовой:
– Безбожники, как есть безбожники! Можно ли так о всевышнем повелителе рода людского! Он же все человечество может проклясть, потому как все мы его рабы.
Но Саша ему не ответил. Саша думал о Наде.
Истинно сказано, что жизнь сильнее смерти, и, когда человек уходит в небытие, близкие надолго сохраняют о нем память, но не живут одной только скорбью о нем. Время шло своим чередом. Весна была в самом разгаре. В мужской и женской гимназиях уже шли экзамены. По всему городу с озабоченным видом носились гимназисты и гимназистки со своими ранцами и, сидя на скамейках под тополями, с которых уже слетали белые пушинки, отмахиваясь от них, спорили, задавая друг другу те самые контрольные вопросы, от которых никак нельзя было, по их мнению, спастись на экзаменах. Это было то самое движение по кругу жизни, через которое проходили все поколения.
В одно воскресное утро к Якушевым прибежала запыхавшаяся Надя и весело затараторила:
– Сергей Андреевич и ты, Саша. Сегодня мама приглашает на чай и на именинный пирог с орехами. Вкусный он какой будет, я вам скажу! Лучше моей мамы такие пироги никто не печет.
– Это кто же у вас именинник? – деловито осведомился старик. – Ты или мама?
– Как кто? – всплеснула руками Наденька, и ямочки заиграли у нее на щеках. – Папа. – Но вдруг она потупилась, печаль темным облаком скользнула по ее лицу, и уже другим голосом прибавила: – Ему бы сейчас пятьдесят один год исполнился. Всего пятьдесят один. Сколько бы он мог пожить, если бы не лопнул трос. – Отогнав от себя печаль, Наденька тут же воскликнула: – Саша, а ты знаешь, какая я благодаря тебе счастливая? Я же тупенькая, глупенькая, к геометрии и алгебре невосприимчивая, а ты меня так натаскал, что вчера на экзамене, знаешь, что я получила?
– Что? – с нетерпением спросил Александр, но подружка игриво погрозила ему пальцем:
– Так я тебе и сказала! А вот угадай!
– Тройку.
– Бери выше.
– Значит, четверку?
– Да еще с плюсом, – беззаботно расхохоталась Надежда и тотчас же обратилась к старику: – А вы знаете, Сергей Андреевич, что вчера было? У нас экзамены принимал сам Пал Палыч Хлебников. Тот самый, что и в мужской гимназии преподает. Так знаете, что он сказал? Он сказал, что новочеркасская мужская гимназия за всю свою историю еще не знала более способного к математике ученика, чем ваш сын, и что, если он всю свою жизнь посвятит науке, из него выйдет великолепный ученый.
– Не может быть! – заволновался Сергей Андреевич.
– А вот и может, – быстро и решительно возразила Надя и вся посерьезнела. – Неужели вы не знаете, что Саша на контрольных и экзаменах все решает за своих друзей?..
– Неправда, – спокойно перебил ее Саша, – я решаю только за тех, кому плохая отметка грозит исключением из гимназии. А это в основном дети бедных родителей.
– А они теперь получают пятерки и четверки. Впрочем, так же, как и я, – засмеялась девочка.
– Саша, это правда? – строговато спросил старик.
– Еще бы! – горячо ответила за него Надежда. – Стоя у доски, он поражает всех тем, что без мела и предварительных вычислений решает самые сложные задачки. Поглядит на уравнение, подумает с минуту – и готов ответ. Класс от удивления в обморок падает.
– Надежда, перестань, – нахмурился Саша, – математика наука глубокая и необъятная, как небо, а ты о ней, как о цирке каком-то рассуждаешь и любого математика в фокусника готова превратить.
– Ладно, не буду, – согласилась девочка и умчалась домой, поселив в сердце Сергея Андреевича смутную тревогу.
Но прошли дни, и тревога эта улетучилась. В маленьком флигельке жизнь потекла, как и прежде. Сергей Андреевич снова стал ходить то к заутрене, то к вечерне в святые храмы, слушал молитвы и церковные хоры, но рвения особенного к богослужению не проявлял, а в скверик подле строящегося собора не заглядывал и вовсе. Слишком острой и неостывшей была скорбь по погибшему Якову Федоровичу. По ночам он нередко просыпался от одного и того же кошмарного сна: будто наяву слышал зловещий лязг оборвавшегося троса и переполняющий сознание последний крик бывшего атамана станицы Кривянской «прощай». «Пусть он и в бога не веровал, и властей мирских не почитал, милый Яков Федорович, а чистой души был человек, царствие ему небесное», – горько рассуждал про себя Якушев.
Все труднее и труднее было рассчитывать жалкие гроши на пропитание. Однажды, когда Сергей Андреевич угрюмо думал, идти или не идти ему в лавку и что можно купить на обед и ужин, в незапертую дверь без стука вошел человек средних лет в костюме не то слесаря, не то машиниста, с руками в цыпках и со следами въевшейся металлической пыли на них. Настороженно оглядевшись, он положил на стол тугой запечатанный конверт без надписи.
– Вы сейчас тут один? – спросил он.
– Один, – немного растерявшись, ответил Сергей Андреевич, опасливо про себя подумав: «А ну как хватит колосником по черепушке? Сейчас стало модным колосниками убивать». Но человек, усмехнувшись его растерянности, тихо пояснил:
– В этом конверте деньги.
– Мне? – пораженно всплеснул руками Якушев.
– Да, вам. Здесь пятьдесят рублей. Спрячьте их и ни о чем никому не говорите.
– Да за что же? – заволновался от неожиданности старик.
Незнакомец снял с головы мятую фуражку и грустно покачал головой.
– Хороший у вас сын, Сергей Андреевич, – сказал он вместо ответа. – У всех бы отцов были такие сыновья!
– Павлик! – вскричал старик, осененный внезапной догадкой. – Вы его видели? Где он и что с ним, почему не приедет, он же обещал!
– Спокойнее, – улыбнулся рабочий, – и тише, пожалуйста. Не надо, чтобы нас услышали. Павел Сергеевич жив и здоров. Вам привет от него. Мы знаем, как вы живете… Эти деньги рабочие собрали вам.
– На жизнь? – жалобно протянул Якушев.
– Ну не на динамит же, которым надо царя взорвать, – засмеялся неожиданный гость.
– А где же сын? Дайте мне его адрес, я ему сегодня же напишу, – засуетился Якушев.
– У Павла адреса нет, – печально вздохнул незнакомец. – Он сейчас на нелегальном положении.
В ту ночь, думая о сыновьях, Сергей Андреевич не сомкнул глаз. «Какие они оба хорошие и какие разные! Одна мать произвела их на свет, одним молоком вспоила, но как они не похожи друг на друга. Саша, как стеклышко, светел. Добр и ясен. Последнее исподнее готов отдать ближнему, хотя и не от церковных проповедей это происходит. А Павлик иной. Справедливый, но суровый. И справедливость его, выходит, от суровости всегда проистекает. Однако никогда он ближнему зла не сделает. Какую он добрую фразу вымолвил, когда пятнадцатилетним стригунком из флигеля этого уходил: „Тебе, отец, с одним Сашкой легче будет. А я к тебе вернусь на побывку“. И не вернулся. Что он там наделал, сердешный, такого, что по всей России розыскная бумага на него имеется? Нет, не мог мой Павлик плохое принести людям».





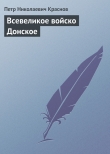


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)