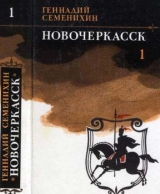
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
– Ты за меня не бойся. Я не погибну, потому что меня ни одна смерть не возьмет на фронте… Вот недавно пошли мы в деревеньку за молоком. Попили, а хозяйка на дорогу спелых вишен дала. Я их в нагрудный карман своего кителя положил. Стали подходить к окопам, и вдруг шальная пуля, теряющая убойную силу, прямо под сердце шмяк – и упала в дорожную пыль, лишь вишни размазала, а я невредим остался. Вот и воюю дальше за Русь святую против германских супостатов…
– Ты не погибнешь, – восторженно шепчет Надежда, – ты не погибнешь, потому что ты вечный. Таким тебя моя любовь сделала. В жизни у каждого есть свое солнце. Без тебя мое солнце закатится…
Но она ошиблась. Через два месяца пришло сообщение о том, что ее муж «пал смертью храбрых в боях за царя и отечество». Пуля все-таки нашла его. А у нее осталась всего лишь фотография Ивана Загорулько, на обороте которой коричневой тушью было написано: «Моему полевому цветку, моей ласточке Наденьке»…
После второго замужества она поместила этот снимок в семейном альбоме, но, видя недовольство Александра Сергеевича, сразу коротко и решительно ему заявила: «Прошлое каждого из нас не должно касаться ни тебя, ни меня».
Александр Сергеевич надулся, долго копался в своих бумагах, наконец нашел не очень удачную фотографию Насти и вставил в тот же альбом на самое видное место. Он не подумал о том, что ревнивые люди подчас интересны тем, что превращаются в обиженных детей. Предъявляя другим обвинения, они забывают о своем прошлом и видят только поступки тех, кого обвиняют, дающие им право на ревность. Надежда Яковлевна вздохнула и молча снесла этот ответный выпад.
У нее был твердый и не очень легкий характер. Она никогда не устраивала мужу сцен, не набрасывалась на него с упреками. В самые тяжелые минуты она молча переживала свои обиды, а это всегда ранило больнее всего. Если бы ее спросили, любит она Александра Сергеевича или нет, она бы, вероятно, долго не могла на этот вопрос ответить, потому что в памяти ее неминуемо воскресал бы облик первого мужчины, которому отдала она свою любовь. Но если бы кто-нибудь утвердительно ей сказал, что она не любит своего нового мужа, она бы ожесточенно стала возражать и оказалась бы правой. Нет, она любила Александра Сергеевича, по по-своему, отдавая дань его доброте и сговорчивости после какой-нибудь минутной вспыльчивости, его умению прощать людям любые проступки, кроме явно подлых.
А как она любовалась им, если, поднявшись среди полночной тишины, видела, как пробивается из приоткрытой двери кабинета полоска света и он, ее Саша, обложенный книгами, готовится к очередной лекции.
– А, это ты, – приветствовал он жену в таком случае, не поднимая головы, – завтра я должен им рассказывать о логарифмах. Возможно, найдутся те, кому лекция покажется скучноватой, и, чтобы их подбодрить, я думаю начать с таких слов: «Мои дорогие воспитанники, будущие землеустроители и гидротехники! Геодезия – предмет чрезвычайно строгий и никакой развлекательности не терпит. Не могу же я вам, право слово, выйдя к доске, спеть арию Ленского. – Голос его рассыпался тихим дребезжащим смешком. – Вот увидишь, Наденька, тут меня кто-нибудь обязательно перебьет и скажет: „А почему бы вам, Александр Сергеевич, действительно не спеть эту арию на нашем студенческом вечере?“ И я тогда отвечу: „Разумеется, спою, если астма не помешает“».
Бывало и по-другому. Иногда она неслышно открывала дверь и молча, стараясь не обнаружить своего присутствия, останавливалась на пороге. Видя его огромную, почти лишенную волос голову, склоненную над тетрадью, книгой или чертежом, она гордилась им, и в эти минуты муж казался ей совсем другим. Услышав шорох, Александр Сергеевич поднимал голову, и в синевато-серых глазах его вспыхивала радость.
– Иди, иди, отдыхай. Ведь рано еще, крошка…
Весь их дом был забит книгами. И кабинетный шкаф, и навесные полки, и две плетеные корзины в коридоре, и этажерки в детской. А как он умел пересказывать сыновьям книги Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера! Она и сама заслушивалась не однажды.
И все-таки стояла между ними преграда, а какая, Надежда Яковлевна и сама не могла понять. И как ее устранить, не знала. Иной раз даже раздражалась, когда в разгар таких размышлений будто из далекого туманного облака наплывало вдруг ясное, ничем не озабоченное лицо Ивана Загорулько. «Уйди, теперь ты мне ничем не поможешь», – вздыхала она про себя.
С такими беспокойными думами и заснула Надежда Яковлевна после встречи братьев, и сон ее не был спокойным и безмятежным, а в уголке рта на правой щеке появились и застыли две глубокие бороздки.
По привычке она проснулась рано и по свету, проникавшему сквозь ставни в большую комнату дома, которую они несколько торжественно именовали залой, попыталась определить, который сейчас час. «Если зайчики прыгают у ножки стола, значит, больше шести», – предположила она: Стараясь никого не разбудить, Надежда Яковлевна оделась и стала собираться на рынок. Вспомнила о том, что накануне обещала взять с собой ребят, и осторожно открыла дверь в детскую. Гриша спал настолько крепко, что даже всхрапывал. Сбитое ногами одеяло валялось на полу. Подумав, Надежда Яковлевна не стала мальчика будить. Венька заворочался в эту минуту и раскрыл глаза.
– Ты куда, мама? На базар? А я? Ты же обещала.
– Тише, тише, дружок, – приложив палец к губам, остановила она его. – Не горлань. Одевайся поскорее и марш со мной.
– Ура! – шепотом отозвался сын и соскочил с узкой железной койки.
Вскоре они уже шли по еще сонной окраине. Аксайская улица, душная от запаха цветущих акаций и клубящейся за заборами то белой как снег, то красновато-пышной персидской сирени, еще не сбросила с себя дрему. Пастух только что прогнал общественное стадо, и облако пыли едва улеглось. У сложенного из красного кирпича бассейна, где полная, разговорчивая старушка Ниловна отпускала за полкопейки ведро воды, уже стояли две казачки с коромыслами, о чем-то оживленно судача.
До Азовского рынка отсюда было рукой подать – всего три квартала. Семилетний Венька обожал эти походы на базар. Он с удовольствием нес вместительную кошелку, в которой звякали эмалированные посудины для молока и меда, вприпрыжку подскакивая на еще сохранивших ночную прохладу плитах тротуара.
На углу перед самым базаром стояло высокое здание городской пекарни. У ворот постоянно дежурили два, а то и три грузовика. Венька норовил подальше оторваться от стесненно шагавшей впереди мамаши и как вкопанный останавливался у ворот, жадно ловя раздувающимися ноздрями запах свежеиспеченного хлеба. Ах, какой это был запах! Возможно, те, кто говорит, что в Новочеркасске нет более прекрасного запаха, близки к истине. В нем бродили и ароматы степной земли, и возбуждающие дыхание запахи хорошо подошедшего, круто замешанного теста, и острое, чуть отдающее дымком благоухание светло-коричневой хрустящей корочки каравая. Зажмурив от счастья глаза и почесывая голую ногу каблуком сандалеты, Венька с замирающим сердцем думал: «Вот бы хорошо прямо сразу отломить большой кусок от такого каравая и съесть его в один миг, не сойдя с места». Какой, наверное, это необыкновенный был хлеб! Но подходила мать и разрушала его возвышенные мысли одним прозаическим недовольным восклицанием:
– Ну, чего встал? Чего кошелку волочешь по земле? Идем быстрее.
Венька вздыхал, в тысячный раз убеждаясь в том, что взрослые никогда не научатся понимать маленьких, ими же рожденных. Он продолжал путь, время от времени с укором взглядывая на мать.
Азовский рынок в том году являл собою картину великого изобилия земли донской. Торговые ряды были забиты продовольствием, казалось, все здесь было в наличии, кроме птичьего молока, которое кто-то позабыл доставить. И редиска, и молодой лук, и первая крупная алая клубника, и огромные сазаны, и сулы со сверкающей на солнце чешуей. Десятками и сотнями продавались за бесценок раки. На деревянных помостах рядами стояли крынки с молоком, сметаной и каймаком, бутылки с янтарным и коричневым подсолнечным маслом, банки и соты с белым пасечным медом, освежеванные гуси, индейки и куры.
Венька терпеть не мог этого места. Пока мать приценивалась, торговалась и, отсчитав деньги, погружала продукты в кошелку, он со скукой толкался в толпе, грозившей его завертеть, как щепку в водовороте. Серо-карие глаза его становились тоскливыми, и он снова мрачно почесывал одну ногу другой. Но вот мать с бисеринками пота на лбу склонялась к нему и устало говорила:
– Фу-у, кажется, можно и домой возвращаться.
И тут наступало мгновение, ради которого он всегда так стремился ходить с матерью на базар.
– Ма-ам, – жалким голосом тянул Венька, – а туда мы с тобою пойдем?
– Куда это туда? – прикидываясь непонимающей, спрашивала Надежда Яковлевна.
– Да на толчок, – жалобно тянул Венька.
– Некогда уже, – с напускной сердитостью говорила мать. – Дома отец и Гриша ждут, пора и завтракать, а у меня ничего не готово.
– Ма-ам, ты же обещала, – еще настойчивее подступал к ней Венька, и подбородок его начинал вздрагивать от обиды. – А сама говоришь, что слово надо держать.
– Ну вот еще, опять яйца курицу учат, – возмущалась Надежда Яковлевна.
– Ты не курица, мам, – фальшиво хныкал Венька, – ты орлица.
Он сказал это однажды за столом при гостях, чем вызвал взрыв хохота, и теперь во всех трудных ситуациях к месту и не к месту повторял этот свой неотразимо действующий на нее «афоризм».
– Ладно, идем, – сдавалась мать, – я по пути куплю в пассаже два фунта телятины. Отцу она очень полезна. А ты дай слово, что ничего не будешь клянчить.
– Даю, мама, ура! – отчаянно кричал Венька.
Толкучка в ту пору была в двух шагах от рынка: стоило только пересечь широкий Платовский проспект или просто Платовскую, как его именовали многие горожане, и пройти через мясной пассаж.
Венька всегда норовил остановиться на самой середине Платовского. Уж больно интересно было сначала повернуть голову направо и над тополиными зелеными верхушками увидеть впечатанные в синеву неба купола кафедрального собора, сверкающие нетускнеющим золотом крестов. От этого вида аж дух захватывало. А потом было не менее интересно: словно по солдатской команде «Налево» повернуть голову и бросить взгляд на знаменитую триумфальную арку, построенную к ожидавшемуся приезду царя Александра I, но так им и не осуществленному. Желтые ворота стояли на самом спуске проспекта. Здесь вторая по значению улица Новочеркасска словно бы ломалась: сначала устремлялась резко вниз, а потом круто поднималась вверх и превращалась в широкую дорогу, по которой можно было ехать или скакать и в Ростов, и на хутор Мишкин, где многие годы жил Платов, и даже в Таганрог, где умер Александр I, так и не осчастлививший столицу Дона своим визитом, и во многие другие кавказские города, которые даже и присниться не могли Веньке. Мальчик буквально замирал на этом месте и простаивал до тех пор, пока заждавшаяся мать сердито не дергала его за ухо.
– Заснул, что ли? Если не хочешь идти на толчок, повернем домой.
Но на толчок они сегодня попали, купив по дороге в пассаже два фунта телятины. Под толкучку в городе была отведена параллельная рынку улица. Ее неширокое пространство с рядом разноцветных киосков в утренние часы было всегда заполнено бурлящей говорливой толпой. Здесь можно было увидеть и босяков, при встрече с которыми почтенные обыватели начинали хвататься за свои карманы, и крикливых пышнотелых перекупщиц в ярких кофтах с короткими рукавами, с красными от избытка здоровья лицами, и профессора, зашедшего поискать редкую книгу.
Всякий, кто заплатил двугривенный, имел право, переступив границы толкучки, продавать на ней что угодно и по какой угодно цене. Никаких торговых рядов тут не было. Мелкие вещи, в основном разную обувь и одежду, обычно продавали с рук. Но чаще всего обыватели, оплатившие свое право на торговлю, располагались прямо на мостовой. На разогретые солнцем булыжники они стелили старые продранные одеяла, мешки или покрывала предельной ветхости и выставляли на них свой товар. И бог ты мой, что это был за товар! Все можно было увидеть и приобрести на толкучке: и потускневшие канделябры платовской поры, и ржавые сабли, в свое время орошенные кровью янычар, и самовары из меди и белого никеля, и самого разного происхождения в простой и нарядной оправе иконы с ликами святых.
В черных крылатках, с худыми, нездоровыми, посеревшими лицами живописцы за бесценок сбывали свои неудавшиеся шедевры, с горечью вспоминая, что, когда брались за кисть, мечтали созерцать их на лучших вернисажах России, рядом с картинами Репина, Левитана, Саврасова и других. Были бабушки, монополизировавшие торговлю уродливыми разноцветными глиняными копилками в виде кошек, лисиц, собак или уточек с разинутыми ртами, требующими немедленного пожертвования. И странное дело, товар этот в те времена пользовался немалым спросом. Была тогда мода дарить такие копилки и новорожденным, и новобрачным, и даже новобранцам.
На разостланных покрывалах стояли ботинки, сапоги, туфли, либо новые, либо изрядно поношенные, либо совсем старые, но покрытые обманным лаком, способным облезть при первой капле дождя. Коллекции марок, расписные игрушки, колоды карт – все было на толчке. Но особую его гордость составляли дяди и тети, торговавшие старыми книгами, те самые, что гордо именовали себя букинистами. Карманники и аферисты, наводнявшие в ту пору толчок, из одного уважения к загадочному слову «букинист» относились к ним с откровенным почтением, и даже самые неисправимые из них никогда не пускали в общение виртуозного матерного слова. А в каких только обложках и каких времен не продавались книги! Рядом с подшивкой «Красной Нивы» лежали комплекты старой «Нивы», рядом с сочинениями Максима Горького – сочинения графа Салиаса или «Любовные утехи Екатерины Второй». Для любителей находились комплекты царских марок и денежных знаков. Единственную осечку допустил один из букинистов, за что и был едва не побит, – когда он осмелился рядом с портретом немецкого естествоиспытателя и путешественника Брема выставить для распродажи портрет Николая Второго в изящной лакированной рамке. При всеобщем бурном восторге кто-то на своей коленке разломил этот портрет и одну из половинок бросил в лицо продавцу, который еле успел увернуться.
– Ты что продаешь, контра! – рявкнул широкогрудый лохматый парень в матросской тельняшке.
Надо сказать, что, хотя в Новочеркасске мелководный Аксай раз и навсегда исключил возможность базирования военно-морского флота, полосатая тельняшка была в те годы любимой формой одежды рыбаков, владельцев баркасов и лодок, иных рабочих парней, и в особенности блатных, которых появлялось на толкучке великое множество. Дюжий парень выглядел настолько угрожающе, что насмерть перепуганный старик жалко пролепетал:
– Не бейте меня, дорогой товарищ… Это я сослепу Николашку сюда принес. Думал, второй портрет Брема.
Толпа, сгрудившаяся вокруг букиниста, расхохоталась, и конфликт на том завершился.
Венька любил толчок за его пеструю разноголосицу, за веселое треньканье балалаек, гитар и мандолин, которые тут же опробовались покупателями, за бойкий торг продавцов. Но еще больше он любил слушать одноглазого дядю Тему, ежедневно распевавшего здесь то озорные, а то и вовсе полусрамные частушки, смысл которых далеко не всегда доходил до мальчика. Надежда Яковлевна наперед уже знала, как Венька поведет себя на толчке, и он никоим образом ее не озадачил, когда стонущим голосом стал канючить:
– Мам, там дедушка солдатиков продает… купи.
– Да у тебя дома целая коробка!
– Те не такие… Эти настоящие, английские. Купи!
– Денег уже не осталось после базара, Венечка.
– А зачем ты мясо покупала в пассаже, могли бы без телятины обойтись.
– Ты что же, родного отца голодным хотел оставить?
Венька для порядка пошмыгал носом, но, убедившись, что его тактический прием никакого впечатления на родительницу не производит, сдался.
– Тогда пойдем хоть дядю Тему послушаем.
– Это можно, – согласилась мать, чтобы хоть таким образом отвлечь его.
Дядя Тема был такой же неотъемлемой, частью Новочеркасска, как памятник Ермаку или собор. Никто не знал, когда и откуда он пришел, где и при каких обстоятельствах потерял левый глаз, всегда скрытый под черной повязкой. Справедливости ради надо сказать, что весьма редко он все же повязку снимал, и тогда все видели в глазнице мертвый зрачок. Каждый день, если не было лютого мороза либо проливного дождя, приходил он, высокий, костистый, с тяжелым баяном на плече и посохом в правой руке, на толкучку и в самом конце ее устраивался на сбитом из неотесанных досок пустом папиросном ящике со штампом донской табачной фабрики.
Он снимал со своей лысеющей головы кожаную фуражку, которую носил в прохладные дни, либо соломенную шляпу, если это было летом, и клал свой головной убор на булыжную мостовую так, чтобы люди могли бросать в него мелочь. Сняв с плеча баян, он устраивал его на коленях, и, едва только сильные пальцы пробегали по клавишам, народ окружал его со всех сторон, позабыв о двух-трех слепцах, постоянно певших под балалайку дурными голосами.
– Почтенные сыны и дщери славного города Новочеркасска, сейчас я вам представлю в полной форме свою лучшую программу с прологом и эпилогом, – откашлявшись, с достоинством обращался дядя Тема к собравшейся толпе своим довольно хорошо поставленным баритоном. Сегодня он был в редкостном ударе. Надежда Яковлевна успела протолкнуть Веньку в самый первый ряд слушающих. Под сильными, покрытыми синеватыми ногтями пальцами зарыдали клавиши, и, как ей показалось, единственный глаз дяди Темы вперился в нее. С минуту она испытывала на себе непонятно-тяжелый чужой взгляд, а потом растянулись мехи баяна, и грустная песня поплыла над головами людей.
Скакал казак через долины,
Через маньчжурские поля…
Чуть хрипловатый баритон брал за душу, к тому же дядя Тема отлично себе аккомпанировал, и толпа росла. С невозмутимо застывшим лицом пел он частушки, вызывающие взрывы смеха:
Раньше были времена,
А теперь моменты,
Даже кошка у кота
Просит алименты.
Лузгая в первом ряду семечки, хохотали дородные казачки, приходившие на толкучку, как в театр. Смущенно отворачивались с пунцовыми щечками ученицы старших классов, с наигранным возмущением отходили в сторону иные интеллигенты, бабушки в капорах покачивали головами, но оставались на месте. Все это фиксировал единственный глаз дяди Темы, пока пальцы давили клавиши.
– А теперь слушайте еще один оригинальный куплет! – воскликнул он и, подмигивая, запел:
Муж в Москве, жена в Париже,
А рожает каждый год.
Значит, дело по антенне
Через радио идет.
И снова грохнула толпа, и в фуражку его со звоном полетели медяки и гривенники.
– Беленьких побольше бросайте! – закричал в эту минуту дядя Тема. – Не забывайте, что и я обитаю по принципу: цыпленок тоже хочет жить.
И вдруг в наступившей тишине, пока слушатели ощупывали свои карманы в поисках мелочи, прозвучал звонкий голос Веньки:
– Мама, а какое дело через радио идет? Я не понимаю.
И снова захохотала толпа, а рыночный завсегдатай в тельняшке, скабрезно усмехнувшись, гаркнул:
– Вот-вот, объясни ему, мама. А еще лучше, пусть сынок у папки спросит.
Надежда Яковлевна подхватила тяжелую кошелку, дернула сына за руку и, ускользая от липучего смеха, раздававшегося ей вслед, быстро выбралась из толпы. Венька решил, что она обязательно будет его ругать, но мать вдруг сама рассмеялась и легонько, совсем не всерьез, хлопнула его по загривку.
– Да ну тебя, Вениамин, со смеху с тобой пропадешь, да и только.
В это время на толкучке появился милиционер в аккуратно заправленной под новый ремень гимнастерке, с белым свистком в руке. Подойдя к гармонисту, укоризненно покачал головой:
– Кончайте бузу, гражданин. Надоело слушать ваше похабство.
Толпа заволновалась, загалдела:
– Чего придираетесь? Чего человек тебе такого сделал, служивый?
– Да я ничего, – отступил милиционер, – только бы пели вы, гражданин, лучше революционные песни.
Дядя Тема развел руками, широко растянул мехи баяна, сдавил их и улыбнулся, хотя единственный глаз смотрел на блюстителя порядка не по-доброму.
– Революционные? – переспросил он. – Могем и революционные.
Над толкучкой и над деревянным ящиком, на котором сидел гармонист, пронесся до боли знакомый каждому русскому человеку напев:
Наверх, вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.
– Это не революционная, – возразил милиционер категорически. – Это про войну с японцами песня. А по чьему приказу такая война велась? По царскому.
– Вы чудак, простите, пожалуйста, – сказал один из букинистов, успешно распродавший в этот день свой товар. – Это великолепная песня о героизме русских моряков, и царь тут совершенно ни при чем.
– Какой же тут героизм, если моряки шли в бой за интересы самодержавия… под палкой шли, – не сдавался милиционер.
Спор грозил разгореться, но дядя Тема, желая его почему-то прекратить, громко, с широкой улыбкой выкрикнул:
– А вот эту хотите? – И мгновенно бодрым маршем разразился в его умелых руках баян.
С неба полуденного жара – не подступи!
Конная Буденного раскинулась в степи.
И песня эта была как бы примирением. Стихли голоса спорящих, а некоторые, в том числе и милиционер, стали подтягивать. Только здоровенный детина в тельняшке, явно уголовного обличил, проворчал:
– Подумаешь, один легавый притопал и сразу всем настроение попортил. Ну и жизнь пошла…
А длинные, сильные пальцы дяди Темы цепко вдавливались тем временем в клавиши, высекая бурные аккорды. Закончив песню, он галантно раскланялся перед слушателями:
– Дорогие граждане! На сегодня концерт закончен. Но это не означает, что мои песни смолкли навсегда. Приходите завтра, и мы начнем нашу новую программу, как и обычно, в восемь утра. Вас ожидают новые премьеры. В добрый путь, граждане!..
Когда толпа рассеялась, он поднял с земли старую кожаную фуражку, испытывая удовлетворение от того, что она стала тяжелой от брошенных монет, и деловито пересчитал гонорар.
– Ого! – пробормотал он себе под нос. – Оказывается, четыре полтинника. А какой-то чудак целковый бросил. Ничего, вполне достойное вознаграждение. А ну-ка, баян-кормилец, давай-ка я подниму тебя на плечо, ты явно это сегодня заслужил.
Дойдя до первой пивной, он протиснулся в ее узкие двери и, не отходя от прилавка, выпил полный стакан водки, закусив его всего-навсего бутербродом с кильками. Отряхнув от налипших крошек тяжелые ладони и поправив черную повязку на незрячем глазу, он подмигнул на прощание продавцу и ухмыльнулся:
– Одним словом, веселие Руси есть пити, без этого не может и быти. Так, кажется, говаривали наши древние? А?
С этими словами он покинул пивнушку и медленно побрел по городу походкой человека, которому некуда спешить. Платовский проспект пересекала широкая улица, круто взбегавшая в гору и упиравшаяся в серое, с колоннами, здание Донского политехнического института, считавшегося гордостью Новочеркасска. Здесь дядя Тема свернул налево, по пути зашел в небольшой магазинчик, где купил кус колбасы, еще теплую после пекарни белую булку, копченого рыбца и четвертинку водки. Солнце уже высоко вскарабкалось на небо, когда приблизился он к маленькому домику на углу Барочной и Ратной улиц и, открыв скрипучую калитку, очутился в тесном запущенном дворике, где не было ни кустов сирени, ни вспаханных картофельных грядок, ни побегов дикого винограда на стене ветхой, давно не ремонтированной террасы. В этом дворике, кроме деревянного одноэтажного домишки, не было никаких строений, за исключением так называемой халабуды, или, попросту говоря, шалаша, сооруженного над отхожим местом.
В этом дворике и снимал дядя Тема комнатку у престарелой вдовы ветеринарного фельдшера тетки Глафиры, женщины крупной, костистой, но очень болезненной, постоянно охающей, вздыхающей и кашляющей и словоохотливо рассказывающей про все свои недуги. Она уже ждала его возвращения. В прихожей бурлил потускневший самовар, и чай был заварен самым крепчайшим образом. В старом штопаном платье и фартуке в пятнах от масляной краски, она близоруко щурилась, критически осматривая постояльца.
– Ну как, батюшка Артемий Иннокентьевич, улов твой на нонешний денечек? Чай, горлышко не надорвал, распеваючи?
Дядя Тема неторопливо разделся и вывалил, не считая, на кухонный стол четыре горсти медных и серебряных монет.
– Не надорвал, бабка Глафира, не надорвал, – солидно покашливая, удовлетворил ее любопытство квартирант. – А улов, сама видишь, каков. Денег побольше, чем у Деникина перед его отбытием из России. Бери трояк и дуй в кооперацию. Нам сегодня с тобой борщиком надо побаловаться, а то два дня уже на черствой пайке сидим.
– Это я ментом, как есть ментом, – с удовольствием пересчитывая монеты, заверила хозяйка. – И отдохнуть не успеешь, все будет в справном виде на столе стоять… Тут к тебе человечек один приходил.
– Какой это? – насторожился дядя Тема.
– А тот, который на прошлой неделе уже являлся. С тросточкой и лорнеткой. Его уличные ребята, знаешь, как окрестили? Дядя барин Кошкин-Собакин.
– Устинов, что ли?
– Известное дело, он.
– И что сказал?
– Сказывал, чтобы ты, батюшка Артемий Иннокентьевич, к семи часам вечера был у того самою, что с тремя орденами но Новочеркасску разгуливает.
– У Прокопенко, что ли? – усмехнулся дядя Тема. – Как же тебе не стыдно, бабка Глафира, забывать фамилии лучших людей города.
– Память слаба стала, батюшка, – вздохнула Глафира, – весь город знает и поклоняется, а я запамятовала. Недаром гутарят, что старость не радость. И еще финагент приходом.
– А этому какого черта надо?
– Требовал, чтобы ты на бирже труда отметился как неработающий.
– Делать им больше нечего, – проворчал жилец. – Ну ладно, бабка Глафира, ступай-ка за провиантом.
Оставшись в узкой десятиметровой комнатке, всю обстановку которой составляли железная койка с провисшей пружиной, платяной шкаф и столик с приставленным к нему стулом, дядя Тема первым делом отрезал кусок колбасы и залпом выпил еще с полстакана водки, угрюмо косясь на пустынный дворик, а потом завалился спать. Когда он проснулся, на кухне уже скворчала сковорода с яичницей и слышалось бормотание бабки Глафиры.
– Очнулся, касатик? – осведомилась она. – Умывай лик божий. Обед тебе на кухне подам.
Дядя Тема в глубоком молчании съел обед и вновь, зевая, повалился на кровать. Неодолимая тоска сковала тело. Он лежал и мрачно думал: «Черт побери, до чего же наскучило играть нудную роль полунищего слепца! Эх, если бы кто-нибудь из тех зевак, что кидают на толкучке пятиалтынные и гривенники в его потертую кожаную кепку, увидел бы хоть раз десять лет назад, как я, единственный наследник князя Столешникова, которого всегда с почтением называли Артемием Иннокентьевичем, бросал в „Яре“ пригоршни золотых монет в полюбившуюся цыганку Полю и как, возвращаясь домой, нанимал целый эскорт экипажей для сопровождения собственной персоны, то лишился бы дара речи от изумления. Да, все это было, но навсегда стало устойчивым прошлым…» В этом он, бывший есаул казачьего полка, уже не сомневался. Когда-то он был знатным, избалованным светским офицером, снискавшим успех у многих дам высшего круга, близким товарищем фаворита судьбы – самого барона Врангеля… Теперь же по паспорту он числился совторгслужащим Моргуновым, но всей новочеркасской толкучке был известен как баянист дядя Тема. Про обеды с устрицами и шампанским и про парадные марши в составе лейб-гвардии казачьего полка по Дворцовой площади Петрограда пришлось забыть, как и про многое другое, что было привычным в те годы его жизни. Вместо всего этого – черная повязка на лице от раны, полученной на Перекопском перешейке, когда еле-еле удалось унести ноги от красных.
Да, сурово изменилось время, и никто не признает теперь в бедно одетом гармонисте бывшего офицера. Впрочем, так оно и лучше, ибо в противном случае он бы уже давно сидел в подвалах ЧК. А врать, что глаз он потерял при штурме Новороссийска в составе красной кавалерии, Артемий Иннокентьевич умел достаточно убедительно. Он даже всхлипывать в это время начинал, если бывая под хмельком, живописуя, как от пули, споткнувшись, упал любимый вороной Изумруд и он прижался щекой к окровавленной лошадиной морде, увидев в затухающих глазах верного четвероногого друга слезы.
«Все течет, все изменяется, – усмехнулся про себя Артемий Иннокентьевич, – так, кажется, говорят марксисты. Вот и мне надо покориться этой формулировке до времени, пока не воскреснет на русской земле старый добрый гимн „Боже, царя храни“. А сейчас надо петь вместе со всеми „Вставай, проклятьем заклейменный“, и делать это как можно лучше».
Вечером, в начале седьмого, тщательно выбритый, в неброском, но хорошо отглаженном стараниями бабки Глафиры темно-сером костюме он вышел из дома. Чтобы не быть узнанным, он снял повязку, без которой никогда не выходил на базар, надел очки с темными стеклами, а в правую руку взял трость с набалдашником. Шаг у него был твердый и уверенный, как и у всякого человека, который хорошо знает, куда и зачем он идет.
По выпуклой мостовой Ратной улицы Моргунов дошел до Московской, быстро ее пересек и углубился в тихие переулки. Сейчас он мало чем походил на жалкого баяниста дядю Тему. Под пиджаком жесткие его плечи туго обтягивала военная гимнастерка без петлиц. Такие носили тогда и бывшие красноармейские командиры, и городские партийные работники, и деятели только что народившегося Осоавиахима.
В тихом переулке стоял одноэтажный дом с высоким цоколем и фасадной стеной, сложенной из голубого отполированного камня. Над резной дверью парадного в простенке бодрствовала серокаменная кукушка с настороженными выпуклыми глазами. Окна были высокие, створчатые. На трех занавески белые, на четвертом – розовые. Есаул Моргунов успокоенно вздохнул и посмотрел на часы. Было без пяти семь. Розовая занавеска была условным знаком: все благополучно, можно заходить. Он равнодушно прошел мимо дома и огляделся. Кроме двух-трех прохожих да старушек, прогуливающихся с детьми, никого. Моргунов по-военному круто повернулся и возвратился к парадному с таким расчетом, чтобы оказаться у порога ровно в семь. Тяжелая резная дверь приоткрылась, и голос невидимого за ней человека кратко произнес:
– Входите, Артемий Иннокентьевич, милости прошу. Все уже в сборе.
Когда Надежда Яковлевна и Венька возвратились с базара домой, солнце уже вовсю светило над окраиной Новочеркасска, над железной крышей их дома и займищем, где еще поблескивали оставшиеся от разлива непросохшие ерики и щетиной стояла стена прошлогоднего побуревшего камыша у Борисова озера. Отец давно открыл все окна, и дом был залит веселым светом наступившего дня. Гриша рубил дрова для сложенной во дворе печурки. Надежда Яковлевна готовила на скорую руку завтрак – телятину с макаронами и кипятила молоко, когда в коридоре появился Александр Сергеевич.





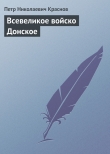


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)