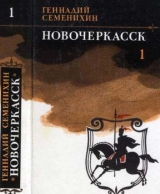
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Думы, думы, как трудно бывает порою управлять вами. Даже самый волевой человек далеко не всегда в состоянии подчинить себе ваше течение. Как часто, вырвавшись из-под контроля его разума, вы, словно потоки полой воды, растекаетесь вширь, дробясь на отдельные ручейки, не всегда понятные в своем течении. И не успеет разум погнаться за одним из этих ручейков в надежде настигнуть и подчинить его себе, как рядом появляется второй и третий, и уже поистине бывает невозможно оценить тобою же порожденные предположения, выводы и воспоминания.
И горечью, и радостью наполнялось сердце Павла Сергеевича, пока цокали копыта буланого жеребца, приближающего его к дому брата. Вспоминался душный маленький флигелек на Почтовом спуске, где после смерти матери жили они втроем – он, Саша и престарелый отец – в неописуемой бедности, деля ежедневно жалкие завтраки, обеды и ужины. Спасибо все же отцу. Потерпев поражение в своей купеческой карьере, он сберег кое-какие ценности, но и их они проживали значительно быстрее, чем хотелось бы. В безрадостных мыслях своих Павел заглядывал в недалекое будущее и не видел просветов. Просыпаясь порою среди ночи и слушая глухой кашель отца, он часто думал о том, что несладко видеть, как беды и неудачи беспощадно разрушают твоего родителя, будто бурный поток основание скалы, мимо которой он проносится изо дня в день.
Павел отчетливо представлял, что не в силах Сергей Андреевич платить за обучение обоих сыновей в гимназии, одевать их и кормить. Когда нечего было есть, младший брат мечтательно смотрел на него и жалобно вздыхал:
– Паш, а Паш?..
– Чего тебе? – грубовато обрывал его старший.
– А вот боженька, он есть или нет на небе?
– Поп Исидор говорит – есть, – шмыгая носом, неуверенно подтверждал Павел.
– А что же он тогда не пошлет нам на ковре-самолете еды вкусненькой: колбаски, пончиков, коврижек медовых?
– Держи карман шире, так он тебе и пошлет, – со злой ухмылкой отвечал Павел. – Соберет всех своих ангелов и архангелов и скажет: «Немедленно несите сопливому мальчишке Сашке гостинцев». Делать ему больше нечего.
Потом Павел Сергеевич вспомнил тот мрачный вечер, в который он навсегда покидал родительский дом, бледное, растерянное лицо отца, его затрясшиеся губы, после того как он объявил ему свое решение. Удивительно легким был заплечный мешок, с которым он уходил из дома. Раздетый отец догнал сына на углу, сунул последний отыскавшийся в пустом буфете кусок черного хлеба, дрожащими руками перекрестил на дорогу.
А затем шахта, и вагонетки в забое, и тяжелые обязанности коногона. Явившись впервые на заседание подпольного кружка, он страшно удивился тому, как просто и осязаемо в чужих устах звучит правда об эксплуататорах и угнетенных. Когда руководитель кружка, опытный, дважды бежавший с каторги, седеющий в свои сорок с небольшим лет Петре Демидович Сошников осторожно стал его прощупывать, решив выведать, потянется Павел или нет к рискованной подпольной работе, подросток пристально взглянул на него спокойными, редко выражающими его истинное настроение глазами и в упор спросил:
– Скажите, что надо делать?
– Вот это уже речь настоящего казака, – обрадовался Сошников.
Как и следовало ожидать, попался Павел на первом же задании. И не кто-нибудь, не хитроумный опытный филер, а тупой, грубый городовой, от которого смертоносно несло луком и водкой, изловил его и представил в полицейское управление.
Павел разглаживал на серо-цементной тумбе третью по счету листовку, ощущая, как под его пальцами разминаются комки клея, когда сильная рука тряхнула его за ветхий воротник продуваемого ветрами пальто.
– Попался, щенок!..
И считать бы ему телеграфные столбы сквозь зарешеченное окно тюремного вагона до самой Тюмени, а то и до Красноярска или Иркутска, если бы не случай. Ночью в александро-грушевскую полицию нагрянула инспекция. После того как пятерых политических вызвали в кабинет, ее начальник, красивый, стройный полковник с аксельбантом и орденами, стучал ногами на сыщиков и жандармов и свирепо кричал:
– Негодяи! Пьяницы и бездельники! Это так-то вы царскую службу исполняете? Вместо подпольщиков детей в камере держите, которым еще мамкину сиську положено сосать. Тебе сколько лет? – неожиданно ткнул он в грудь Павла.
– Пятнадцать.
– Вон отсюда, и чтобы я духа твоего не слышал!
Тогда ему повезло, и, вспоминая об этом, он с усмешкой думал, что родился «в рубашке». Но прошло несколько лет, и он снова был арестован за расклейку уже других прокламаций, призывающих к свержению царя, и выслан в Вятскую губернию на поселение. Павел оттуда бежал и явился по указанному адресу в Петроград. Пробираясь на Васильевский остров, он, как затравленный дикий звереныш, рассматривал роскошные особняки и витрины магазинов, на которых лишь птичьего молока не было. Хоть и не очень советовали ему выходить на Невский проспект, где по проезжей части нескончаемым потоком мчались нарядные фаэтоны и экипажи, запряженные откормленными рысаками, а по тротуарам то вразвалочку, то быстрой деловой походкой весьма озабоченных людей проходили десятки офицеров и полицейских, по любопытство взяло верх – и ослепительный Невский предстал глазам.
Такого множества персон, сразу вызывавших острое чувство настороженности, Павел еще никогда не видывал. Время от времени он останавливался у ярких афиш. Делая вид, что целиком поглощен их созерцанием, он бросал быстрые взгляды на окружающих, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Но и афиши успевал с интересом разглядывать. С одной лихо глядел атлет в полосатом трико с закрученными усами, поднимающий фантастически тяжелые гири. С другой под размашистым словом «цирк» свирепо скалили свои пасти бенгальские тигры, на третьей, запрокинув голову с распущенными волнистыми волосами, смело декольтированная блондинка пела шансонетку. Почему он остановился у афиши, извещавшей о представлениях императорской оперы, он и сам бы сказать не мог. Просто потому, что надо было перевести дух в чужом и холодном, совсем еще незнакомом городе, где перед лицом роскоши и богатства он ощущал себя бесконечно малой пылинкой. Просто оттого, что устал.
Из афиши он узнал, что в здании императорского театра оперы и балета будет представлена опера российского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Наряду с известным всей России артистом Леонидом Собиновым в ней примут участив молодые дарования – старшекурсники Московской консерватории. Далее следовало традиционное перечисление действующих лиц и исполнителей партий.
Павел, никогда не бывавший в опере, равнодушно скользил глазами по афише и вдруг замер, словно пораженный громом. Вновь перечитал он фамилии исполнителей и прошептал:
– Якушев А. С.
Он мгновенно подумал о том, как много Якушевых на Руси, и нет ничего удивительного, что эту фамилию он встретил на афише, мимо которой мог бы сто раз пройти. Но инициалы совпадали, и это окрылило его непонятной надеждой. «А. С, – подумал он. – Это можно расшифровать и как Александр Сергеевич. Но откуда же? Брат Сашка никогда не пел, А ведь у настоящих певцов голос, вероятно, с самого детства прорезается?..»
Он долго разуверял себя, но ноги уже несли его в том направлении, в котором посоветовал разыскивать императорский оперный театр первый же прохожий.
Когда Павел постучал в окошко кассы, оно быстро приподнялось, и парень несколько оробел, увидев пожилого старика в расшитом золотыми позументами сюртуке.
– Простите, вы не скажете, как мне повидать артиста Якушева?
– Артиста? – засмеялся человек в окошке. – Да какой же он артист! Он пока что всего лишь выпускник консерватории. А станет ли артистом оперы, это еще будет видно. Сейчас у них завершилась репетиция, попросите кого-нибудь. Его найдут.
– Простите, а как его зовут? – нерешительно уточнил Павел.
Старичок заглянул в какую-то лежавшую перед ним бумагу и равнодушно произнес:
– Такс, тэкс… кажэтся, Александром Сергеевичем, если не изменяет память. Да, да, я не ошибся Точно, Александр Сергеевич. – И окошко захлопнулось, а у Павла гулкими толчками застучала в висках от волнения кровь.
В вестибюле толкалось несколько молодых людей. Павел приблизился к одному и спросил Якушева.
– Вам Якушева? – отозвался добрый голос. – Сейчас, сейчас. У нас окончилась репетиция, но он еще не выходил. Позвольте, да где же он запропастился? Саша, Саша!.. – крикнул незнакомец, но в вестибюле никто не отозвался. Павел уже стал терять всякую надежду на встречу, как вдруг артист оживленно воскликнул: – Позвольте, да вот же он, по лестнице спускается! Ловите, пока не скрылся.
Павел оробело поднял голову. По той самой широкой лестнице с белыми мраморными ступенями, по которой ежедневно сотни людей поднимались в зрительный зал, в эту минуту спускался только один человек. Одетый в изящный черный костюм, модные туфли с длинными носами, он медленно переступал с одной ступени на другую, и по одному этому можно было догадаться, что человек о чем-то сосредоточенно думает. Несколько грузный, начинающий лысеть, с добрыми чертами рыхлого, полного лица, он ничем не напоминал Якушеву младшего брата, которому в свое время приходилось и манную кашу варить, и штанишки штопать, и мокрый нос старыми полотенцами вытирать, если в запасе не было чистых носовых платков.
Честное слово, если бы Павел полчаса назад встретил его на Невском проспекте или на улице любого другого города, он бы равнодушно прошел мимо. В довершение ко всему на мягком носу этого человека прочно сидело похожее на велосипед пенсне, так изменявшее внешность. Большой лоб с залысинами был прорезан полосками морщин, а губы сжаты в одну тонкую линию. Сняв пенсне, он близоруко вглядывался в спешившего навстречу человека. Но Павел, увидев его серо-синие глаза, встретив их такой родной взгляд, прыгал уже через две ступеньки навстречу, отбросив последние сомнения. Тот настороженно остановился:
– Вы, что ли, меня искали? – осведомился он без особого интереса. – Я вас, извините, не припоминаю…
– А вы из Новочеркасска? – срывающимся голосом спросил Павел. – Вы жили в маленьком старом флигельке на Почтовом спуске? Так ведь?
Пенсне задрожало в руке у спускавшегося по лестнице.
– Подождите, а вы?
– Да какого же черта! – выкрикнул Павел. – Неужели ты не узнаешь меня, братишка!
И тогда Александр Сергеевич бросился ему на шею, весь задрожал от смятения и, обняв, долго не разнимал своих рук.
– Уходим отсюда немедленно! – воскликнул он наконец. – У меня сегодня такой день, такой день!.. А вечером совершенно свободен. В «Астории» приличный номер предоставили. Так что до утра будем исповедоваться друг другу.
По пути они зашли к Елисееву. Александр, по-видимому решивший блеснуть своим гостеприимством, набрал вин и закусок. Извозчик подвез их к гостинице с особым шиком: из общего человеческого сословия он, вероятно, всегда выделял категорию людей среднего достатка, которые неожиданно обрели деньги или решили щедро угостить близкого. Александра он тотчас причислил к ним, еще раз подумав, что люди из этой категории и добрее всегда, и дают на чай больше.
Через какой-нибудь час братья сидели за богато накрытым столом. Номер с умывальником, платяным шкафом, кроватью, высоким окном и диваном отнюдь не производил впечатления фешенебельного, и от этого стол, заставленный тарелками, бутылками, бокалами и всевозможными соусниками, казался особенно обильным. Павел поймал себя на мысли, что еще никогда не сиживал за таким. Чего только не было на белой скатерти этого стола! Александр пичкал его, как мог.
– Возьми икорки, Павлик, восхитительная! Может, она с нашего Дона, из Азовской дельты. А балычок белужий выше всяких похвал, так и тает во рту! Им рюмочку шустовского коньяку закусывать одно великолепие. Так и вспоминается ходячее петербургское изречение: «Выпьем рюмочку-другую шустовского коньячку!» Побалуйся малость. А я, извини. Завтра у меня партия в опере, и, знаешь, что случилось? Я и во сне такого не мог бы представить! Должен был выступать сам Собинов, но приболел. Произошла перестановка, и на мою долю партия юродивого выпала. И петь придется на глазах у великого Собинова. Он в директорской ложе будет сидеть. Поэтому бокал шампанского с тобой я выпью, но не больше. Благо, оно не слишком холодное. А то у меня хрипы какие-то в груди иногда бывают.
– Да бог с ними, о твоим шустовским коньяком, шампанским и со всеми утонченными буржуйскими кушаньями! Если бы перед нами на тарелке были всего две картошки вареных да кус хлеба, разве от этого наша радость потускнела бы! – восклицал Павел с восторгом, вглядываясь в открытое лицо младшего брата. – Шутка ли сказать, в столичной опере, в лучшей нашей опере дебютируешь…
Александр сделал протестующий жест:
– Не торопись, Павлуша. Собственно говоря, я еще никакой не дебютант, всего лишь учусь на последнем курсе консерватории. Однако и это большая честь и победа.
– Еще бы! – засмеялся старший брат. – Но как все это произошло? Насколько я знаю, в нашем роду голосов никогда не было. Дед наш Андрей лишь дикие казачьи песни играл, да и то подсвистывал в основном. Отец на своем веку и вовсе ни одной песни не спел, мне тоже медведь на ухо наступил. Да и ты, когда на моей памяти пешком под стол ходил, соловьем тоже не заливался. И вдруг…
– Не надо об этом, Павлуша, – остановил его брат. – Давай лучше выпьем за память об отце. Все-таки мы ему рождением своим обязаны и тем, что рода Якушевых продолжателями стали.
– Как? Разве он умер? – растерялся.
Павел. Брат с укоризною поглядел на него.
– Не знал, Саша, – ответил Павел. Он наклонил отяжелевшую голову, взялся ладонями за виски и горестно вздохнул. – Не знал, – повторил он. – Да и где ж знать! Слишком тяжелой была жизнь, чтобы показываться в Новочеркасске… У тебя залитая светом сцена оперного театра, а у меня аресты, ссылки, побеги и снова ссылки.
– Я догадывался, – взволнованно перебил его Александр. – Вскоре после твоего ухода из дома на шахты в Александро-Грушевск к нам жандарм приходил. Потом деньги рабочие приносили. Я еще учился в гимназии, не все понимал. Думал, ты кого-нибудь убил или ограбил.
Павел грустно усмехнулся:
– Братишка, да разве я похож на бандита?
– Нет, конечно, – смешался Александр, – однако бомбу в какого-нибудь губернатора ты бы мог бросить.
– Мог бы, Саша, если бы мне приказали, – твердо ответил Павел. – Но дело в том, что мы, большевики, отвергаем подобные методы борьбы с существующим строем. А что касается твоего вопроса, смог бы я убить врага или нет, одно могу сказать: наш знаменитый дед, спасший в восемьсот двенадцатом году боевое знамя, действительно убил ненавистного всем помещика Веретенникова. Но его же никто не считает на Дону бандитом.
Александр потер свой широкий лысеющий лоб.
– Понимаю, ты революционер и у тебя своя логика.
– Думай, что хочешь, – сдержанно ответил старший брат, – но как и когда ушел из жизни наш отец, расскажи.
Александр снял пиджак и повесил его в шкаф, словно ему стало очень жарко. Потом дрогнувшими пальцами расстегнул жилет.
– Очевидно, мы в этом виноваты. Сначала ты, потом я.
Павел молча опустил голову.
– Ты прав. Я покинул отца не в лучшие дни его жизни.
– А я! – горько воскликнул Александр. – Я еще хуже тебя поступил.
Павел слушал, и черты его лица, более резкие, чем у младшего брата, казалось, застыли, как на скульптурном портрете.
– В гимназии нашей, – продолжал Александр с той решительностью, которая вспыхивает в человеке, желающем поскорее выговориться до конца, чтобы освободить свою совесть от тяжелого груза, – был учитель математики Павел Павлович, которому показалось, будто у меня к этой науке феноменальные способности. Полагаю, что это не совсем так, но меня решили послать в Москву с ходатайством – до окончания гимназии допустить к экзаменам в университет. Даже пособие из атаманской казны определили, вспомнив о том, что я внук знаменитого героя Отечественной войны Якушева. И я поехал. Бросил старика по его же настоянию, совершенно беспомощного, поехал. Потом узнал, что наш отец скончался в нищете и одиночестве. Если бы не вдова его друга каменщика Изучеева, погибшего на строительстве собора, и не ее дочь Наденька, он бы по миру пошел с протянутой рукой… – Александр, закрыв ладонью глаза, всхлипнул. – Как вспомню ваше расставание на вокзале, как только вспомню… нет, я ни за что себе этого не прощу. Он же умер в абсолютном одиночестве и в бреду звал нас.
– Диалектика жизни, Саша, суровая штука, и ее на свой лад не переделаешь, – сказал Павел.
– Я тебя не понимаю…
– Да чего же тут понимать, – грустно возразил старший брат. – И тебе и мне надо было пробиваться, как говорится, «в люди», искать свою судьбу, а разве ее в том нашем маленьком флигеле можно было найти?
– Между прочим, старик наш тоже так считал, – тихо сказал Александр. – Он буквально выгонял меня из дома, когда мне предложили ехать в Москву.
Александр тяжело вздохнул.
– Как видишь, даже наш старик диалектиком был, – печально заметил Павел. – А теперь расскажи, как у тебя все дальше складывалось?
Александр поднял голову:
– Жизнь моя кое в чем действительно наладилась после приезда в Москву. В университет я не попал, в межевой институт меня приняли, и, представь себе, был там на хорошем счету. Работу по анализу бесконечно малых величин написал. На кафедре хвалили. А кипрегель, теодолит и нивелир в моих руках как скрипка пели.
– Это что еще за премудрость такая? – удивился Павел. – Неужто тебе одного тенора мало?
– Братик, – повеселел Александр, – это я образно попытался сказать, что пели. Ведь кипрегель, теодолит и нивелир ничего общего не имеют с оперным искусством. Это инструменты, с помощью которых измеряют поверхность земли.
– Это те, что на треногах? Землемерные? А я-то подумал! – захохотал Павел. – Слушай, Саша, да ведь у тебя кусок хлеба в кармане, если ты можешь землеустройством заниматься и карты всякие составлять. Значит, с учебой покончено и диплом с российским гербом у тебя на руках?
– Нет, брат, – покачал головой Александр, – самое трудное время сейчас наступило. Ведь я геодезию и математику бросил и недоучкой из института ушел. Долго рассказывать, но произошло самое неожиданное: голос у меня появился. Тенор. Сулят будущее, успех на сцене, гастроли. Я тебе на завтрашнее представление, контрамарку достану. Скажешь потом, как мой дебют выглядел. Шутка ли сказать, сам великий Собинов будет слушать! Даже страшно становится.
– Да ведь я-то судья какой, – вздохнул Павел, – кроме церковного хора да арестантского пения, никакой музыки не слыхивал. – Он перевел взгляд на фотографию, стоявшую на маленьком столике. Раньше были в моде такие фотографии, наклеенные на плотный картон, на обороте которых были оттиснуты и название города, где этот снимок был сделан, и адрес владельца мастерской.
– Разреши? – попросил Павел.
Брат, ни слова не сказав, кивнул. Павел взял со стола снимок. Пристально всмотрелся в профиль незнакомой девушки. Она сидела, подперев кулачком нежный подбородок. Возможно, фотограф долго искал наиболее выигрышную позу, а то и покрикивал на нее деспотически, дескать, не так сидите, не так держите голову, и это оставило на ее лице тень неудовольствия. Но даже и несколько сердитая, с короткой стрижкой и остроскулым лицом, с не очень высоким лбом и чуть прищуренными глазами, с ямочкой на щеке и мягким очерком подбородка девушка эта была очень привлекательна. Под снимком на сером картоне, справа от размашистых букв «Фотография Качинского», сохранилась надпись: «Милому Саше. Жди и верь».
– Это твоя невеста? – спросил Павел, отводя глаза от фотографии.
– Бывшая, – вымолвил брат.
– Почему?
– Потому что она теперь невеста другого, – печально закончил он. – Финита ля комедиа.
– Какая же это комедия, если тут драма, – взорвался Павел, которого вывело из себя убитое горем лицо младшего брата. Тот сидел, уткнувшись подбородком в белую накрахмаленную рубашку, побелевшие его губы не в силах были удержать тяжелого вздоха. – Какая же тут комедия! – зло повторил он. – Тут драться надо, кричать во весь голос, бить.
– С кем драться, кого бить… ее, что ли? – простонал Саша. – Да я ни единому волоску не позволю упасть с ее головы, и, если для нее этот самый саперный инженер, этот самый Ванечка Загорулько, лучше меня, пусть поступает, как хочет, лишь бы она была счастлива.
– Нечего сказать, – проворчал Павел, – полное непротивление злу. Как хоть ее зовут, если не секрет?
– Надежда Изучеева.
– Погоди, погоди, – присвистнул от изумления Павел, – так это и есть дочь того самого каменщика Изучеева, с которым подружился наш отец?
Александр молча кивнул, и старший брат понял, что больше расспрашивать не надо. Он изменил тему разговора, стал интересоваться успехами брата в оперном искусстве, о котором сам не имел ни малейшего понятия, потому что никогда еще в своей трудной и беспокойной жизни профессионального подпольщика оперных театров не посещал и, чем отличается тенор от баритона, не знал, а лирический тенор от драматического – тем более. Лишь отрывочно было ему известно, что есть теперь на Руси великий певец Шаляпин, мужицкий сын, которого признал весь мир, а имена Собинова, Неждановой и других корифеев сцены были ему неведомы вообще.
– По-моему, ваша опера – это искусство для избранных, а не для народа. Для тех, которые водочку-то закусывают не огурцами и черным хлебом, а устрицами.
– Устрицами водку не закусывают, – возмутился Александр, и большой его лоб побагровел от негодования. – Дурак ты, Пашка. Смотри своему Ленину не скажи о том, что опера для избранных, а не для народа. Он тебе за такие слова по шее надает.
– Вот еще! – огрызнулся старший брат. – Ленин за пролетариат, а твоя опера для одних буржуев предназначена.
Александр справился с порывом негодования и рассмеялся.
– Дурак ты, еще раз говорю. Вот послушаешь завтра оперу во всем ее блеске, потом и судить будешь, на кого такая красота рассчитана. Мне кажется, на умных, тонких в своих чувствах людей, способных понимать подлинное искусство. А кто они – значения не имеет. Именно для всего народа оперное искусство и рассчитано. Придет время, когда в каждом большом городе оперный театр будет построен.
– Да ну! – недоверчиво воскликнул Павел. – Надо будет у Фрола Иннокентьевича спросить, так ли это. Может, и я в какой уклон впал.
– А кто такой Фрол Иннокентьевич? – в свою очередь озадачился Александр.
– О! – обрадовался тому, что он в чем-то может быть более осведомленным, чем брат, воскликнул Павел. – Это, друг ты мой, голова! Он же саратовский университет кончал, все знаменитые книги, какие только есть на свете, им перечитаны. И уж что-что, а про оперу должен вот как знать! – Павел ребром ладони провел по своему кадыку.
Александр всматривался в лицо родного брата, думал о нем. Как его ожесточила жизнь! Сколько он перенес правого и неправого! Зачем он встал на эту опасную тропу революционера-подпольщика?
– Паша, – заговорил Александр просительно, – а почему ты не приобретешь никакой профессии? Ведь служить делу революции, в которое ты так веришь, было бы гораздо легче, если бы ты был, ну кем, скажем? Ну, допустим, врачом, учителем, инженером.
Павел гулко рассмеялся:
– Спасибо за науку, братишка, только ты опоздал. Когда пролетарская революция победит, я не буду в нахлебниках ходить у народной власти. Знаешь, сколько университетов я прошел? Во время высылки в Вятскую губернию плотницким делом овладел, да и у краснодеревщиков кое-что позаимствовал. А когда в Бутырках сидел, столько приходилось с соседями по тюремной азбуке перестукиваться, что могу царского министра по этим делам заменить, и царю Николашке не будет от этого хуже. Смекаешь? Да и в качестве забойщика я в состоянии на хлеб и молочишко заработать. А главная моя профессия, сам понимаешь, какая: служить революции до последнего удара пульса.
– А если революция не победит? – тихо спросил Александр. Спросил и с беспокойством поглядел на старшего брата, опасаясь, что тот вспыхнет, нагрубит, ударит кулаком по столу, да так, что затрясутся тарелки с дорогими закусками и перевернутся рюмки с недопитым шустовским коньяком. Но этого не произошло. Павел поднял на него взгляд, с волнением сказал:
– Этого не может быть. Разуй свои глаза, братишка. Сними свое пенсне, если оно тебе мешает. Или ты не видишь, что сейчас делается вокруг? Нас теперь не сотни и не тысячи. Нас уже миллионы.
– Миллионы полуголодных и сирых?
– Сегодня – да, – сверкнул глазами Павел. – Но завтра мы станем другими, ибо будущее за угнетенными массами. Ты не обессудь, что я с тобой как на сходке говорю. На наших сходках много мудрых вещей перед их участниками открывается. Вот почему не боюсь я ни новых тюрем, ни допросов, ни пыток. Ты не веришь в наше дело. А почему? Неужели тот достаток, который ты имеешь, твоя возможность носить черный фрак, лакомиться балыками и черной икрой заставили тебя забыть прошлое нашего казачьего рода, бунтаря-деда, разорившегося несчастного отца, которому мы даже последние дни не могли скрасить? Или для тебя всего важнее пословица «сытый голодного не разумеет»? Нет, ты скажи, не виляй, – наступал Павел.
Но младший брат, подняв на него поблескивающие под стеклами пенсне глаза, упрямо возразил:
– Насчет деда-бунтаря ты это зря. Он прежде всего был преданным слугой атамана Платова, впоследствии получившего от царя графский титул. А ведь вы сейчас требуете уничтожать всех графов и атаманов.
– Чушь! – выкрикнул Павел. – Вульгарный анархизм, и не больше. Во-первых, партия большевиков никогда так вопрос не ставила, а во-вторых, о нашем деде ты тут сказал неверно. Не был он холуем Платова. Слугой отечества он был, так же, как и сам Матвей Иванович Платов, между прочим. Ты его на одну доску с нынешними царскими генералами не ставь. С теми, которые мирные демонстрации расстреливают. Да и тех казаков донских, что наполеоновскую армаду сокрушили, не сравнивай с нынешними, которые нагайками мирных людей секут. Темный ты человек, братишка, хотя и «кармен» всяческих поешь.
Павел посмотрел в окно. Над Петербургом металась метель. Снег валил на широкий Невский проспект, по которому, подняв воротники, шли люди: богатые и бедные, чиновники и бесшабашные купчики. Подтянутые, словно влитые в шинель офицеры и совсем юные прапорщики. Спешили озябшие студенты, и часто по одной походке можно было определить, богатый или бедный идет человек. Люди с достатком, вышедшие подышать вечерним морозным воздухом, передвигались неспешно, с достоинством. Бедные, обремененные своими заботами и делами, пробегали быстро, умело лавируя в густой толпе, чтобы не дай бог не задеть даже легонько какого-нибудь статского советника, преуспевающего купца, а то и генерала.
Павел перевел взгляд на щедро накрытый стол, отметил, что брат с вожделением намазывает черной икрой хлеб. «Бедняга, – усмехнулся он про себя, – вот что значит прожить голодное детство. Появилась возможность, и он никак не может наверстать упущенное».
– А ты, оказывается, лакомка, – дружелюбно усмехнулся он и кивнул на бутылку.
– Выпьем чарочку-другую шустовского коньяку, – весело продекламировал Александр.
Брат не заставил себя ждать. Обтирая губы тыльной стороной ладони, он крякнул, как и всякий заправский мастеровой, и нацелился вилкой на балык.
– Паша, – бодрым голосом спросил Александр, – а что вот ты думаешь по поводу всяческих прогнозов исхода войны с японцами? Что об этом говорят в ваших политических кругах? По-моему, доблестная русская армия расколотит самураев без труда.
Гость скатал из хлебного мякиша шарик, положил его в, рот, демонстрируя тем самым брату свою полную невоспитанность.
– Я не оракул, – ответил он лениво, – и пророк из меня никудышный. Говорят, однажды великий полководец должен был со своим войском переправиться через большую реку, чтобы сразиться с очень сильным врагом. Понятное дело, он изрядно волновался и, решив заручиться поддержкой, подъехал к знаменитому оракулу и спросил: «Скажи мне, мудрейший, одержу ли я победу?» А оракул ответил: «О воин, одно могу тебе предречь: перейдя реку, разрушится большое царство». Полководец решил, что одержит доблестную победу после такого предсказания. Ринулся он в бой, а ему так дали, что еле ноги унес с оставшейся половиной войска. Разыскал полководец мудреца, занес над его головою меч и заорал: «Отвечай, почему мне солгал, иначе голову отрублю!» А мудрец ответил: «Я говорил тебе правду, воин. Ты перешел реку, и наше царство разрушилось».
– Странно, а я этой истории не знал до сих пор. – Александр засмеялся и посерьезнел: – Знаешь, брат, не обижайся. Я сначала воспринимал тебя как обычного, нигде не учившегося мастерового, а теперь убедился в своем заблуждении. Ан ты не такой. Ты без университетов образовался.
– Да уж какие там университеты, – горько вздохнул Павел. – Мне часто приходится вращаться среди таких мудрых людей, до которых умом своим никогда не поднимусь. Ну, а насчет японской кампании выскажусь так: рано говорить «шапками закидаем». Как бы не пришлось зады показывать неприятелю. Царь наш дурак. Министры, которые его окружают, готовы торговать Россией, объявляя себя выдающимися патриотами. Народ в нищете и озлоблен на царское правительство неимоверно. Солдат устал от муштры и отнюдь не горит желанием лезть в окопы.
Александр сердито покачал головой:
– Извини, тут я с тобой не согласен. Николай Александрович далеко не дурак, хотя и не Петр Великий, разумеется. Однако воспитанный человек. Я его собственными глазами видел однажды на прогулке. Он весьма обаятелен и скромен в своей полковничьей шинели. Он бы мог себе и звание генерала принять. А он…
– Эх ты, – прервал брата Павел, – черное от белого отличить не можешь. Дерьмо твой царь. И всего-то им талантов было проявлено, что он лучших сынов России по тюрьмам да каторжным местам рассовал. А ты нашел идола, которому поклоны отбиваешь… Да пошел он… – И Павел смачно выругался.
– Ладно, – примирительно согласился Александр. – Ну а ты-то сам как смотришь на исход войны с японцами?
– Да чем скорее самураи нашим войскам шею намылят, тем будет легче.
– Но ты же русский человек, Павел! – возмутился брат. – Как же ты можешь радоваться поражению нашего флага?
Павел весело глянул на него.
– Смотри-ка! Эка тебя стало корежить. Ну и глубоко же он сидит в твоем теле, братишка, этот самый патриотический угар. Царя тебе жалко, поражения флага жалко, а обо всех расстрелянных и загубленных под этим флагом ты подумал? О разорившихся и обнищавших, о таких же голодных, каким и ты был в Новочеркасске? Действительно, сытый голодного не разумеет. Посмотри лучше на великолепный Невский проспект. Гоголь хорошо его в своем сочинении описал. Таким этот проспект и по сей день остался. Там наше самодовольство и чванство да буржуйская сытость разгуливают, против которых подлинные сыны отечества борются.





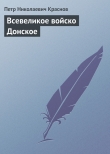


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)