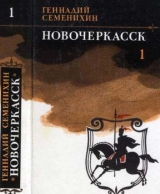
Текст книги "Новочеркасск: Книга первая и вторая"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Глухой ночью под свист ветра, старательно облизывавшего угол дома, выходящий на две улицы, крепко обнявшись под одеялом, мечтали Андрейка и Любаша, как будут купать своего первенца, каких распашонок и чепчиков ему нашьют, какое он первое слово скажет. Они проговорили почти до рассвета. Потом на какой-то фразе речь Любаши стала замедленной, и, недоговорив, она провалилась в сон. Андрей поцеловал ее, как маленькую девочку, и, не став будить, ушел из дому. Он всегда уходил на службу в форме урядника Атаманского полка и с гордостью носил на груди Георгия. В конюшне его уже ожидали конюхи. Надо было распределить работу на день. Он и себе оставил часть общего дела, потому что никогда не чурался труда. На одной из пролеток надо было заменить спицу, и он бойко взялся за работу, когда на пороге появилась фигура дежурного.
– Якушев, там тебя какой-то подполковник из Питера требует. Говорит, от самого царя.
– Вы, наверное, ошиблись, – спокойно возразил Андрей.
Обтерев тряпкой огромные, покрасневшие на холоде ладони, он вышел во двор и увидел карету, забрызганную грязью, а у нее – тучного краснолицего подполковника и двух жандармов. И у Андрея от горького предчувствия тоскливо сжалось сердце. На крыльце, что вело со двора в войсковую канцелярию, рядом с дежурным сотником уже стояло несколько зевак. «Только бы не при всем народе», – пугливо подумал Андрей, но подполковник Лунев приблизился к нему, дохнул в лицо винным перегаром и бесцеремонно выкрикнул:
– Урядник Якушев?
– Так точно, ваше высокоблагородие.
– Бывший крепостной деревни Зарубино Воронежской губернии?
– Так точно, – побелевшими губами подтвердил Андрей.
– Ты убил помещика Григория Афанасьевича Веретенникова? – еще громче гаркнул полицейский подполковник, а два жандарма вытянулись во фрунт.
Андрею вдруг показалось, будто свинцово-серое низкое небо валится на него, а крыльцо войсковой канцелярии со стоящими на нем людьми кренится набок, как накренился когда-то у черкасского берега от страшной волны плот, на котором они с Любашей спасались. В горле стало сухо. Он попытался проглотить слюну, но не смог. И ему показалось, что нет сейчас ничего в мире, кроме красного незнакомого лица и ненавидящих выпученных глаз.
– Именем государя императора ты арестован! – рявкнул Лунев и кивнул выжидающим жандармам: – Взять его под стражу!
Два жандарма бросились к Якушеву, схватили его грубо за плечи, с треском сорвали погоны. Андрей стоял, безвольно склонив голову. В густых волосах таяли падавшие с неба снежинки. Но когда один из жандармов протянул руку, чтобы сорвать Георгиевский крест, лицо его внезапно побелело, а глаза полыхнули бешенством.
– Не смей! Ты мне его не давал. Я за него кровью заплатил на поле боя!
Двумя могучими руками он разбросал в разные стороны жандармов, так что один из них задом шмякнулся в мокрый снег.
– Взять! – вторично закричал подполковник Лунев, и жандармы опять бросились на Андрея.
В эту минуту на широкое подворье войсковой канцелярии сытые кони внесли расписанный вензелями возок, из которого медленно вышел грузный человек в длинной шинели и золотых эполетах.
– Что здесь происходит? – нахмурившись, спросил он резким голосом.
Подполковник жандармерии мгновенно узнал этого человека по многочисленным портретам.
– Ваше высокопревосходительство господин атаман Войска Донского…
– Я еще и граф, – оборвал его неприветливо Платов. Подполковник жандармерии мгновенно поправился и, не отнимая руки от виска, продолжал:
– Докладывает подполковник Лунев. Я прибыл сюда с ведома государя императора с надлежащим препроводительным пакетом, дабы взять под стражу опасного преступника, беглого крепостного крестьянина Андрея Якушева. Десять лет назад он убил своего помещика дворянина Веретенникова, после чего бежал на Дон.
Одинокая фигура Якушева, стоявшего без пояса и погон посреди двора, казалась жалкой и безвольной. Сжимая тяжелые кулаки, он понуро смотрел не то на носки своих сапог, не то на хлипкий, пропитанный грязью снег с четко впечатанными в него следами от колес и саней. Всякая воля к сопротивлению покинула его большое, сильное тело. Платов с удивлением вгляделся в раздавленного тоской и горем человека.
– Ты убил? – спросил он наконец.
– Да, – тяжело ответил Андрей и не поднял на него глаз.
– Не может быть! – ахнул Платов. – И никому не сознался?
– Да, – кивнул распатланной головой Якушев.
Лунев победоносно взглянул на донского атамана.
– Разрешите заковать его в кандалы? – самоуверенно справился он.
Предупрежденный о строптивости донского атамана, жандармский подполковник любовался его растерянностью, понимая, что всю операцию с арестом урядника надо завершать немедленно, пока Платов находится в шоковом состоянии.
– Действуйте, – приказал он жандармам, и те опять приблизились к Якушеву. Один достал потемневшие от времени наручники.
– Нет, подожди! – вскричал вдруг Платов, и лицо его полыхнуло гневом. – Здесь пока один я распоряжаюсь. Давай-ка сюда цареву грамоту, господин хороший, – бесцеремонно ткнул он пальцем в Лунева. – А ты следуй за мною в кабинет, урядник. Да подпоясаться не позабудь, тебя еще никто пока не разжаловал. А вы, – крикнул он жандармам, – а ну-ка, немедленно водворите на его плечи погоны! Кто имел право без моей на то воли их срывать? – грозно поглядел он на подполковника.
Когда Якушев привел себя в порядок, Платов молча взял у Лунева пакет с сургучными печатями и двинулся к крыльцу. Не поднимая головы, Андрей поплелся за ним. Лунев подумал-подумал и тоже сделал несколько не очень уверенных шагов следом. Но Платов резко оборотился и весь вспыхнул:
– А ты куда? Когда будешь надобен, сам позову.
В богато обставленном заморской мебелью просторном атаманском кабинете был маленький, парчой темно-красного цвета обтянутый диванчик с отделанными под золото изогнутыми ножками, на котором любил, в часы горестей или радостей либо когда надо было со всех сторон обдумать принятое ответственное решение, отдыхать Матвей Иванович. Скинув генеральскую шинель и небрежно бросив ее в кресло, он сел на этот диванчик и кивнул Якушеву, неприятно пораженный его растерянностью, покорностью, землистым цветом лица и готовностью ко всему:
– А теперь садись рядом и рассказывай. И чтобы начистоту до каждого слова было. И не торопись.
Очевидно, рассказ его занял очень много времени, потому что, когда он закончил, небо за окном уже не было таким беспросветно серым – в нем появились голубые проталинки, а в них засверкало солнце. Платов сидел с непроницаемым лицом, подперев ладонями виски, будто они у него очень болели.
– Страшная история, парень, – вымолвил он тихо. – Страшна она не тем, что ты убил, а потом бежал к нам в наивной вере, что с Дона выдачи нет, не ведая о том, что донская вольница давным-давно скончалась. Страшна эта история твоею участью, Андрейка, и страданиями твоими, как прошлыми, так и будущими! Ведь если разобраться, барин твой Веретенников подлец подлецом и ты был прав, когда за честь любимой вступился. Но закон есть закон, а по закону ты уже десять лет числишься беглым убийцей.
– Я это понимаю, Матвей Иванович, – упавшим голосом согласился Андрей.
Платов на мгновение оживился:
– Скажи, мой друг, а конь с черной звездой во лбу, на котором ты бежал, не мой ли Ветерок часом был?
– Его тогда Зябликом звали.
– Вон оно что! То-то я замечал, что это имя с твоих уст не однажды срывалось. – Платов взял в руки пакет, неторопливо его вскрыл перламутровым длинным ножом для разрезания книг, просыпав при этом сургуч от печатей на ковер, дважды перечитал короткий рапорт графа Разумовского и знакомым почерком начертанную на нем резолюцию: «Взять под стражу. Доставить в Воронеж. Судить!» Потом прочел эти слова Андрею, тихо сказал: – Плохо твое дело, парень. Есть обстоятельства, что превыше меня, и в их числе – воля нашего государя. Ведь я же его верный слуга. Все, что пока я могу сделать, это подать прошение о смягчении приговора, вплоть до оправдания за давностью свершенного, потому как ты, георгиевский кавалер, того заслуживаешь. И я это немедленно исполню, верь моему слову, урядник. Но освободить тебя сразу… не отдать в руки правосудия… этого и я, Матвей Платов, не в силах.
– Спасибо, Матвей Иванович, – ответил Андрей глухо, – я знаю силу закона. Она у меня на спине барской плеткой навек прописана. И то знаю, что судить меня будут по закону. Но Любаша! Она же ни в чем не повинна. Неужто и с нею поступят жестоко? Она ведь матерью стать собирается.
Платов отрицательно покачал головой.
– Ее не тронут. В этом я клянусь.
Андрей поднял голову. Убитое горем его лицо на мгновение просветлело. Взгляд стал успокоенным и твердым.
– Я верю, – прошептал он подавленно. – Как хорошо, что будет именно так, ваше сиятельство. А я запираться на суде не стану. Что было, то было. Но если бы снова все точь-в-точь так же сложилось, я бы своего барина Веретенникова и во второй бы раз подсвечником стукнул. А теперь одному погибать мне куда будет легче. Лишь бы Любашу не тронули.
– Почему же погибать? – удивился Платов. – Тебе после подвигов во имя отечества – и погибать! Дадут несколько лет каторги, потом снизят по моему ходатайству, а то и совсем освободят!
– Не в том дело, Матвей Иванович, – горько возразил Якушев, не зная, куда девать большие беспокойные руки. – Был урядник Якушев, и нет урядника Якушева. Велика ли беда. Страшно другое. Страшно, что и после смерти душу твою терзать будут, как к бутылке с горькой водкой, ярлык убийцы к тебе приклеят. Любашу изведут. Сынишка или дочка вырастет, а ему или ей в глазенки святые и чистые тыкать станут: мол, знаешь, что твой отец – душегуб. Спасибо вам, Матвей Иванович, за все доброе, что для меня сделали. Но не подумайте, что такой я тупой и лишен возможности понять, что не можете и вы от позора меня избавить лютого. Любашу не оставьте в беде, ваше сиятельство, – еще раз попросил он.
Андрей еще более побледнел, глаза его наполнились сухим блеском, и весь он стал похож на большого сильного зверя, изготовившегося к прыжку.
– Дозвольте последнюю просьбу, Матвей Иванович?
– Я тебя слушаю, Якушев, – мягко ответил Платов.
– Мне бы с конем проститься, с Зябликом, а потом и в дальнюю дорогу.
– Сходи, – согласился атаман. – А попутно кликни мне старшего жандарма.
– Вот что, братец, – небрежно сказал Платов Луневу, демонстративно не предлагая ему садиться. – За своеволие, выразившееся в том, что ты без моего на то ведома пытался арестовать урядника, подчиненного лично мне, тебя бы стоило строго наказать. Но что поделаешь, – Матвей Иванович вяло махнул рукой, – любая воля государя императора для меня, его верного слуги, – закон. Урядник Якушев уедет вместе с вами, подполковник, а следом я пошлю в Санкт-Петербург своего курьера с рапортом, в коем буду просить всемилостивейшего нашего монарха и повелителя Александра Первого о снисхождении к этому подлинному герою Отечественной войны.
…Выйдя во двор, Андрей стремительно промчался мимо зевак и двух остолбеневших жандармов. В конюшне было пусто. Лошади хрустко жевали сено. Знакомый запах навоза, кожи и пота теплой волной ударил в лицо. Андрей закрыл на деревянный тяжелый засов широкую дверь, перевел дыхание и медленно прошагал в дальний угол конюшни, куда еле-еле дотягивался из узкого, высоко прорубленного оконца слабый лучик дневного зимнего света. В этом углу находилось еще одно живое существо, которое всегда могло его понять а утешить.
Андрей приблизился к Зяблику и тихо его окликнул. Конь перестал жевать, выжидающе поднял голову с черной выцветшей звездой во лбу, посмотрел на него красным водянистым глазом и коротко заржал. Андрей обхватил руками его голову, прижался к теплой морде щекой.
– Ты же меня понимаешь, Зяблик? – прошептал он до крайности тихо. – Ты бы тоже на моем месте не мог поступить иначе. Ты знал меня молодым и сильным, а теперь видишь сломленным. Ты спасал меня от смертельной погони и когда-то на казачьей скачке первого примчал к призу. Ты все должен понимать, так что прости меня, Зяблик. – И Андрей подумал о том, что кто-то непреклонно-жестокий провел в его жизни последнюю разграничительную черту. Но почему же «кто-то»? Царь! И по одну сторону этой черты осталась его прежняя жизнь, а по другую будущая, та, что начнется с той минуты, когда карета с двумя жандармами и с этим самым их начальником Луневым помчит его в Воронеж, в острог. Он сейчас с удивительной четкостью разделял эти две половины своей жизни. В первой из них, насчитывающей десять лет, была заключена вся его молодость, от восемнадцати до двадцати восьми. Перед его глазами промчалась целая вереница людей, добрых и светлых, с какими он встречался: дед Пантелей, Митрий Бакалдин, Сергей Чумаков, Лука Андреевич и Дениска, Анастасия и майор Денисов и мудрый, хотя и не всевластный, атаман Платов.
В этой короткой половине было много горького, но и много прекрасного, и прежде всего Любаша, побег на Дон через разлив, основание Новочеркасска и атака под Березиной, штурм Намюра и, наконец, ожидание ребенка и ликование оттого, что не иссякнет теперь никогда род Якушевых. И если бы ради всего этого действительно понадобилось бы вновь убить жестокого помещика Веретенникова, рука бы у него не дрогнула.
По ту, другую сторону разграничительной черты были полосатый арестантский халат, тюремная камера, допросы я долгий марш в кандалах к месту заключения: то ли на север, то ли в Сибирь, самую что ни на есть далекую, где раньше всего встает неласковое солнце. Нужны ли эти годы тоски и страданий? Ведь и потом, если он выживет, найдутся люди, которые, не зная ничего толком, будут тыкать пальцем вослед, произнося короткое слово: убийца! И растворится у всех в памяти герой Отечественной войны 1812 года георгиевский кавалер урядник Андрей Якушев. Останется лишь отбывший срок наказания каторжник.
Андрей еще раз прильнул лицом к лошадиной морде, подавленно вздохнул и, успокаиваясь, подумал: «А ведь если меня не будет, то и судить-то некого. Значит, и бедной Любаше не понадобится свидетельствовать в суде, и будет навсегда спасена ее честь человеческая, и не опоганено имя».
– Прости меня, Зяблик, – проговорил он вслух. – Ведь если разобраться, ты – вся моя жизнь и судьбина. Прощай, но поступить по-другому я не могу.
Из груды сваленных в углу седел, попон и остальной сбруи Андрей выбрал самые крепкие вожжи, посмотрел на темную балку, провисавшую над головой, и стал вязать петлю.
11
Когда, закончив всю беготню, связанную с оформлением препроводительных на арестованного Якушева, подполковник жандармерии Лунев вновь переступил порог атаманского кабинета, Платов неохотно оторвал глаза от стопки бумаг на своем письменном столе.
– Давай подпишу, служивый, – брезгливо поморщился атаман и обмакнул в чернильницу перо.
В эту минуту из войсковой конюшни донесся отчаянный конский вопль. Лошадь захлебнулась тонким, пронзительным ржанием, к которому примешался и топот, не оставлявший сомнений в том, что она мечется теперь по конюшне, наводя ужас на шарахающихся от нее соседок. Опытный конник, Платов тотчас же узнал, кому принадлежал этот высокий, беспокойно-вибрирующий звук.
– Это же Ветерок! – воскликнул генерал-лейтенант. – Неспроста он!
Платов потянулся за колокольчиком, чтобы послать кого-нибудь на конюшню узнать, в чем там дело, но в эту минуту в кабинет без спроса ворвался бледный до синевы писарь Спиридон Хлебников, схватившись за седые виски, закричал:
– Ваше сиятельство!.. Матвей Иванович! Там, на конюшне, урядник Якушев повесился!
Платов медленно и тяжело, как человек, получивший страшный неожиданный удар именно тогда, когда меньше всего этого ожидал, опустился в кресло. Но многолетняя привычка как в бою, так и в мирное время стойко встречать любые потрясения выручила его и на этот раз. Опираясь на подлокотники, он выпрямился над столом, увидел перед собой красное, с заплывшими глазками лицо подполковника жандармерии Лунева и вдруг, объятый яростью, на мелкие куски разорвал принесенную на подпись подорожную и, показав две дули белому как мел жандарму, воскликнул:
– Накося! Не увезете вы теперь в воронежский суд Андрея Якушева. Некого теперь судить за этого подлеца и развратника Веретенникова. Да и вы покидайте-ка побыстрее нашу донскую землю!
Когда Матвей Иванович вышел на крыльцо, Якушев лежал на снегу, с бледным, удивительно чистым и успокоенным лицом. Лекарь, суетившийся подле мертвого, уже укладывал свой чемоданчик. Весь двор был забит невесть откуда набежавшими казаками. Они тесным кольцом окружили и мертвое тело, и забрызганный грязью экипаж, к которому в смертном страхе жались перепуганные жандармы. Кольцо сжималось, и голоса над землей, покрытой липким февральским снегом, звучали все грознее и грознее.
– Самого верного друга я потерял! – рыдал Сергей Чумаков. – Да неужто мы это так и спустим негодяям, которые погоны с его плечей рвали?!
– Станишники! – взметнулся тонкий голос Митьки Безродного. – Что я гутарю. Давайте мы энтих пришельцев под аксайский лед вместе с фаэтоном спустим, в первую прорубь. Пускай нашей донской водички досыта нахлебаются.
Платов властно поднял руку.
– Казаки! – выкрикнул он, и все стихло. – Не в мести дело. Мы – сыны царя-батюшки и обязаны выполнять его волю. Клубок лжи и горя вокруг урядника Якушева мы бы распутали, и его оправдали. Но Андрея Якушева теперь нет в живых. Обнажим головы перед телом героя Березины и Намюра урядника Якушева, сына Дона тихого, и пусть он навечно останется в наших сердцах и думах. А теперь расходитесь!
Толпа с глухим недовольным ропотом отхлынула со двора. К Матвею Ивановичу подошел все еще бледный Лунев, дрожащим голосом произнес:
– Ваше сиятельство, не знаю, какими словами и благодарить. Вы спасли жизнь и мне, и моим подчиненным. Не могли бы вы дать для безопасности нам людей, хотя бы на первые полсотни верст обратного пути?
– Людей лишних на Дону нет, – жестко отрубил Платов. – А безопасности ежели хотите, так уповайте на резвых коней и быстроту, с которой вы покинете нашу донскую землю. Рекомендую скакать во весь опор да в светлое время.
12
Платов думал: «Какая же маленькая песчинка один человек в огромном море людском, что населяет Россию! Вот наложил на себя руки урядник Якушев, и те самые люди, что занимались его судьбой, разыскивали, докладывали самому императору Александру, примчались из Петербурга сюда, на Дон, чтобы сорвать с него погоны, опоганить честь и славу героя войны, в какой на карту были поставлены слова: Россия или Бонапарт, пытались обрядить в полосатый арестантский халат, – все эти люди, кто через месяц, а кто и значительно раньше, забудут его, а человеческое море будет существовать и дальше. Но возьмет ли в нем когда-нибудь верх справедливость и то доброе отношение к человеку, о котором твердят нам духовники? – И он тяжко вздохнул, понимая, что не сыщет на этот вопрос ответа. – Я выигрывал и проигрывал сражения, отступал и наступал, обращал в бегство вражеские полки и дивизии, а вот храброго человека Андрея Якушева защитить не мог. А царь даже мертвого негодяя, его мучителя барина Веретенникова, защитил через целое десятилетие после его гибели и меня, слугу своего верного, атамана донского, не спросил, а надо ли это делать, О-хо-хо-хо-хо!»
Вечерний мороз замысловатыми узорами разрисовывал окна его кабинета. Но наледь была еще слабой, багровое закатное солнце ее пробивало. Наступил тот час, когда атаман садился в возок и уезжал домой, в имение, подаренное ему на хуторе Мишкине, что был расположен верстах в пяти от войсковой канцелярии. Вошел мрачный высокий жилистый Спиридон Хлебников, угрюмо сообщил:
– Лошади поданы, ваше сиятельство. Только там, в приемной, вас женщина одна дожидается.
Платов поморщился и укоризненно заметил:
– Спиридон, я же сказал, что никого не принимаю.
– Ее вы примете, – угрюмо возразил Хлебников. – Это Анастасия, вдова Луки Андреевича Аникина, у ней в доме Якушев на постое находился.
– Ее зови, – вздохнул Платов, – для нее мои двери всегда раскрыты.
Анастасия перешагнула порог и быстрыми мелкими шагами устремилась к нему. Была она в бархатной короткополой шубенке, уже порядком поношенной, и черных, с блестящими застежками сапожках, подаренных Андрейкой после возвращения из похода. В темных сухих глазах горела немыслимая скорбь. Не спрашивая разрешения, она опустилась на стул, убитым голосом сказала:
– Отец наш родной… батюшка Матвей Иванович, да что ж это происходит на божьем свете… Любаша скончалась!
– Какая Любаша? – недоуменно привстал в своем кресле Платов и увидел, как задрожал подбородок у этой когда-то красивой, а теперь седой и совершенно увядшей женщины.
– Любаша, жена Андрейки Якушева, – шепотом пояснила Анастасия.
Платов схватился за грудь и осел. Впервые за долгую жизнь так сильно заныло и застонало сердце. Стулья, приставленные к стенам, книжные шкафы, окна и подоконники поплыли в глазах, раздвоилась горестная фигура Анастасии, и Матвей Иванович неожиданно подумал, что он, в сущности, уже никакой не герой, а одряхлевший старик, жить которому осталось так мало. Словно из небытия доносился до странности спокойный голос Анастасии, временами сбивавшийся на шепот:
– Да как же, Матвей Иванович? А я-то думала, тебе это уже ведомо. Дурная весть, она как перекати-поле. Узнала Любаша про конец Андрейки и грянулась оземь. А потом родовые схватки пошли… ее в больницу, как можно скорее. Мальчик жив, а она, как видите… – И Анастасия все же заплакала. – Вы добрый, Матвей Иванович, – сказала она, наконец справившись с рыданиями. – Разрешите ребенка усыновить, а то начнут его таскать по приютам. А я одна, на всем белом свете одна… ни Луки моего горемычного, ни Андрейки, ни Любы.
– Да, да, – через силу промолвил Платов. – Конечно, усынови. И пособие на него из атаманской казны будет. Я распоряжусь.
– Вот и спасибо за доброту твою, Матвей Иванович, – низко поклонилась Анастасия и с тяжело опущенной головой покинула кабинет.
Платов очнулся от вторичного возгласа Спиридона Хлебникова:
– Ваше сиятельство, лошади поданы.
Высокий и чахлый Спиридон развернул генеральскую шинель. Платов долго тыкал руками в воздух, прежде чем попал в рукава. На студеном ветру ему стало легче. А когда кони рысисто вытащили возок на центральную улицу и помчали по ней, ему стало и вовсе сносно.
Был поздний вечер. Неумолимая часовая стрелка завершала отсчет еще одного прожитого дня. К вечеру оживал центр Новочеркасска. Деловой люд торопился со службы домой, зажигались огни у подъездов. Скрипели на подмерзшем снегу полозья саней, и накрытые полостью барыньки мчались под крики возниц. Бывший солдат на почерневшей деревяшке вместо ноги протягивал на перекрестке руку и просил «христа ради». Чиновники, подняв воротники, равнодушно пробегали мимо, не обращая никакого внимания на его злую тоску. Но вот подошла большая группа офицеров во главе с хмельным хорунжим Жмуриным и отвалила ему целый рубль.
Каждый по-своему устраивался в этом мире. У каждого была своя цель, только у одного поменьше, а у другого побольше, свои радости и невзгоды.
Верст восемьдесят отмахала уже запряженная четвериком жандармская карета, а подполковник Лунев все еще продолжал испуганно поглядывать в заднее окошко, опасаясь, что нагонят его-таки донские казаки и спустят, как и обещали, под лед.
В глухой деревне Зарубино горланила пьяная гармонь, а барский конюх дед Пантелей, стоя под образами на коленях, вымаливал у Христа покой и счастье для им незабытых беглецов Андрейки и Любаши, не ведая, что тех нет уже и в живых.
В Петербурге граф Разумовский придирчиво осматривал наряжавшихся на бал грузных, некрасивых дочерей своих и думал, как бы поскорее их выдать замуж, а бывший полковник Рысаков, играя в вист, представлял, как будет присутствовать в губернском воронежском суде в час, когда дерзкому холопу Андрею Якушеву, поднявшему руку на его собутыльника Веретенникова, вынесут страшный приговор и закуют в кандалы.
Сложно жила Россия, великая и могучая, нищая и страдающая, еще не разбуженная революцией.
Когда сытые кони вынесли возок на самую вершину Бирючьего Кута, откуда было рукой подать до хутора Мишкина и господского дома, Платов приказал остановиться и сошел на дорогу. Внизу на несколько верст окрест сияла горсточка маленьких и больших огней. Он подумал о том, что пройдут годы и этих огней станет во много крат больше и по вечерам они станут заливать своим светом не только равнинную центральную часть Новочеркасска, но и его склоны, потому что и склоны горы будут густо облеплены новыми зданиями. Расстроится во все стороны столица Войска Донского, им основанная и защищенная, только его, атамана, уже не будет.
– А будет ли тогда справедливость? – спросил себя Платов, но лишь вздохнул вместо ответа. И, вглядываясь в еще негустую, резко очерченную цепочку огней, твердо вымолвил: – Пусть люди, что придут вместо нас, будут счастливы!





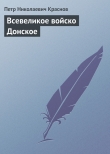


![Книга Бунтари и воины [Очерки истории донского казачества] автора Владимир Лесин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-buntari-i-voiny-ocherki-istorii-donskogo-kazachestva-36460.jpg)