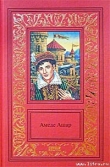Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Мне сразу вспомнилось все, что рассказывали о нем Мадлен Круассан, Буаробер, Скаррон и другие (до сих пор я слушала эти сплетни без интереса): его любовная связь с прекрасной госпожою де Кастельно, которая спала с ним под парадным портретом своего супруга, генерал-лейтенанта; в самый решительный момент маркиз, не спуская глаз с картины, прерывисто восклицал, задыхаясь от усилий: «Великий ге-ге-герой, простите ли вы-вы-вы меня?» или «Как же это я на-на-наставляю рога столь славному во-во-воину!»; его спор за обладание любовницею с Жеромом де Нуво, которому он однажды злорадно предъявил две сотни писем означенной дамы, ее портреты и браслеты из волос, срезанных и сверху и снизу, сказавши, что «тот из них, у кого этого добра меньше», и должен уступить сопернику; его бурный роман с Нинон, пожертвовавшей для него всеми своими «финансистами», Парижем, друзьями и, наконец, длинными золотистыми волосами, которые она остригла на манер пажа, в знак верности любовнику и желания нравиться лишь ему одному; его бешеные приступы ревности, необузданные ссоры при карточной игре, бесстыдные выходки его брата, аббата, собственное его богохульство отъявленного безбожника, заключения в Бастилии, безудержное мотовство, огромное состояние, роскошные замки, охотничья свора в семьдесят псов, породистые лошади, кареты… а, главное, его глаза, которые, пусть их было всего два, сверкали, как десять тысяч бриллиантов.
У меня не было никакого желания длить беседу с таким человеком; одно его присутствие вызывало во мне странные, доселе неиспытанные ощущения – жар в животе, прилив крови к лицу, легкое удушье; ноги у меня подкашивались, и я вынуждена была сесть на стул, чтобы не упасть. Я не сомневалась, что это злое воздействие оказывал на меня адский запах его пороков и что мне как доброй христианке не подобает вдыхать его, разве лишь издали и с омерзением. Сказавши два-три учтивых слова и услышав, как Нинон отрекомендовала меня маркизу, который до того упорно величал меня «мадемуазель», полагая, видимо, незамужней, я замолчала, и кавалер, расположившийся было повеселиться, слегка растерялся. Спасение пришло ко мне в лице моего милого старичка, шевалье де Мере, – он весьма кстати явился в эту минуту, и я, только что увидевшая дьявола, обрадовалась ему, как доброму Боженьке.
После того случая я долго не встречала маркиза: его связь с Нинон кончилась двумя годами раньше, и он наведывался на улицу Турнель лишь затем, чтобы узнать новости о сыне, которого Нинон родила от него и поместила в деревне, у кормилицы; он не был вхож в наше избранное общество и, еще менее того, в послеобеденный кружок моих благочестивых дам. Я не могла удержаться, чтобы не навести о маркизе справки у Буаробера, жившего в его доме, и у госпожи де Моншеврейль, его кузины.
Никто из них не сказал мне о нем ничего худого, но и ничего хорошего я не услышала, маршал д'Альбре, которого я также расспросила о маркизе, ответил, что тот не отличился на войне, зато избрал полем битвы постель Нинон, где действовал с таким пылом, что место это оставалось за ним куда дольше, нежели за другими; маршал добавил, что сей род оружия ничем не хуже прочих. Шли месяцы, я совсем забыла о маркизе.
На улице Нев-Сен-Луи жизнь протекала своим чередом. Господин Скаррон писал длинные поэмы или песенки, в которых, невзирая на свою уверенность в моем благоразумии, обличал мои пресловутые измены, – к счастью, не называя меня по имени:
Неблагодарная, люблю я лишь тебя,
Ты ж щеголяешь лицемерьем смелым
И, на словах меня столь преданно любя,
Мне изменяешь как душою, так и телом.
Притворщица, ведь я люблю тебя!
Или, более отвлеченно:
О, Небеса, о, Боги, можно ль перенесть
То, что душе моей измученной досталось!
Убитая, поруганная честь
– Поверьте, для меня совсем не малость.
Насмешек, поношений мне не счесть;
Молю вас, окажите жалость!
Я пыталась доказать моему супругу, что все эти красноречивые стенания не имеют под собою никакой основы. «Я это прекрасно знаю, – отвечал он, – и вовсе не хочу сказать, что люблю вас более, чем Петрарка любил Лауру, а Данте – Беатриче. Все это просто развлечения стихоплета, который обязан всякий день плакаться на судьбу, чтобы добыть себе пропитание».
И верно, до благоденствия нам было куда как далеко. Мой брат Шарль, изредка наезжавший в Париж, однажды сказал мне, побывав у нас на блестящем ужине, где граф де Гиш и «Орондат» беседовали с герцогом де Вивонном и шевалье де Грамоном: «Сказать по правде, сестрица, вы далеко ушли с тех пор, как мы с вами клянчили милостыню на улицах Ларошели; мне приятно видеть ваше нынешнее благополучие. Хорошо быть женщиною, им легко добиться приличного положения в браке!» – «Что до положения, вы, может быть, и правы, – отвечала я со смехом, – что же до благополучия, то прошу взглянуть!» – и я, приподняв юбку, продемонстрировала ему свои дырявые туфли. После чего поведала, что нам пришлось продать большую часть серебра, которым я так гордилась, и что наш домохозяин, господин Меро, что ни день, «мероизирует» нас по поводу квартирной платы. Шарля ничуть не растрогали эти признания; по крайней мере, он и не подумал вернуть нам долг, вместо которого осчастливил меня двумя-тремя шутками и забавными гримасами, за которые я тут же все ему простила, ибо нежно любила брата. Я всегда радовалась, когда он на несколько дней останавливался в «Приюте Безденежья», и охотно прощала ему необязательность в денежных делах, и то, что он слишком налегал на наше вино и приударял за моими служанками чуть ли не у меня на глазах.
В середине 1658 года Буаробер принес Скаррону записку от своего домовладельца, господина де Вилларсо, в которой тот, после недолгого пребывания в Бастилии, смиренно просил принять его хотя бы на один вечер; Скаррон чувствовал признательность к маркизу еще со времен разгрома Фронды: тот единственный предложил ему помощь, тогда как все друзья поэта бросили его и перебежали к Кардиналу. Посему он с радостью откликнулся на эту просьбу, изложенную, вдобавок, весьма учтиво. Вспомнив о первом впечатлении, произведенном на меня господином де Вилларсо, я попыталась ускользнуть из дома под надуманным предлогом то ли срочного посещения госпиталя, то ли проповеди молодого епископа Боссюэ, талантливого оратора, собиравшего полные церкви народу; увы, муж ничего не захотел слушать. Мне пришлось остаться и принять маркиза; впрочем, я и сама не знала, отчего питаю к нему такую сильную неприязнь, ведь он ни словом, ни жестом не оскорбил меня.
Что ж, я поневоле притворилась любезною и встретила бывшего любовника Нинон, испытывая все то же странное физическое томление, когда он оказывался рядом. Голова у меня шла кругом, я бессознательно запахивала косынку на груди и самым глупым образом обдергивала на себе юбку, словно пыталась скрыть ноги, и без того никому не видные. Наконец, я со стыдом и удивлением осознала этот жест «монастырской воспитанницы», зачислявший меня скорее в дурочки, нежели в скромницы, и огляделась, чтобы проверить, не заметили ли его окружающие; я встретила один только насмешливый взгляд – господина де Вилларсо, который, пользуясь моим смущением, спокойно раздевал меня глазами с головы до ног. Я готова была провалиться сквозь землю. Маркиз, однако, вел себя внешне безупречно; он так умело льстил Скаррону, что тот просил его бывать у нас запросто. «Поймите, сказал он мне вечером, когда я упрекнула его в этом, – Вилларсо сказочно богат; невредно было бы накропать ему какое-нибудь посвященьице».
Первым, однако, написал сам Вилларсо. И это неудивительно, – в отличие от Скаррона, ему не приходилось готовить свои произведения к печати, и оттого дело шло быстрее. Однажды вечером я нашла на своем туалете записочку, подложенную кем-то из моих слуг, видно, соблазнившихся деньгами маркиза, более весомыми, чем их жалованье. «Мадам, я в отчаянии, – писал он, – оттого, что все признания в любви звучат одинаково, тогда как сами чувства столь разнообразны. Я знаю, что люблю вас так, как не любил никто и никогда, но могу выразить свою страсть лишь теми избитыми словами, к коим прибегает любой влюбленный. Понимаю также, что человек изменчивого нрава, каковым я имел несчастие родиться, не может надеяться на взаимность столь разумной и скромной особы, даже если достоинства эти соединены с блистательною красотой. Однако, как ни удивительно это для меня самого, а пуще того, для вас, скажу все-таки: я вас люблю. Люблю с первой же нашей встречи и буду любить до конца дней моих. Боюсь только, что ваша гордость, которая и привлекла меня к вам с первого взгляда, не позволит мне быть услышанным; молю вас, подумайте о моем смиренном преклонении перед вами, пусть оно докажет мои глубокие, искренние чувства; поверьте, что коли я так глубоко люблю вас, не удостаиваясь взаимности, то буду обожать безумно, добившись права быть признательным».
Письмо это, которое я имела слабость прочесть до конца, показалось мне весьма трогательным, но слишком вычурным и, кроме того, мало отвечавшим характеру маркиза, каким я его себе представляла. Я не ответила на него. Впрочем, я никогда не удостаивала ответом подобные послания, хорошо зная, что нельзя писать ничего такого, что могло бы попасться на глаза посторонним, ибо рано или поздно все выходит на свет божий. Наилучший выход – писать только самое необходимое; я никогда не любила рисковать и твердо держалась этого принципа. Несколько дней спустя маркиз вновь осмелился изъявить мне свою страсть, на сей раз прямо у дверей комнаты Скаррона. На что я ответила: «Сударь, мне мешает верить в вашу любовь не то, что она дерзка и назойлива, но то, что вы слишком уж красиво изъясняетесь в своих чувствах. Настоящая страсть молчалива, вы же пишете, как человек остроумный, но отнюдь не влюбленный, а только желающий изобразить такового. Прошу вас оставить эту игру, которая ничуть не увлекает меня, или же не появляться более в моем доме». Некоторое время маркиз сдерживался, затем однажды совершил поступок, мне и вовсе непонятный. У меня был очень красивый янтарный веер, купленный когда-то по совету маршала; я положила его на столик; маркиз, то ли шутки ради, то ли с другой целью, взял его в руки и сломал пополам; я огорчилась до слез, мне стало жаль любимой вещи; на следующее утро маркиз прислал мне дюжину похожих вееров – желая, вероятно, похвастаться своим богатством и заставить меня принимать подарки. Я велела передать ему, что не стоило портить один веер лишь для того, чтобы предлагать мне двенадцать других, вернула их все назад и осталась вовсе без веера; я не преминула рассказать эту историю всем моим друзьям, выставив в смешном свете маркиза с его дурацким подношением. Это его, однако, не обескуражило.
Презрение мое только усугубляло его безумную дерзость: он принялся донимать меня своими любовными записками, которые я находила повсюду – в карманах моего передника, в бомбоньерках, во всех книгах, вплоть до сборника псалмов. И всякий раз, увидев его почерк, я испытывала то же смятение, что и в его присутствии; одно лишь прикосновение к бумаге, которой касались его пальцы, вызывало у меня гадливость, доходящую до тошноты. Убедившись, что он не оставит меня в покое, я попыталась еще раз строго попенять ему, хотя мне и пришлось для этого остаться наедине с ним. «Вы напрасно подкупаете моих людей, сказала я, – я больше не читаю ваших писем, и вы добьетесь лишь того, что мне придется выгнать всех моих слуг». Маркиз не привык к подобным отповедям; наглый и грубый от природы, он вскипел, и его оскорбленная гордость перевесила любовь, которую он якобы питал ко мне. «Для того, чтобы их выгнать, вам придется сперва заплатить им жалованье!» – дерзко ответил он.
Это напоминание о нашей постыдной нищете привело меня в ярость; я решительно указала ему на дверь, но, увы, маркиз был из тех, кто в таких случаях возвращается через окно.
Он повсюду жаловался на мою жестокость, и кое-кто из знакомых начал упрекать меня: в те времена порядочная женщина не должна была отказываться от встреч с поклонником, пока тот не перешел границ уважения и приличий; ухаживание за дамой на людях было вполне дозволено, если оно не сопровождалось тайными отношениями. Д'Альбре, Буаробер и даже сама Нинон вступились передо мною за маркиза.
– Ежели вы ничего ему не позволили, то зачем так суровы с ним и лишаете своего общества? – удивлялась мадемуазель де Ланкло. – Ведь других ваших воздыхателей вы от себя не гоните!
– Это правда, мадам, – отвечала я ей, – но я отказываюсь от встреч с господином Вилларсо не только ради соблюдения приличий. Хочу вам признаться, что ненавижу его всеми силами души, столь сильно, что мне следовало бы покаяться в этом моему духовнику.
– Да неужто вам так противно общество моего бедняжки маркиза?
– Более чем противно. При виде его я готова упасть в обморок от ужаса.
– В самом деле? Однако это серьезнее, чем я думала… Уверена, что, перескажи я ваши слова нашему другу Вилларсо, он был бы вне себя от радости.
– Отчего же?
– Отчего? Да оттого!.. Какое же вы еще дитя! Старайтесь быть более равнодушною, если не ради Бога, который меня ничуть не заботит, то хотя бы ради моего друга Скаррона.
Тем временем «друг Скаррон» смеялся над теми, кто намекал ему на притязания Вилларсо, ибо, в отличие от Нинон, свято верил в мое отвращение к означенному воздыхателю.
Буаробер повсюду распевал шутливые стишки о любовных мучениях своего домохозяина:
Маркиз, поведай, что с тобой?
Бредешь с поникшей головой,
Задумчив стал, печален вдруг,
Что за напасть, мой милый друг?
Признайся мне, да не хитри:
Грустишь ты дома, в Тюильри,
И на прогулке мрачен взгляд,
Да и друзьям совсем не рад,
И весь ушел в свои мечты,
Уж не влюблен ли, часом, ты?
Уж не пленен ли той брюнеткой,
Что блещет красотою редкой?
Она любезна и мила,
Она умна и весела,
И я приметил взор твой страстный,
Что обращен был к сей прекрасной.
И впрямь, достоинств в ней не счесть:
Ее не зря возносит лесть.
Увы, маркиз, не жди успеха, —
Тут есть досадная помеха:
Сия красавица строга
И зело честь ей дорога.
На всех мужчин взирает грозно.
Так отступись, пока не поздно!
К счастью, они прошли незамеченными между «Capriccio amoroso alla gentilissima e bellissima signora Francesca d'Aubigny.» [34]34
Capriccio amoroso alla gentilissima e bellissima signora Francesca d'Aubigny. (ит.) – Любовное каприччио любезнейшей и прекраснейшей синьоре Франческе д'Обиньи.
[Закрыть]Жиля Менажа, элегиями шевалье де Кенси, в свой черед опубликовавшего посвященные мне элегии, вроде этой:
Когда я думаю о пламенном волненьи,
В какое вверг меня, Ирис, ваш чудный взгляд,
То умереть я рад в безрадостном томленьи,
Но в радостях любви погибнуть также рад,
и последним «шедевром» Ла Менардьера, заверявшего меня, что даже солнце Новой Индии не сверкает так ярко, как «два дивных светила», а именно, «обожаемые им очи». Поразмыслив, я решила, что господин Вилларсо виновен не более, чем эти мои воздыхатели, и мне захотелось вернуть его к нам. Я только поставила ему непременное условие: быть послушным и почтительным. Он обещал все, что мне угодно; я не знала, что Луи де Вилларсо способен быть покорным ровно столько же, сколько Дьявол мог бы быть монахом.
Едва ступивши на порог нашего дома, он вновь принялся за свои эскапады. То он приводил ко мне в комнату медведя вместе с поводырем, дабы развлечь меня видом существа, «равного мне в свирепости». То преподносил молитвенник, переплетенный в змеиную кожу, и приглашал рассудить, чья кожа холоднее на ощупь моя или змеиная. То бросался передо мною на колени, разыгрывая кающегося грешника: «Сударыня, я не достоин, чтобы вы меня принимали, но скажите хоть слово, и вы возродите меня к жизни!» И все это шутовство перемежалось нежными речами, томными вздохами и слезами, которые он проливал легче легкого.
В противоположность тому, что я чувствовала к маршалу д'Альбре, я никогда не думала о господине Вилларсо в его отсутствие и легко позабыла бы его вовсе, не встречайся он мне на каждом шагу. Он быстро понял это и неотступно следовал за мною, шутя разрушая те хрупкие препятствия, что я пыталась ставить между ним и собой.
– Мой муж…
– Вы его не любите. Да и сам он, без сомнения, не хочет, чтобы вы постились всю свою жизнь, тогда как он в прошлом натешился вдоволь.
– Но свет…
– Не бойтесь огласки, – неблагодарность и болтливость не входят в число моих пороков.
– А Бог, который все знает…
– А Бог, который все знает, никому ничего не скажет.
Сопротивляться было тем более трудно, что все меня покинули. Госпожа де Моншеврейль вернулась к себе в деревню; впрочем, и она и ее муж слепо обожали своего кузена. Нинон также питала слишком большую нежность к предмету своей былой страсти, чтобы не желать ему счастья, хотя бы и ценою моего спокойствия. У Скаррона хватало других забот.
Здоровье его становилось все хуже и хуже; у него уже не было сил писать длинные сочинения и он ограничивал свой талант коротенькими эпиграммами да уроками версификации для провинциалов. Встречи с ним выходили из моды: люди стремились теперь попасть к Нинон, к госпоже де Лафайет, тогда как «Приют Безденежья» мало-помалу погружался в тишину забвения. Все это беспокоило моего супруга гораздо более, чем флирт слишком сумасбродного кавалера с его слишком благоразумною женой…
В один из вечеров я пришла к Нинон; поскольку все стулья, даже складные, были уже заняты, я сложила столбиком десять томов «Клеопатры» Кальпренеды и уселась на них, благо это было единственное, на что они годились; хозяйка рассмеялась и похвалила меня за то, что я не выбрала для этой цели «Кассандру» того же автора, ибо тогда сидела бы почти на полу (эта пресловутая «Кассандра» составляла всего две-три тощие книжицы). «О, не сомневайтесь, – подхватил тут же Вилларсо, – мадам Скаррон так легко не уложишь ни в постель Кассандры, ни на ложе Клеопатры!»
Несколько времени спустя у нас обсуждали брачный Конгресс, которого потребовала госпожа де Ланже в доказательство того, что ее муж не способен выполнять супружеские обязанности и оставил ее девственницей; кто-то спросил меня, буду ли я там присутствовать: тогда это было в моде, и даже самые благочестивые и разумные люди сбегались на сие непристойное действо полюбоваться тем, как мужчина и женщина совокупляются в присутствии священников и врачей так, словно находятся одни, в тиши домашнего алькова. Я отвечала, что, разумеется, не пойду, ибо мне противны все гадости, связанные со столь интимным делом. «И вы правы, – сказал мне Вилларсо во всеуслышанье, перед собравшимися. – Если господин де Ланже вдруг найдет у себя в штанах нужное доказательство и выиграет процесс, то для вас сие зрелище будет весьма поучительно, и вы, не дай Бог, тоже кое о чем пожалеете…» Эти его слова ясно доказывали, что страсть побуждала его не только на глупую болтовню, но почти на оскорбления…
Однако, шли последние месяцы моей совместной жизни с господином Скарроном: болезнь несчастного калеки и наша бедность неотвратимо приближали его конец.
Ноги его, и без того скрюченные, свело до такой степени, что острые колени врезались в грудь, причиняя невыносимую боль; мне приходилось обвязывать их лоскутьями, чтобы уменьшить страдания больного. Опиум уже не помогал ему заснуть. «Если бы я мог покончить с собою, то давно бы отравился», сказал он кому-то из друзей.
Несмотря на возрастающую слабость, он все же нашел в себе силы отправиться в портшезе в бюро казначейства, чтобы выпросить новый аванс из пенсиона, назначенного ему господином Фуке. Служащие сюринтендантства, которым давно надоел этот неутомимый попрошайка, выслали слуг поколотить нашего лакея Жана и пригрозили его хозяину хорошей взбучкою, если он не угомонится и опять придет сюда за тем же делом. Тогда Скаррон обратился с письмом к самому сюринтенданту. «Это наша последняя надежда, – писал он. – Я умираю от печали. Если вы откажете, мне и моей жене останется лишь одно – отравиться». Ответа не последовало…
Именно в это время Миньяр написал с меня портрет – первый в этой долгой, посвященной мне, серии. Он изобразил меня на фоне пейзажа, напоминающего антильский; особенно ему удалось передать красоту моих черных глаз, выражавших тогдашнее мое душевное состояние – меланхолию, затуманившую лицо. Не знаю, отчего Скаррон находил утешение в этом портрете: он велел повесить его у себя в спальне и заверил Миньяра, что мой скромный облик – «всего лишь обещание будущего сияния». «С таким приданым, – говорил он друзьям, имея в виду мой глубокий печальный взгляд, – ей не трудно будет вновь выйти замуж».
Нищета наша вынудила меня отвергнуть предложение, сулившее, однако, немало выгод в будущем: мадемуазель Манчини – та, что звалась Марией и была, по слухам, любовницею молодого Людовика, – пригласила меня сопровождать ее в Езруаж, куда дядя-кардинал отправлял ее, дабы удалить от Двора. Я не смогла принять это приглашение: у меня не было ни платьев, ни экипажа, чтобы отправиться в Сентонж и выглядеть там сообразно положению…
Тем временем, всем стало ясно, что Скаррону не удастся закончить третью часть своего «Комического романа». В газетах его уже хоронили. В одном из своих последних стихов он признался, что и впрямь близок к смерти, но только от нищеты:
Из двух смертей – от голода иль стужи —
Я сам не знаю, каковая хуже.
«Приношений» и «утех желудка» становилось на наших обедах все меньше, и если бы я время от времени не ужинала в домах богатых благочестивых дам, искавших моего общества, то весьма скоро последовала бы в могилу вслед за моим супругом. Но кроме удовольствия изредка полакомиться каплуном, я стремилась завоевать их дружбу, в предвидении того дня, когда меня, нищую вдову, выбросят на улицу, и поддержка сильных мира сего станет единственным моим прибежищем. А хлеб дружбы казался мне куда слаще хлеба милосердия. Вот почему я старалась почаще встречаться с дамами д'Альбре и Ришелье, и даже иногда с матерью и теткою Вилларсо, столь безжалостно преследующего меня.
Именно в их обществе, стоя на балконе дома в Сент-Антуанском предместье, я присутствовала в апреле 1660 года при торжественном въезде в Париж короля Людовика, который возвращался из Испании после заключения брака. В королевской свите я с удовольствием узнала Беврона, возглавлявшего конницу, и Вилларсо на горячем скакуне; маркиз выделялся среди прочих придворных великолепием своего наряда и черными кудрями, приводившими в восторг дам. И, однако, всех их в моих глазах затмил юный Король, и я тем же вечером написала одной из подруг, что «Королева наверное уснула нынче счастливою, избрав себе такого супруга».
Увы, этот парад стал последним развлечением моей жизни в замужестве. Вскоре господин Скаррон впал в агонию. На улицах Парижа и в особняках Марэ у людей хватало жестокости смеяться над этим так же, как они смеялись над его браком. Памфлетисты каждый день развлекали читателей остротами по случаю конца «веселого больного»; в ожидании этого конца они посвятили Скаррону две гнусные статейки под заголовком «Libera» [35]35
Libera nos, Domine! (лат.) – Освободи нас, Господи!(молитва).
[Закрыть]и третью – «Похоронное бюро»; продавцы газет громко выкрикивали эти названия прямо под нашими окнами. Можно ли было в таких условиях думать о достойной кончине?!
В салонах заключались пари на выздоровление поэта; восемь лет назад таким же образом ставили на его способность произвести потомство, – смерть принесла Скаррону новую славу. Сидя среди пузырьков с лекарствами, подле его кресла с отверстием в сиденье, затворив окна и ставни, чтобы не слышать непристойных песен с улицы, я пыталась уговорить беднягу покаяться в грехах, однако его друзья-вольнодумцы, особенно, Александр д'Эльбен и мой маршал д'Альбре, явившись днем, одним словом разрушали то, чего я успевала достичь за ночь; если я убеждала мужа принять священника, то они заверяли его, что все это шутки, что он не так глуп, а, главное, не так плох, и время еще терпит. В конце концов, я не на шутку рассердилась на этих отъявленных безбожников; как ни странно, меня поддержала Нинон. Она считала, что перед лицом смерти надобно соблюдать приличия. Она пришла к нам в тот момент, когда я подвела капуцина к постели Скаррона, и на свой лад заставила их обоих исполнить свой долг: поскольку умирающий все еще пытался спорить с исповедником, она решительно сказала этому последнему: «Ну же, месье, делайте свое дело! Что бы там ни утверждал мой друг, он в этом не так сведущ, как вы».
Приняв последнее причастие, господин Скаррон мягко сказал мне: «Я мало что оставляю вам; постарайтесь, однако, быть честной женщиной!» Я ответила, что хорошо знаю, чем обязана ему, и свято выполню этот завет. «Я сожалею лишь об одном, – посетовал мой супруг, обратившись к Сегре, – о том, что оставляю без средств жену, эту замечательную женщину, достойную всяческих похвал». Потом он сказал мне, что охотно простил бы измену, если бы я решилась на нее еще до его «перехода в небытие», ибо наша совместная жизнь, нередко занимательная, все-таки не была счастливою для такой молодой женщины. Словом, во все время агонии речи его были куда пристойнее и разумнее, нежели в том «Шутливом завещании», которое он написал несколькими годами раньше и которое напечатали только после его смерти:
Во первых строчках завещанья
Велю супруге на прощанье
Другого муженька найти
На скорбном жизненном пути.
Сей брак хотел бы предпочесть я,
Во избежание бесчестья,
И, отправляясь на погост,
Признаюсь: слишком долгий пост
Снесла достойная особа,
Что мне верна была до гроба.
Пусть разговеется теперь,
Утешась быстро от потерь…
Должна признаться, Скаррон всегда был гораздо обходительнее и сдержаннее наедине со мною, нежели на людях.
Он умер в ночь с 6 на 7 ноября 1660 года, если и не благочестиво, то так достойно, как только мог.
Незадолго до кончины он сложил эпитафию, в которой поздравлял себя со смертью – этой первой ночью, когда он сможет наконец всласть выспаться. По той же причине и я была скорее довольна, нежели опечалена тем, что он отдал Богу душу; теперь, когда он уже не нуждался во мне, я смогла отдохнуть и проспала тридцать часов кряду, ибо за последние ночи ни на минуту не сомкнула глаз.
Многострадальное тело поэта было погребено на кладбище Сен-Жерве, за счет прихода. В нарушение обычая, я проводила его в последний путь. На следующий день судебные приставы опечатали дом и, по требованию кредиторов, описали все наше имущество, вплоть до моих нижних сорочек и юбок. Господин Скаррон оставил после себя десять тысяч франков и на двадцать две тысячи долгов.
По смерти мужа я вновь осталась без семьи и без денег. Однако мне только что исполнилось двадцать четыре года, и траур был мне весьма к лицу.