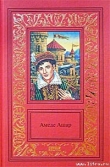Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Глава 14
Невозможно стоять на краю пропасти, оставаясь беззаботным, не боясь и не чувствуя опасности. Однако в то время мне казалось, что счастье мое уже близко, и предвкушение блаженства ослепило меня, не позволяя видеть ничего вокруг.
Владычество мадемуазель де Фонтанж рассеялось, как дым, лишь подчеркнув собою всю глубину и постоянство чувств, связавших Короля со мною. Недаром Като, наперсница госпожи де Монтеспан, расположенная ко мне так же, как и большинство служанок фаворитки, однажды сказала: «Король увлекся мадемуазель де Фонтанж по слабости, вернулся к госпоже де Монтеспан по привычке, но с вами видится по склонности».
Склонность эта, и в самом деле, становилась все более очевидною и в глазах окружающих и в моих собственных. За несколько дней до того, как мадемуазель де Фонтанж впала в агонию, Король, ко всеобщему изумлению, назначил меня второй статс-дамою дофины, – он уже набирал штат для этой баварской принцессы, на которой восемнадцатилетний дофин должен был жениться следующей весной; наконец я получила то, на что, после стольких лет ожидания, не смела и надеяться – место, освобождавшее меня от гнета госпожи де Монтеспан.
Служба эта, и сама по себе более чем почетная, позволяла мне жить при Дворе, обеспечивала постоянный доход и, кроме того, давала право на собственные апартаменты. Правда что в Сен-Жермене я из скромности сохранила за собою прежнюю мою каморку, зато Король предоставил мне помещение из нескольких комнат в Фонтенбло и другое такое же в Версале. Обе квартиры были расположены так, чтобы монарх мог свободно видеться со мною.
И он не лишал себя этого удовольствия, проводя у меня более часу каждое утро перед обедом. Я же виделась с ним наедине по вечерам, с восьми до десяти часов; господин де Шамаранд проводил меня в его комнату и выпускал оттуда на глазах у всего Двора. Уж не знаю, кому из остряков первому пришло в голову это словцо, но скоро в передних меня стали величать не иначе, как госпожою де Ментенан [67]67
Игра слов. Ментенан (по-франц. maintenant ) – здесь означает «нынешняя».
[Закрыть].
Никто, однако, не мог понять сути наших отношений. Сдержанность, проявляемая нами обоими на людях, сбивала с толку самых злоязыких сплетников: разница в возрасте между мною и мадемуазель де Фонтанж, положение фаворитки, все еще сохраняемое госпожою де Монтеспан – все это делало любовную связь, в глазах публики, маловероятною. Зато мне не отказывали в уме, и оттого пошел слух, что Король встречается со мною, дабы писать историю своего царствования: все знали, что он не слишком доволен официальными биографами и нередко, слушая Расина или Депрео, читающих ему свою стряпню, не сдерживался и бормотал сквозь зубы, раздраженно и презрительно: «Газетное вранье!» Итак, принимая во внимание мой скромный облик и подчеркнутое уважение, какое монарх выказывал мне в обществе, все решили, что, уединяясь каждый вечер в его комнате, мы всего лишь разрабатываем планы военных кампаний или пишем мемуары.
Надобно признать, что голландские газетчики, которые, в отличие от придворных, следили за этим издалека, раскусили нас куда скорее. В Кельне напечатана была весьма ядовитая эпиграмма:
Алькандр великий, что случилось?
Мир на дворе – ты взаперти.
А что ж любовь, скажи на милость?
Ужель предмета не найти?!
Быть может, в сердце страсть созрела,
Но к гордости попала в плен,
И ты, от всех скрывая дело,
Грустишь, молвою утомлен.
Боимся мы предположений,
Но людям не закроешь рты.
Чем, вместо скучных сочинений,
И кем, Алькандр, занят ты?
Возможно, сметливый автор воспользовался лорнетом госпожи де Монтеспан, которая, разумеется, была в курсе дела. Увидев, что я ускользаю от нее, что дружба Короля, которой он долгие годы удостаивал меня в тени моего скромного существования, вышла на свет Божий и взволновала весь Двор, она впала в неукротимую ярость и организовала целый заговор, дабы погубить меня. В него она вовлекла Марсийяка, который на короткое время «изменил» ей с Анжеликой де Фонтанж, а теперь вернулся, полный раскаяния, и господина де Лувуа, с которым ее связывали многие услуги и интриги. Короля начали убеждать, что в молодости я жила поочередно на содержании у Виллара, Беврона, Вилларсо и даже Марсийи. Эти людишки раскапывали истории, которые рассказывались о моей жизни со Скарроном, обстоятельства моего рождения и детства, все, чем могли навредить мне. Глядя на этих бесноватых, я старалась держаться спокойно, говоря себе, что ежели мои враги достигнут своей цели, у меня хватит мужества снести опалу, в противном же случае мне будет над чем смеяться до конца моих дней.
Заговор провалился. Король терпеливо выслушивал сплетни, а затем вдруг положил им конец: в один прекрасный день, когда госпожа де Монтеспан начала, по своему обыкновению, обливать меня грязью, он сказал ей устало: «Как же это вы, мадам, доверили воспитание своих детей столь порочной особе! Прошу вас, не будемте выискивать истины, которые могут навредить вам самой больше, чем госпоже де Ментенон!» Тем же вечером Марсийяк начал любезничать со мною, а Лувуа старался держаться подальше от фаворитки. Он даже отказался выдать дочь за молодого Мортмара, сына герцога де Вивонна и племянника маркизы, который с горя посватался к дочери Кольбера; соперничество этих двух кланов было столь ожесточенным, что один из них неизменно подхватывал то, что другой упускал; таким образом, в результате этого странного союза добродетельный Кольбер и его семейство образовали партию вместе с госпожою де Монтеспан, тогда как Лувуа, доселе преданный сторонник «прекрасной госпожи», теперь всеми силами старался ее погубить.
Допущенная наконец к порогу славы и счастья, я жила, не обращая внимания на интриги госпожи де Монтеспан. Близость цели, которую я себе поставила, избавляла меня от последних угрызений совести, и она, пресыщенная милостями и нежностью монарха, дремала в странном блаженном покое.
Я любила величайшего из королей христианского мира, героя Нимвегена [68]68
Нимвеген (ныне Неймеген в Нидерландах) – город, где в 1678–79 гг. Людовик XIV подписал серию договоров между Францией, Голландскими штатами, Испанией и Империей, утвердивших неоспоримое военное превосходство Франции над ее соседями.
[Закрыть], который своей волею установил мир в Европе, взял под свое господство Валансьен, Камбре, Фрибур, Франш-Конте и Лотарингию, подчинил своим законам все страны, вплоть до Швеции и Бранденбурга, и царил, опираясь не столько на силу оружия, сколько на восхищенное преклонение народов. Я любила его робкой, исполненной страха и почтения, любовью, в которой чувство моей зависимости сливалось с благоговейной признательностью. Я любила его с тем же глубоким мистическим трепетом, с каким любят Бога. И, наконец, я безраздельно любила его просто потому, что чувствовала себя любимою.
И, тем не менее, я была готова к тому, что нежность, которой он окружал меня, может умереть в любой миг, если более молодая женщина прогонит меня из его постели, а более ловкая – займет место в его сердце. Король, испытывающий желание, не станет долго вздыхать и томиться; уже в ту пору, когда я почитала себя столь счастливою, мадемуазель Доре, фрейлина Мадам, привлекла внимание монарха в Фонтенбло, а мадемуазель де Пьенн, прекрасная, как цветок, стала предметом его настойчивых ухаживаний в Версале.
Как и все мои предшественницы, я старалась не выказывать ревности, более того, способствовала встречам Короля с мадемуазель де Пьенн, за которой надзирала тетка, суровая, как испанская дуэнья; я приглашала эту девицу на полдники в свои апартаменты и отвлекала тетку разговорами, пока Король, «случайно» заглянувший ко мне, занимался в другой комнате племянницею. Разумеется, мы не готовили заранее сей остроумный план, – Король никогда не опустился бы до просьбы о такой услуге, а я, со своей стороны, не стала бы унижать себя согласием. Просто я полагала, что вернее всего выиграю во мнении Короля неизменной любезностью и веселым расположением духа, почему и закрывала глаза на то, чего не должна была видеть, стараясь до времени не думать о страхе перед соперницами, о расплате за слабости и о спасении моей грешной души.
Я беззаботно отдавалась всем празднествам, развлечениям и утехам Двора, коими высокая должность при дофине позволяла мне наслаждаться свободнее, чем прежде. Мир, установившийся после шестилетней кровопролитной войны, делал все эти удовольствия еще приятнее, а дворцы Короля обращал в волшебные чертоги.
Балы перемежались спектаклями, оперы – парадами. Двор непрестанно переезжал с места на место: в марте мы отправлялись в Сен-Клу, в апреле в Сен-Жермен, в июне в Версаль, в августе в Шамбор, в сентябре в Фонтенбло, и всякий раз путешествие это являло собою великолепнейшее зрелище – Король в окружении гвардейцев, экипажей, лошади, толпы сопровождающих; все это напоминало пчелиную матку, что вылетает в поля со всем своим ульем. Куда бы мы ни направлялись, роскошь нашего поезда соперничала с его величием. «Народ обожает зрелища, – говорил мне Король, – с их помощью монарх привлекает к себе умы и сердца людей куда вернее, чем наградами и благодеяниями». Каждую ночь садовники меняли цветы в садах: мы засыпали среди тубероз, а просыпались в благоухании жасмина и левкоев. Каждый день вокруг нас, словно по мановению волшебной палочки, менялся пейзаж: там, где накануне было озерцо, назавтра возникала роща; там, где стоял лес, появлялся холм, или пруд, или фарфоровый павильон для закуски. Всемогущий Кудесник развлекался, изменяя Природу, Природа же, как и люди, смиренно подчинялась ему. Началось расширение Трианона и строительство Марли; в Версальский парк пересаживали деревья из Компьени; реки покидали привычные русла и текли к керамическим бассейнам с их бронзовыми тритонами.
В «домашние» дни я неспешно прохаживалась из бильярдной в залу для карточных игр, из буфетной с прохладительными напитками в музыкальный салон, улыбаясь одному, беседуя с другим, хваля тут менуэт, там пирамиду экзотических фруктов с Островов, – всегда одна, всегда скромно одетая, стараясь держаться как можно более смиренно и незаметно.
В час, когда Король обходил свои салоны, придворные тесной гурьбою стояли на его пути; мужчины проталкивались вперед, чтобы увидеть монарха и попасться ему на глаза; женщины поднимались на цыпочки, стараясь привлечь к себе его внимание и услышать из его уст какую-нибудь пустяковую любезность, которую после будут обсасывать целый год: «Эта роза божественно идет вам, кузина!», или «Мадам, я рад вас видеть!», или «Вы уже прогулялись по моим садам, мадемуазель?». Я позволяла оттеснить себя в последний ряд, к стене, где, кстати, легче дышалось, пропуская мимо себя всех желающих, вплоть до скромных буржуа. Чем большее смирение я проявляла, зная, что занимаю первое место подле Короля и зная, что это известно другим, тем сильнее моя гордость тешилась «этой утонченной сладостью превосходства»…
Вероятно, именно это наслаждение славою слишком опьянило меня, если я не увидела раньше, до какой степени дошло, буквально в несколько лет, падение нравов в придворном обществе и в городе: скука и безделье толкали вельмож на поиски совсем уж непристойных развлечений, необходимость вести разорительный образ жизни заставляла прибегать ко всяким незаконным аферам; словом, Двор наш, как никакой другой, глубоко погряз в самых извращенных и невиданных пороках.
Безумное увлечение азартными играми, никогда не поощряемое Королем, достигло апогея: на карты ставили даже собственную жизнь; игроки, не стесняясь даже тем, что находились в королевских апартаментах, вели себя не лучше умалишенных – вопили, стучали кулаками по столу, сквернословили так, что волосы дыбом вставали, приходили в полнейшее неистовство; некоторые, совершенно забыв о чести, старались загрести деньги любыми средствами, уподобляясь грабителям с Нового моста. «Там все орут, сцепившись в драке. Вот Двор у Короля-Гуляки!» – пелось в одной песенке тех времен.
Необузданная страсть к крепким напиткам также способствовала разгулу молодежи, которая никак не могла утолить снедавшую ее жажду наслаждений. Пятнадцатилетние герцогини развлекались пьянством в винных погребах, в компании слуг; распевая при этом: «Бахус нам румянит лица. Глядь, кушетка пригодится!» Принцы слонялись ночами по парижским кабакам, возвращаясь домой лишь к утру, бесчувственно пьяными, в каретах; самые знатные дамы напивались до того, что могли прямо посреди салона, прилюдно, извергнуть, и сверху и снизу, поглощенные в изобилии напитки.
Но и этим «изысканным» утехам было далеко до утех любовных: доступность придворных дам уже давно сделала их прелести ненужными молодым кавалерам, – нынче, как никогда, в моде был итальянский порок. Сам брат Короля подавал к тому пример – румянился и кокетничал, как женщина, залепливал мушками все лицо, с головы до ног украшал себя драгоценными побрякушками и не спускал влюбленных глаз с очередного «миньона», в чьем обществе проводил свою жизнь. Племянники Великого Конде, сыновья господина де Рювиньи, генерального депутата гугенотов, кузен господина де Лувуа, сын господина Кольбера, многие из Ларошфуко и Тюреннов принадлежали к этому братству, для коего они разработали такие строгие каноны, что и впрямь напоминали новомодных монахов; были у них и свои «монастыри» в нескольких замках Иль-де-Франс, где для приема новичков устраивались самые причудливые церемонии, требующие клятв и умерщвления плоти; члены этого общества утверждали, что скоро их орден будет ничем не хуже ордена францисканцев; даже сын Короля и мадемуазель де Лавальер, юный граф де Вермандуа, всего тринадцати или четырнадцати лет от роду, был завербован под их знамена. Нужно ли удивляться тому, что дамы, не находя себе кавалеров для утех, в свой черед обратили любовные вожделения на собственный пол. Герцогиня де Дюра во всеуслышанье объявляла, что отдаст все свое состояние, вплоть до последней рубашки, лишь бы переспать с дочерью Короля, прекрасной принцессою де Конти, которой только-только исполнилось пятнадцать лет; к счастью, юная принцесса очень скоро доказала, что предпочитает дамские страсти объятиям королевских гвардейцев и лакеев; в сравнении с общей распущенностью сей грех выглядел столь невинным, что вполне заслуживал отпущения.
Несколько принцев пустились на еще более остроумные выходки: отправились целой компанией в некий притон и там развлеклись на итальянский манер с самыми пригожими из гулящих девиц, затем схватили одну из них, привязали за руки и за ноги к кровати и, вставив ей жгут из пакли в то место, назвать которое мне запрещают приличия, безжалостно подожгли этот факел, невзирая на вопли несчастной жертвы. После чего остаток ночи прослонялись по улицам, где разбили множество фонарей, вырвали и предали огню несколько распятий и запалили деревянный мост. Казалось бы, сей «подвиг» – предел всему, однако ж несколько дней спустя шевалье Кольбер превзошел и его. Он сам, герцог де Ла Ферте и шевалье д'Аржансон послали за торговцем вафлями и, сочтя парня вполне миловидным, решили обойтись с ним, как с девицею, но встретили отпор и тогда, недолго думая, дважды пронзили его шпагою, отчего он имел глупость скончаться. И что бы вы думали – озорники отделались лишь легким репримандом.
Коли уж жизнь простого человека имела столь малую цену, то нужно ли дивиться тому, что колдуны и отравители, знавшие способы извести без шума и скандала знатного человека, пользовались огромным спросом. Их услуг искали для любовного приворота, для убийства, а иногда и для того и для другого вместе, веря, что они обладают тайным могуществом.
В обществе со смехом рассказывали историю о том, как госпожа де Бризи, брошенная любовником, обратилась к одному из таких магов; тот объявил, что есть лишь одно средство вернуть возлюбленного: он, маг, должен отслужить мессу, лежа у ней, обнаженной, на животе; дама согласилась. Две недели спустя она явилась к нему с жалобой, что неверный любовник все так же холоден; тогда маг сказал, что названной церемонии мало и даме надобно отдаться ему безраздельно, – тут-то любовник и воспылает к ней новой неудержимой страстью. Дама исполнила все требуемое с величайшим усердием, но, похоже, дьявол ее любовника оказался сильнее дьявола кудесника, ибо месса так и не помогла.
Но и это еще были цветочки: большинство людей шли на куда худшие преступления; желая устранить соперника, скорее получить наследство от зажившейся тетушки, спровадить на тот свет ревнивого мужа, выиграть судебный процесс или добиться благосклонности министра, они бежали за помощью к какому-нибудь свихнувшемуся кюре, который служил мессу Дьяволу и при этом душил или топил в купели младенца. Парижские сводни процветали, торгуя новорожденными детьми. Обыкновенно за колдовством следовало отравление, – то, чего не мог сделать Дьявол, довершали мышьяк или сулема.
В начале 1679 года в Арсенале открылась Чрезвычайная следственная Палата, занявшаяся делами многих ворожей и отравителей. Для начала перед судьями предстала всякая мелкая сошка – священники-расстриги, слуги, посыльные из лавок, девицы легкого поведения, тайные алхимики, колдуньи из предместий. За ними, к удивлению публики, последовало несколько жен чиновников и богатых буржуа. Дело, однако, разрасталось; мало-помалу признания несчастных начали затрагивать Двор. Как выяснилось, колдуны готовили «любовные порошки» или «порошки для наследства» по заказу весьма знатных особ, среди коих были красавица-графиня де Суассон, молодая герцогиня Буйонская, госпожа де Вивонн, невестка госпожи де Монтеспан, госпожа де Полиньяк, госпожа де Грамон, маршал Люксембургский и несколько вельмож рангом пониже. Все эти люди без зазрения совести в течение многих лет убивали своих близких с помощью алхимии, жаб и черных месс.
Сама я никогда в жизни не прибегала к услугам гадалок и, стало быть, могла ни о чем не беспокоиться, однако вся эта мерзость высшего общества, обнаруженная следствием, повергла меня в крайнее смятение.
Собрав воедино все, что я слышала в течение последних лет о дебошах и всякого рода бесчинствах, я сперва подумала: наверняка это безбожие, разъедавшее в те времена общество, точно гангрена, явилось причиною всех этих бед, – ведь для легковерных умов расстояние от философии Декарта до порошков Вуазен весьма коротко. Затем я решила, что если человек сам, своими силами, не задушит в себе дурные страсти, то хотя бы правителям надлежит подавать – или создавать – такие примеры, чтобы люди, из страха или подражания, становились на путь добродетели; однако мог ли Король, участвующий в двойном адюльтере, служить образцом для других?!
Тут я останавливалась в своих рассуждениях, – возможно, мне мешал вихрь увеселений, поднявшийся с приездом во Францию дофины, или же это мое нынешнее счастье затмевало мрачные стороны жизни.
Ранняя осень в том году в Фонтенбло выдалась на диво мягкой и погожей. Солнце томно ласкало своими лучами золотистые фасады замка; лес, влажный от теплых дождей, благоухал мускусом, и от этого аромата слегка кружилась голова. Сидя у высокого окна, выходившего на «Золотые ворота», я занимала руки вышивкою, а голову – мечтами. Мои апартаменты, расположенные в третьем этаже, как раз над комнатою, где я жила в 1686 году, смотрели на парк через красивую полукруглую аркаду, забранную разноцветными стеклами, которые очаровательно расцвечивали наружный пейзаж; оранжерейная жара, царившая внутри, приятно разморила мне тело и спутала мысли. Я никак не могла отделаться от упрямо звучавшей в голове строчки из стихов моего деда: «Осенняя роза изысканней прочих» мне казалось, она весьма удачно соответствует нынешнему сезону, а, быть может, сказывался и зрелый возраст, к которому я приближалась.
В комнате, у меня за спиной, слышался шорох бумаг, с которыми работал Король. Вот уже несколько дней я не могла вызвать его на разговор, – похоже, ему нечего было мне сказать; устав от стараний завязать беседу, я решила принять мою участь елико возможно веселее и склонилась к вышивке, предоставив Короля его молчанию. Я не знала, сердится ли он на меня или же просто озабочен делами королевства; поскольку я никогда не позволила бы себе расспрашивать его, а он не был расположен к откровенности, мы и сидели бок о бок, как парочка немых.
Внезапно я вздрогнула. «Знаете ли вы, мадам, – произнес звучный голос, неизменно затрагивающий самые сокровенные струны моей души, – что мадемуазель Дезейе постоянно бывала у колдунов?» Так нежданно, одной фразой, меня снова ввергли в шумное «дело отравителей», взбудоражившее весь Двор. «Я никогда не дружила близко с мадемуазель Дезейе», – ответила я, не раздумывая; потом, вспомнив, что эта наперсница госпожи де Монтеспан также была любовницею Короля и имела от него детей, добавила: «О, вовсе не потому что считала ее недостойною этого, просто она никогда не откровенничала со мною».
Последовало долгое молчание. Сердце мое колотилось, я ждала продолжения. Украдкой я взглянула на Короля, стараясь понять, чего он добивается, но его лицо было непроницаемо. На коленях он разложил пачку бумаг, в которых я признала отчеты Судебной Палаты; господин де Дарении, лейтенант полиции, ежедневно передавал их монарху через господина де Лувуа.
– Знаете ли вы, – задумчиво продолжал Король, – что и Като постоянно бывала у той самой Вуазен, которую полгода назад сожгли на Гревской площади?» Это сообщение поразило меня. «Да-да, – продолжал Король, не давая мне опомниться, – оказывается, служанки госпожи де Монтеспан, эти в высшей степени почтенные женщины, все ночи напролет проводят у колдунов, а дни – за изготовлением и доставкою магических порошков. Очень ли вы удивитесь, – сказал далее Король, все тем же кротким тоном, одновременно разрывая несколько листков, – если я скажу вам, что и сама госпожа де Монтеспан предавалась весьма странным церемониям в покоях госпожи де Тианж, что священники-самозванцы служили мессы над ее телом и сжигали в церковной чаше травы, порошки и голубиные сердца, дабы наколдовать ей желаемое положение?» Я не знала, куда деваться от изумления и конфуза. «Это правда, – сказала я наконец, – госпожа де Монтеспан всегда окружала себя астрологами, но ежели начать считать всех, кто обращался к этим людям, мы не кончим и до нового столетия». – «Речь не об астрологах, сударыня! – взорвался вдруг Король. – Я вам толкую о кощунствах и отравлениях. Ваша госпожа де Монтеспан пыталась извести даже мадемуазель де Фонтанж и, похоже, не против отправить на тот свет меня самого!»
Эти слова – «ваша госпожа де Монтеспан» – показались мне явным преувеличением; я чуть не ответила, что если она и была «моею», то семерых детей ей сделал кое-кто другой, однако, видя крайнее раздражение Короля, придержала язык. Впрочем, меня больше всего удивило само заявление.
– Мне что-то не верится, – только и ответила я.
– Вам, может быть, и не верится, мадам, но об этом говорится в отчетах.
Я сделала несколько стежков, пытаясь успокоиться. «Сир, нельзя слушать россказни этих умельцев-отравителей, которые ищут средства продлить себе жизнь, выдавая время от времени знатных особ, которых якобы следует арестовать и привлечь к процессу… В такой крайности люди болтают что угодно.»
– Верно; то же самое мне пишет в своем мемуаре по поводу расследования и господин Кольбер, – ответил Король уже более мягко. – Но вот господин де Лувуа представил мне вчера отчет о процессе тринадцатилетней давности над одним колдуном, и маркиза уже фигурировала в нем. А ведь в то время она еще не была моей любовницею, и те, кто ее назвал, ничего не выигрывали… Что вы на это скажете?» Прежде чем заговорить, я втянула шерстинку в иглу. «Не знаю, Сир… но мне трудно поверить, что такая умная женщина, как госпожа де Монтеспан, решила своими руками уничтожить источник всех милостей, коими ее столь щедро удостаивали». – «Тут я с вами согласен, – промолвил Король после недолгого раздумья, – но даже если она и не хотела причинить мне то зло, в коем ее обвиняют, следует все же признать, что она долгие годы пыталась околдовать меня. Как вы полагаете, приятно ли мне теперь думать, что я пил у ней вино, куда мне сыпали порошки из толченых жаб, шпанских мух и стриженых ногтей, подмешивали семя кюре и сок мандрагоры?!»
При других обстоятельствах перечисление это вызвало бы у меня хохот, но тут я поняла, что он будет понят превратно.
Кроме того, все услышанное столь удачно согласовывалось с моими недавними раздумьями о плачевном состоянии общества, что мне было не до насмешек. Напротив, я внезапно поняла, что пришло время заговорить откровенно, и в тот миг, как я открыла рот, передо мною словно разорвалась завеса: мне стало ясно, что Бог и Провидение поставили меня на это место не затем, чтобы я напрасно губила свою душу, ставши любовницею Короля, но избрали своим орудием исправления нравов и самого монарха и его развратного Двора; стало быть, я грешила против веры, дабы усерднее послужить ей в будущем. Это откровение вдруг преисполнило меня дивной уверенности и силы, которой мне столь часто не доставало со времени моего появления при Дворе. Я увидела предначертанный мне путь и смело шагнула вперед.
– Истина состоит в том, – сказала я Королю, – что в этой стране не осталось ничего святого, даже особу Вашего Величества уже не чтят, как прежде; я уж не говорю о Боге, которого, похоже, и вовсе считают ненужной безделицею… Пример добродетелей должен исходить сверху, от власти, Сир. Нынче, когда Ваше Величество установило прочный мир в Европе, самое время навести порядок внутри королевства, вернув честным людям их законное положение, а всей нации – ее первое место в христианском мире. Разве это не великое деяние – сочетать могущество с достоинством?!
Король выслушал меня молча, рассеянно барабаня пальцами по стопке бумаг; потом он встал и все так же, безмолвно, распахнул окно лоджии, впустив в комнату столь любимый им сквозняк. И лишь тогда, глядя мне прямо в глаза, ответил, серьезно и внушительно:
– Мадам, никто еще никогда не напоминал мне столь убедительно и своевременно, что я подавал дурной пример моим подданным… Увы, это слишком верно. Не могу и выразить, до какой степени мне страшно видеть глубину моего падения…
Спустя какое-то время, Король решил, что госпожа де Монтеспан, мать его законно признанных детей, не должна подвергаться обвинениям в колдовстве, и остановил расследование; дабы положить конец слухам и сплетням, маркизу назначили «сюринтендантшею Королевы», и Король продолжал ежедневно видеться с нею – соблюдая все внешние приличия и не подолгу – по окончании мессы или после ужина, однако интимная их связь прекратилась совершенно. Король даже признался мне, что и в продолжение этих коротких визитов боится, как бы его не отравили. Он стал подозрителен даже к запахам и однажды, когда маркиза садилась в его коляску, при всех упрекнул ее в том, что ее духи, коими она всегда злоупотребляла, слишком резки и вызывают у него мигрень; маркиза заспорила, но препирательства кончились тем, что Король велел ей выйти из экипажа. В один миг блистательная Атенаис была повергнута в немилость, даром что истинные причины ее опалы остались скрыты от публики, как того требовали авторитет и достоинство Короля.
Впоследствии я часто осмеливалась говорить с Королем об исправлении нравов. Всякий раз, как экстравагантные выходки придворных давали мне к тому повод, я рисовала монарху мрачную, но правдивую картину состояния морали в его королевстве. Я видела, что он внимательно прислушивается к моим просьбам наказывать злодеев и развратников. И, однако, временами его охватывали колебания. «Значит, я должен начать с собственного брата?» – спросил он меня однажды. «Неужто вы верите, что можно изменить души?» – воскликнул он в другой раз. «Нет, Сир, – отвечала я, – но можно заставить людей соблюдать хотя бы внешние приличия»…
В 80-е года Король, по моим настояниям, все-таки взялся придать, пусть и отчасти, достойный вид лицу своего века. Он изгнал самых отъявленных «развратников-ультрамонтанов» [69]69
Ультрамонтаны – здесь: гомосексуалисты.
[Закрыть], объявил вне закона колдунов, установил строгий надзор за продажей ядов, под страхом смертной казни запретил игру в «хоку», строго потребовал от дам, известных скандальным поведением, вести себя прилично и, в довершение всего, назначил епископами священников, еще имевших слабость верить в Бога, обязав всех без исключения отмечать главные церковные праздники. Обыкновенные воскресные дни скоро начали походить на прежние пасхальные торжества…
Сам Король ознаменовал свои реформы возвращением в круг семьи, где жил теперь как добропорядочный супруг и заботливый отец. Я поощряла его в этом, как только могла, и увещания мои были отнюдь не излишни, ибо Король не находил отрады в обществе своих близких. Молодой дофин Людовик не обещал ничего путного, а, впрочем, и не успел показать себя; слишком слабый его ум был с самого начала подавлен чрезмерно тяжелым учением, и он вечно ходил с видом уныния и скуки, исчезавшей только за чтением античных авторов да сообщений о свадьбах в «Газет де Франс»; вдобавок, он был настолько робок, что в присутствии отца боялся и дышать. Дофина, которую я, вместе с господином де Мо, ездила встречать на границу, соединяла в себе поразительное безобразие с редкостным дикарством: всем придворным увеселениям она предпочитала свои тихие сумрачные покои, а обществу принцев – Бессолу, свою горничную-итальянку, которую любила более всего на свете; кроме того, она вечно хворала и была подвержена обморокам. О нравах Месье, брата Короля, толстенького малорослого человечка, чрезвычайно гордого и надменного, я уже писала. Что же до Мадам, его супруги, то эта дама, напротив, выглядела швейцарцем и юбке; она обожала своих собак, немецкое пиво и немецкую кислую капусту, вечно ходила в охотничьих костюмах и бранилась не хуже иного возчика; впрочем, она была не обделена умом, но, не найдя счастья в семейной жизни, придумала влюбиться в своего зятя, а, поскольку внешность ее не позволяла надеяться на успех, то и ум сделался желчным и раздражительным. Кузина Короля, мадемуазель де Монпансье, похожая на тощую клячу, все еще развлекала Двор зрелищем своей страсти к господину де Лозену, мечтая лишь об одном – как бы вытащить своего милого избранничка из Пиньероля [70]70
Лозен Антонен Номпар де Комон, граф, затем герцог де, маршал Франции (1633–1723) – фаворит Людовика XIV, честолюбивый и беспринципный, вскоре попал в немилость и был заключен в Бастилию. Впоследствии провел 9 лет в тюрьме Пиньероля (город на севере Италии, принадлежавший в то время Франции), а, выйдя оттуда, заключил в 1681 г. брак с герцогиней де Монпансье.
[Закрыть]. Что же до Королевы, то она почти совсем не переменилась: ее помятое личико под светлыми буклями выглядело все таким же наивным и старообразным, и все так же, после двадцати лет жизни во Франции, она ничего не знала ни о Дворе, ни о государстве, интересуясь единственно приготовлением шоколада, дрессировкою обезьянок да свадьбами своих карликов.
И, однако, мне удалось вернуть ей Короля. Это оказалось не так-то легко, – он никогда не ладил с нею и все реже скрывал раздражение ее глупостью. Но я считала, что их примирение отвечает моим интересам. В то время Король часто повторял мне, что устал от любовных похождений; ему и впрямь внушил живейшее отвращение тот процесс над отравителями, в коем оказались замешаны сразу три его любовницы; но я-то знала, что он еще слишком молод и пылок, чтобы довольствоваться мною одной. И уж коли приходилось делиться, то лучше было делиться с Королевою, – она послужила бы удобным отвлекающим средством, не став притом моею истинною соперницей.