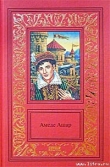Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Я искренне сострадала этим несчастным, тем более, что и сама познала в молодости горестный удел нищеты и хорошо помнила, как борются в душах таких людей гордость и голод. И мне пришло в голову, что воспитание их детей можно поставить на новую, высшую ступень – разумеется, формируя и ум, но, главное, насаждая любовь к добродетелям и наукам и тем самым способствуя возрождению нации. Воспитывать самых бедных девушек-дворянок наравне с дочерьми самых богатых буржуа, вернуть знати ее законное положение, которое она теряла с каждым годом, – можно ли было сравнить важность сего предприятия с простой радостью избавления людей от нищеты?!
Я открыла свои мысли госпоже де Бринон, и она тотчас одобрила этот проект. Мы долго обсуждали, следует ли набирать в подобное заведение и мальчиков и девочек, – в Рюэйле мы содержали множество мальчиков, были они и в Нуази, – но, в конце концов, я решила заняться одними девочками. «Ничто так не запущено у нас, как воспитание девочек, – сказала я госпоже де Бринон, – считается, что им не надобно образование, что они должны уметь одно – подчиняться мужьям… И, однако, разве не женщина разоряет или, напротив, поддерживает семью, следит за всеми домашними делами, воспитывает детей? Женские занятия ничуть не менее важны для общества, чем мужские, а невежество дочерей аристократов именно и приводит к разорению этого сословия».
Я обдумывала мой проект в течение всего 1684 года и наконец посвятила в него Короля. В Нуази тогда содержалось сто восемьдесят девочек, среди коих за последние месяцы набиралось все больше и больше воспитанниц-дворянок. Я осмелилась описать Королю ужасающую нищету, в которую отцы этих семейств были ввергнуты непомерными расходами на службе у Его Величества, и заговорила о необходимости помочь бедным девушкам, дабы уберечь их от окончательного падения.
– То, что Ваше Величество сделали для мальчиков, утвердив кадетский корпус, где дети воспитываются на казенный счет, следовало бы сделать и для девочек из благородных семейств, сказала я Королю. – Они нуждаются в этом даже больше мальчиков, ибо на жизненном пути их подстерегает куда больше опасностей и ловушек.
И я объяснила ему, какое благо принесут хорошо воспитанные девушки в семьи, где им впоследствии придется жить.
– Они распространят по всей стране добрые христианские принципы, – сказала я, – и через двадцать лет вы увидите в ваших провинциях новое поколение благородных и просвещенных подданных, которые составят славу Франции.
Король выслушал меня и ничего не ответил. Только через три часа он бросил мне:
– Заведение, которое вы предлагаете, мадам, будет стоить уйму денег. Кроме того, это весьма странная затея, – никогда еще королевы Франции не занимались подобным делом.
Я была совершенно убита этим ответом: стало быть, напрасно я расточала перлы своего красноречия.
Однако, спустя какое-то время, когда я уже потеряла всякую надежду, Король неожиданно явился в Нуази почти без свиты. Привратница, не зная, что делать в таких случаях и слыша крики сопровождающих: «Король! Король!», не отперла двери, но хладнокровно объявила, что пойдет доложить настоятельнице. Королю пришлось долго ждать появления госпожи де Бринон, но он не рассердился, – напротив, похвалил усердие охранницы. После столь прекрасного начала ему понравилось и все остальное: он прошел по классам, понаблюдал за занятиями детей, восхитился их скромным поведением в часовне, где ни одна голова не повернулась в его сторону, хотя все жаждали взглянуть на монарха; словом, остался так доволен увиденным, что решил немедля предпринять что-то еще более солидное и основательное.
– Я ставлю лишь одно условие, мадам, – сказал он. – это не должен быть монастырь, – мне надоели заведения, ломящиеся от добра, коим пользуются особы, совершенно бесполезные для государства.
Я тотчас успокоила Короля, сказавши, что и сама ненавижу скудоумие монастырского воспитания, и в течение двух часов развлекала его анекдотами из времен моей молодости, о том, как монахини учили нас одним лишь глупым молитвам и наивным сказочкам; словом, старалась вовсю – и добилась успеха.
Мы решили, что в нашем заведении будут содержаться за счет Короля двести пятьдесят девиц из дворянских семейств, сирот или бедствующих, от шести-семи до двадцати лет; наставницы, числом тридцать шесть, отнюдь не монахини, будут состоять под началом госпожи де Бринон (она единственная из всех уже была урсулинкою); наконец, обучение наших подопечных следует построить таким образом, чтобы оно помогало им в последующей жизни, а не делало из них «монастырских пансионерок». Их должны были научить грамотно писать и читать, изучая, как это делалось у мальчиков, произведения знаменитых ораторов и поэтов; преподать начала арифметики, чтобы они умели правильно вести счета, и экономики, а именно, агрономию, торговлю зерном, обустройство фермы; все это позволит им разбираться в сельской жизни и не путать ее, как это свойственно нынешним девицам, с жизнью американских дикарей; далее, их познакомят с греческой и римской историей, историей Франции и сопредельных государств, сделав упор на подвиги храбрости и бескорыстия самых достойных граждан; кроме того, они будут заниматься музыкою с лучшими учителями, дабы уметь наслаждаться невинными радостями, и живописью, ибо никакое женское рукоделие не может быть красивым без знания законов рисунка; научат их и шить, и убирать классы, и обращаться с детьми, для чего старшим воспитанницам вменят в обязанность учить самых младших, помогать им одеваться, мыться и причесываться; узнавши таким образом искренность и восприимчивость детской души, они сами станут и примерными матерями и опытными домашними хозяйками.
И, наконец, они должны быть истинными христианками, благочестивыми и добродетельными. В монастырях дело обыкновенно сводится к тому, что дети затверживают наизусть Закон Божий, не понимая, к чему он обязывает; они лишь помнят заповедь «почитаю Бога единого» – и чтят Богородицу; они говорят «не укради» – и не считают грехом обкрадывать государство и Короля, набожность же свою выражают лишь внешними обрядами – исповедями, причастиями, долгими молитвами в церкви, а, выйдя оттуда, тотчас забывают о Боге и дают волю гневу, ненависти, мстительности, лжи, скупости и коварству. Я хотела, чтобы в нашем Доме, освященном именем Короля, все шло иначе, чтобы он послужил примером для всей Франции, положив начало распространению таких домов по всему королевству.
Король поручил господину Мансару составить планы строительства зданий, и сей архитектор выбрал для них местечко Сен-Сир, находившееся в дальнем конце Версальского парка. 1 мая 1685 года полторы тысячи рабочих взялись за дело, и дом был выстроен в пятнадцать месяцев.
Пока возводились здания, я, с помощью Нанон, делала эскизы костюмов для наставниц и пансионерок, готовила мебель для классных комнат и дортуаров, составляла распорядок дня наших воспитанниц. Все эти заботы доставляли мне великое удовольствие и расширяли пределы моей тюрьмы. Король был счастлив моим счастьем и решил внести свою лепту: он велел Нанон представиться ему в форменном платье наставницы Сен-Сира и слегка исправил фасон чепца, изучил правила заведения и прислал мне патент, в коем утверждал мое право до самой смерти пользоваться отдельной, специально обустроенной квартирою в Доме, а также пожизненным содержанием для меня и моих слуг, если я когда-нибудь захочу там поселиться. Таким образом он тактично подготовил мне приют на случай, если умрет раньше, чем я; в ту пору он сильно страдал от свища, и мысль о смерти часто приходила ему на ум.
В конце июля 1686 года все пансионеры Нуази перебрались в Сен-Сир в экипажах Короля и под охраною его швейцарских гвардейцев. Дети громко восхищались дортуарами с белыми кроватями, чьи занавеси были подвязаны шелковыми лентами – зелеными, красными, желтыми или синими, согласно их возрастному разряду; каждая девочка получила в личное пользование сундучок и туалетный столик; обои в четырех классных комнатах и шнуры, на которых висели географические карты, также имели соответствующие цвета; стены были частично расписаны фресками: в зеленой комнате изобразили лес, в синей – море, в желтой – детей на золотистом пшеничном поле. Сад и роща, где Король сам присвоил названия каждой аллее, выглядели очаровательно; все три внутренних дворика украшали апельсиновые деревца; повсюду были насажены рядами грабы и устроены зеленые беседки с качелями. Девочки, не привыкшие в своих бедных семьях и монастырях к такой роскоши и удобствам, восхищенно ахали и хлопали в ладоши. С первого же дня распорядок их жизни был установлен именно так, как решили мы с Королем: в шесть часов утра подъем и первая месса, в девять – завтрак; далее, два часа чтения, письма и декламации; в одиннадцать обед и отдых до часу дня; потом одни воспитанницы занимаются пением, другие вышиванием, вслед за чем сходятся вместе на уроки орфографии, грамматики и арифметики; через два часа следует полдник, вечерняя месса и повторение катехизиса; в шесть вечера ужин, еще два часа свободного времени и, наконец, в девять отход ко сну.
С этого момента и в течение последующих тридцати лет Дом в Сен-Сире был главным делом моей жизни, когда Король и Двор предоставляли мне свободу; приезжая в Версаль, я наведывалась туда по крайней мере через день, являясь с утра пораньше, часов в шесть, и оставаясь до пяти часов вечера. Я помогала одеваться еще заспанным малюткам-«красным», затем обходила классы, наблюдая за работою учительниц, сама иногда давала уроки грамматики или катехизиса девочкам постарше, тут показывала фасоны вышивок, там объясняла правила игры в пикет; заканчивала я свой обход в лазарете, утешая и обихаживая больных, причесывая выздоравливающих. И все эти занятия были мне стократ милее версальских увеселений.
В сентябре 1686 года Король, все еще не оправившийся от своей хвори, также посетил Сен-Сир. Он произвел смотр всем его тремстам обитателям, и детям и учителям, отстоял вместе с ними мессу, побывал на уроках; в ту минуту, как он, с трудом шагая, выходил в сад, младшие воспитанницы воодушевленно запели гимн, который госпожа де Бринон сочинила на музыку Люлли:
Великий Боже, спаси Короля!
Великий Боже, защити Короля!
Славься, великий Король!
Он выслушал их молча, но, усевшись в карету, не смог скрыть волнения, хотя обычно прекрасно владел своими чувствами; сжав мою руку, он поцеловал ее и промолвил дрожащим голосом: «Благодарю вас, мадам, вы доставили мне огромную радость!» Придя в восторг оттого, что наши чувства совпадают, и, кроме того, взволнованная его болезнью, я не сдержалась и вернула ему поцелуй, что было, пожалуй, дерзостью с моей стороны, удивившей его не меньше, чем меня самое. Он насмешливо взглянул на меня, покачал головою, улыбнулся и держал мою руку в своей вплоть до прибытия в Версаль. Сен-Сир стал нашим общим детищем и еще крепче сплотил нас подле себя.
Несколькими годами позже в Сен-Сире состоялись представления по пьесам, которые я просила написать господина Расина, дабы привить нашим воспитанницам вкус к изящной словесности; спектакли эти окончательно убедили Короля в блестящем успехе нашего предприятия. Весь Двор пожелал видеть ту самую «Эсфирь», в чьих персонажах политики узнавали меня – в главной героине, Короля – в Артаксерксе, госпожу де Монтеспан – в высокомерной Вашти, Лувуа – в Амане; поэты же попросту восхищались безупречной, невиданной доселе гармонией стихов, музыки, пения и характеров героев. Девочки исполняли свои роли великолепно; племянница моя, Маргарита де Виллет, которую я только что выдала замуж за графа де Кейлюса, блистала во всех амплуа поочередно, а особенно в роли Эсфири.
Король и королева Англии, жившие тогда в Сен-Жермене после несчастья, постигшего этого монарха, также пожелали видеть пьесу; все принцы крови, все министры сбежались в театр, устроив давку в дверях; увы, я могла усадить одновременно не более двухсот человек. Король появлялся в театре каждый день; прибыв, он становился у входа и загораживал его своей тростью, пропуская внутрь лишь тех, у кого имелось приглашение, после чего сей царственный мажордом самолично запирал двери.
«Эсфирь» стала триумфом Сен-Сира, прославив заодно и семейство д'Обинье в лице главной героини, в коей все находили сходство со мною, и актрису, исполнявшую эту роль.
Куда труднее мне было убедить Короля помочь мне в осуществлении других планов, также направленных на оздоровление нравов общества; он не запретил мне открыть еще несколько заведений для детей бедняков, но не дал на них ни гроша; пришлось мне оплачивать из своего кармана маленькие школы в Авоне, рядом с парком Фонтенбло, где училось около ста крестьянских девочек, и в Сен-Сире, куда мы приняли шестьдесят детей. Я частенько ходила туда и сама учила воспитанников счету и катехизису, для чего усаживалась прямо на каменной паперти, собирая около себя детишек; те, что постарше, стояли кружком, младшие ложились на подол моего платья.
Вернувшись домой, я спешила переменить одежду, так как всегда приносила на себе вшей, подхваченных у моих учеников, и Королю это не нравилось; вначале дети были чрезвычайно грязны, но впоследствии я сама каждую зиму дарила им новое платье, если и небогатое, то хотя бы чистое. Трудясь в этих школах и в самом Сен-Сире, я полагала себя служительницею как Бога, так и королевства; сам Король, однако, не слишком заботился об утолении нужд своих подданных.
Однажды, когда я попросила его увеличить хотя бы размеры подаваемой милостыни, он ответил: «Сударыня, я этого не сделаю. Ибо, сделав это, я буду вынужден еще раз обобрать мой народ, тогда как сам не лишусь ни необходимого, ни излишнего, не правда ли? Я считаю вредным взыскивать дополнительные налоги и разорять бедняков новыми поборами, чтобы затем им же и подавать милостыню из этих денег. Нечего сказать, велика была бы заслуга!» Разумеется, это было вполне справедливо… если не считать того, что Король мог бы ограничить себя в излишествах, – но это ему и в голову не приходило… Итак, будучи вынуждена обходиться своими средствами для помощи несчастным, коих число неуклонно возрастало, я должна была лишать себя самого насущного. Я приказала моему управляющему не закупать более для меня провизии, и питалась отныне лишь тем, что от раза к разу присылал мне со своего стола Король, – иногда это был голубь, иногда паштет; словом, из экономии я жила объедками Его Величества и даже перестала кормить у себя гостей. «Ваш дом стал поистине Божьим домом, – насмехался надо мною брат, – тут без конца молятся, но не едят и не пьют».
Я и впрямь сделалась скупою до неприличия, зато из 90 000 франков дохода, получаемых с Ментенона и от Короля, могла раздавать каждый год бедным от 60 000 до 70 000 франков. Кроме того, я повсюду основала госпитали для неимущих больных, вкладывала деньги во все благотворительные начинания госпожи де Мирамьон в Париже [75]75
Г-жа де Мирамьон вложила все свое огромное состояние в замечательно организованные больницы, дома призрения, сиротские приюты и прочие благотворительные заведения (прим. автора).
[Закрыть]; в Версале, в Компьени, в Фонтенбло сама навещала бедняков, не называя себя, принося им одежду, хлеб, мясо, соль, одеяла, белье, детские пеленки и оделяла деньгами тех, кто не нуждался в вещах. Нередко случалось так, что, выйдя на прогулку, я возвращалась домой без чепца, шали или плаща, которые дарила встреченным бедным женщинам. Меня печалило лишь одно, – я никак не могла убедить Короля, что голодному невозможно внушить правила добродетели. Его занимали другие, более важные дела.
Наряду с воспитанием детей и благотворительностью я постепенно привыкала давать Королю советы, которые, впрочем, ни к чему не служили. Все окружающие воображали, что, коль скоро Король работает у меня в комнате, я принимаю активное участие в управлении государством, однако, такое случалось лишь в последнее десятилетие его царствования, да и то весьма редко. А в описываемое время Король, находившийся в зените славы и могущества, и вовсе не нуждался в моем мнении. Разумеется, он не таился от меня, но почти ничего и не обсуждал со мною, так что я большей частью пребывала в неведении. Он не любил, когда дамы рассуждают о делах, и никакое усердие, никакая привязанность не могли служить извинением в его глазах; мне он также много раз повторял, чтобы я не трудилась вмешиваться в его занятия.
И я воздерживалась от этого – тем более охотно, что полагала его в своем праве: Бог посадил его на трон, меня же всего лишь поставил рядом, указав тем самым на разницу наших ролей; моя заключалась в том, чтобы развлекать Короля, утешать его и удерживать, елико возможно, на пути Добродетели, Я понимала, что усердие мое не должно уводить меня за эти пределы, которые Провидение начертало слишком ясно.
Однако иногда случалось, что Король требовал моего участия в совещании с кем-нибудь из министров; я начинала с извинений за мою неспособность давать советы, добавляя, что после сорока лет трудненько вникать в дела. Если Король все же настаивал, я высказывала свое мнение в коротких и самых общих выражениях, никогда не отвечая прямо на вопросы, нужно ли сжечь Геную на три четверти или только наполовину; следует ли поддержать силою оружия кардинала Фюрстенберга или предпочесть, в качестве правителя Польши, Баварца [76]76
Фюрстенберг Биллем Эгон (1619–1704) – Страсбургский епископ, верный сторонник Людовика XIV, который поддержал его кандидатуру на выборах правителя Польши, что стало одной из причин войны Франции с Аугсбургской лигой. Баварец – Август II (1670–1733), избранный королем Польши (1697–1733).
[Закрыть], ограничиваясь во всех случаях рассуждениями о мире, благоразумии и равновесии, каковые угодны Богу и служат процветанию наций. Королю очень нравились мои наивные максимы и основательность суждений. Однажды он шутливо сказал: «Мадам, королей называет «Ваше Величество», Пап – «Ваше Святейшество», вас же следовало бы прозвать «Ваше Степенство», и впоследствии всякий раз, спрашивая моего совета, с улыбкою обращался ко мне так: «Ну-с, что скажет Ваше Степенство?» Однако сия лестная почтительность ничуть не изменяла его планы, которые он составлял еще до того, как обращался ко мне; он всего лишь искал моего одобрения, и не более.
Итак, в первые годы нашего брака я не смогла повлиять ни на одно из тех важных дел, по поводу коих он спрашивал моего мнения.
Я ненавидела войну, как из религиозных убеждений, так и но прирожденному миролюбию, – и много раз умоляла Короля не нарушать установленный мир; однако через пять лет после нашей свадьбы он, ничто-же сумняшеся, нарушил договор о перемирии, подписанный в Регенсбурге, и ввязался в войну из-за Пфальцского наследства, восстановив против себя всю Европу [77]77
Пфальц – западная область Германии, куда Людовик XIV вторгся с войсками, якобы защищая земли, принадлежащие, по праву наследия, его невестке.
[Закрыть].
– Но, Сир, соблюдение данного слова…
– Оставьте, сударыня, вы в этом ничего не смыслите, – сухо отвечал Король. – Политический договор – тот же комплимент; он приятно звучит и притом ровно ничего не стоит… К тому же, давно пора проучить этих князьков, которые вздумали изображать из себя великих монархов!
Я часто осуждала непомерную роскошь дворцов, строившихся для Короля, и с ужасом наблюдала, как Марли, поначалу задуманный небольшим, скромным замком, вырастает до размеров Версаля; я никак не могла уразуметь, зачем нужно, едва оштукатурив стены, все разрушать дотла и начинать строить заново. Я отнюдь не преувеличиваю: взять хотя бы в пример этого архитектурного варварства кабинет Бассано в Версале, сам по себе весьма простой (он служил Королю спальней, затем стал передней): один только камин совершил полный круг по комнате – не чудом, разумеется, а в силу непрерывно менявшихся планов. Сначала он располагался в восточной стене, откуда через два года переехал в южную, затем в западную и, наконец, остановился на северной. Мне кажется, будь у строителей возможность поменять местами пол и потолок, они бы не задумались сделать и это; в 1700 году переделки закончились полным разрушением кабинета, за счет которого расширили спальню Короля, чтобы затем превратить оба эти помещения в салон «Бычий глаз» с овальными окошками; спальню же разместили в кабинете Совета, который, в свой черед, перебрался в соседнюю залу, и так далее. В ту пору в Версале и его окрестностях трудились 36 000 рабочих. Я кипела от ярости, глядя, как расточаются впустую деньги, которых мне так не хватало для бедняков, тщетно ожидавших милостыни на пути моей кареты, но убеждать Короля было бесполезно, мои речи вызывали у него одно неудовольствие. Расходы на строительство все возрастали; Король, невзирая на мои просьбы, приказал разрушить старый Трианон и возвести новый, еще более монументальный и роскошный.
– Не думаю, что Бог осудит меня за мои дворцы, – объявил он мне. – Их строительство да охота – вот единственные невинные услады, какие может позволить себе монарх.
Я приходила в отчаяние, у меня просто опускались руки.
По правде говоря, я все еще дрожала перед царственным супругом, коего дал мне Господь; стоило ему слегка нахмуриться или бросить на меня ледяной взгляд в ответ на некстати сказанные слова, как я умирала со страху и готова была провалиться сквозь землю.
Много огорчений мне доставили также гугеноты. Уже давно я пыталась внушить Королю, что насилие и принуждение, вершимые над их религией, ужасны и недопустимы, и была крайне довольна, когда он избрал другой, более мягкий способ их обращения, основав «Кассу обращенных», где каждому перешедшему в католичество выдавалась денежная награда; кроме того, он платил за них подати; он приказал повсюду раздавать им молитвенники, что приводило в восторг людей, коим с детства твердили, что им не должно понимать проповеди священника; он каждодневно писал епископам, веля им рассылать в епархии послания для укрепления веры новообращенных; словом, оказывал бывшим протестантам множество милостей. Я была уверена, что все его деяния угодны Богу, и не могла нарадоваться этому.
Вскоре, однако, господин де Лувуа убедил Короля изменить отношение к протестантам: он посоветовал ему размещать на постой в их домах солдат и офицеров. Уж не знаю, пекся ли при этом министр о славе Божией, но уверена, что он наверняка заботился о своей собственной: в стране восемь лет как царил мир, а таковое положение всегда огорчает военных министров; господин де Лувуа чувствовал, что в результате мягкой политики в отношении гугенотов его влияние с каждым днем слабеет, в отличие от власти Государственного секретаря по делам реформаторов, который был креатурою Кольбера, а кроме того, тестем одного из сыновей самого великого «Севера» (так прозвали Жан-Батиста Кольбера); итак, замешать военных в предприятие, коего основою могло быть единственно милосердие, стало в его глазах делом чести и средством отнять у своих соперников утраченное могущество. Кроме того, министр, жаждущий королевского доверия и привыкший идти напролом, бесился, видя частые совещания Короля с архиепископом Парижским и Пелиссоном, которые отчитывались ему по делам «Кассы обращенных», – время, отданное монархом другим людям, он считал украденным у себя.
Король хотел знать мое мнение по поводу проекта своего Военного министра. Я отвечала, что не могу судить о столь важном деле и что лица, составляющие Совет министров, наверное, слишком осторожны, чтобы можно было полагаться на их оценки, я же знаю одно – путь милосердия всегда наилучший и наикратчайший путь к душам людей. Эти слова подсказали мне сердце и совесть, и они же неизменно восстанавливали меня против начинаний господина де Лувуа.
Тем не менее, Король последовал настойчивым просьбам своего министра, а тот, вырвав у него согласие, тотчас отдал приказы и начал, от имени монарха, жестоко притеснять гугенотов, за что впоследствии, когда все открылось, и понес суровое наказание.
Следует, однако, признать, что «военная метода» оказалась действеннее всех прочих, вместе взятых. Теперь господин де Лувуа ежедневно докладывал Королю о тысячах обращений; поутру это был город Монтобан, перешедший в католичество при одном лишь виде военных мундиров, ввечеру – Сент, Ним или 100 000 гугенотов из округа Бордо. Король, обманутый как самим образом действий своего министра, так и громадным числом обращенных, был в восторге; я радовалась вместе с ним, хотя в глубине души питала живейшее недоверие к сим блестящим успехам. Чувство это усилилось, когда я узнала из письма моего кузена Филиппа де Виллета, все еще упорно державшегося своей веры, что в некоторых местах гугенотов вынуждают переходить в католичество поистине ужасными методами. Я-то полагала – как и святой Августин, – что искоренять следует заблуждения, но не заблудших. Я написала Филиппу, что возмущена этой жестокостью, что насильственное обращение – величайшая мерзость, и что гонители его веры и впрямь зашли слишком далеко. Копия этого письма тотчас была представлена Королю, – его цензоры не сделали для меня исключения. «Сударыня, вы, кажется, полагаете, что в нашей стране слишком жестоко преследуют еретиков, – сказал мне однажды Король за ужином. – Похоже, вы питаете слишком большую симпатию к вашей бывшей вере. Хорошо же вы относитесь ко мне!» Я так и застыла с ложкою в руке, вся дрожа от этого сурового упрека. Король, ничего не добавив, с надменным видом вышел из комнаты, а я провела бессонную ночь, думая о том, что он, верно, никогда уж более не вернется сюда. С этого дня я стала зашифровывать мои письма к друзьям и отправлять их под вымышленными именами, тайным, окольным путем. И с этого же времени за мною начали неотступно следить.
Позже, когда встал вопрос об отмене Нантского эдикта, Король не снизошел до того, чтобы спросить совета у «Моего Степенства», да я бы и не решилась высказывать свое мнение. Однако время от времени он приходил ко мне в комнату совещаться с министрами. Довольно скоро я поняла, что он считал это дело скорее политическим, нежели религиозным.
Король полагал, что действует правильно, ибо, доверяясь рассказам господина де Лувуа, думал, будто во Франции осталась какая-нибудь жалкая кучка еретиков. Но он глубоко заблуждался – или был обманут, – так как в последующие годы страну покинули более 200 000 кальвинистов, забрав с собою около двухсот миллионов наличных денег. Это дорогостоящее изгнание разгневало даже самого Папу: понтифик, невзирая на свою ненависть к иноверцам или приверженность Евангелию, публично поддержал епископов, осудивших бесчинства драгунов в своих епархиях.
Что же до меня, то сразу по отмене Нантского эдикта я поступила, как все остальные: прогнала от себя кальвинистов, отказавшихся перейти в католичество; посоветовала брату скупить в Пуату их земли, продававшиеся за бесценок; позволила заключить в Бастилию и Новокатолическую тюрьму моих кузенов де Сент-Эрминов, бравировавших своим религиозным пылом. Они явно стремились к мученичеству, и я хорошо понимала их резоны, зная по собственным воспоминаниям юности, что оружием веру не искоренить и что насилие способно лишь еще больше возмутить мятежную душу. Словом сказать, радуясь массовым обращениям, о коих мне сообщали каждый день, и горячо желая того же моим родным, я, тем не менее, не одобрила вслух саму отмену Нантского эдикта.
Хранить молчание в то время, когда все вокруг, кроме гугенотов, прославляли заслуги Короля, было весьма рискованно; его могли расценить как вызов. «Что может быть прекраснее отмены этого эдикта! – восклицала госпожа де Севинье. – Ни один король в мире еще не совершал столь великого подвига. А драгуны показали себя достойнейшими миссионерами», – добавляла она. Боссюэ, со своей стороны, провозглашал: «Воспоем сие чудо наших дней, обратим сердца паши к благочестивому королю Людовику, прославим его, и пусть небеса услышат нашу хвалу; скажем новому Константину, новому Карлу Великому: вы свершили деяние, украсившее ваше царствование и угодное Богу, вашими усилиями ереси более не существует, Господь сотворил сие величайшее благо!» «Королевство наше избавлено от иноверцев, – писал святой аббат де Ранее, – могли ли мы надеяться узреть сие чудо собственными глазами?!» Сатирик Лабрюйер ликовал и радовался искоренению «зловредного, подозрительного культа, подрывающего основы нашего государства». Что же до канцлера Летелье, родного отца господина де Лувуа, тот едва успел перед самой смертью наложить печати на указ об отмене эдикта и промолвить, уже закрывая глаза: «Господь милосердный, теперь Ты можешь призвать к себе Твоего верного слугу, ибо он сподобился увидеть триумф славы Твоей!» Поистине, в этом семействе все оставались верными царедворцами до самого смертного часа…
Увы, с моими собственными родными дело обстояло совсем иначе. Я на коленях умоляла Филиппа сменить веру, он же упорствовал, как семейство де Сент-Эрмин, и я с ужасом ожидала, что его постигнет та же участь – заключение в какой-нибудь крепости.
«Смиритесь перед Господом, – заклинала я его, – и просите его просветить вас. Обратитесь в истинную веру и притом сделайте это, когда будете в море, дабы вас не заподозрили в том, что вы были принуждены к этому силой; словом, обратитесь, умоляю вас! Ваше нынешнее состояние повергает меня в отчаяние; стало быть, я люблю вас больше, чем думала!» В конце концов, Филипп сдался и через год после отмены эдикта перешел в католичество. После чего явился ко Двору и в ответ на поздравления Короля сухо отвечал: «Сир, это единственный поступок, который я совершил не для того, чтобы угодить Вашему Величеству». И, однако, он стал не менее добрым католиком, чем ранее был гугенотом, – он проявил бы душевное величие в любой религии.
После того я вовсе перестала заниматься делами протестантов и полностью подчинилась воле Короля. Теперь я хорошо видела, что политика – не моя стихия…
Король часто говорил мне, что я ничего не понимаю в государственных делах; однако я чувствовала, что мне вполне хватает ума для здравой оценки государственных деятелей. Мне было чрезвычайно важно добиться какого-нибудь, хотя бы косвенного, влияния при назначении людей на тот или иной пост, иначе я рисковала лишиться своего места: у меня не было никакой поддержки при Дворе, никаких могущественных родных, и первая же интрига грозила серьезно навредить мне; итак, следовало заручиться помощью лиц, которые, будучи обязаны мне своим возвышением, могли бы, в свою очередь, защитить меня.
Более всего я боялась двоих приближенных Короля, имевших на него самое сильное влияние, – господина де Лувуа и отца Лашеза; естественно, я стала выбирать себе друзей из числа их врагов.
К первому министру Короля я испытывала больше чем предубеждение. Он никогда не нравился мне, даже во времена Вожирара. Все мне было неприятно в этом человеке – его грузное тело в плотной одежде, топорная красная физиономия, грубые и, одновременно, вкрадчивые повадки, высокомерие, коим он подавлял людей ниже себя рангом, и подобострастие, коим усыплял подозрительность вышестоящих; при этом ни намека на человечность, но, напротив, во всем безграничная алчность, подкрепленная беспредельной жестокостью; он не брезговал ничем в достижении своих целей, боясь лишь одного – разоблачения; незаконные поборы, чрезмерные контрибуции, беззастенчивое нарушение гражданских и религиозных прав, осквернение самых святых понятий, грабежи, поджоги, разбой и варварство – все было ему впору.