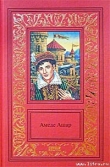Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
В мое отсутствие Поль Скаррон сочинил несколько сказок и взялся за продолжение своего «Комического романа». Когда я вернулась, он стал каждый вечер читать мне по главе, написанной за день. Кроме того, он дал мне несколько интересных книг, которые мы затем обсуждали; по такому случаю он даже заставил меня учить испанский и итальянский языки, которыми, по его мнению, непременно должна владеть каждая светская женщина. Занимаясь этим чтением, счетами от двух ферм и хозяйством, я чувствовала себя счастливою, как некогда в Мюрсэ, и питала надежду, хотя и слабую, что мы подольше проживем в Турени. Однако, если наше почти любовное уединение нравилось Скаррону-мужу, то оно вовсе не устраивало Скаррона-повесу. Он скучал по своим парижским «дебошам», по веселым собутыльникам из «Сосновой шишки» и «Львиного рва», по юбочникам и выпивохам, по распутникам всех мастей, вроде Буаробера, Ренси, Сент-Амана и Ресто, составлявших его обычную компанию. Кроме того, у него было мало денег: он имел лишь один источник дохода – от «маркизата Кине», иными словами, от своего издателя, и рассчитывал вскоре получить кое-какие суммы, отдав ему свои новые сочинения. В феврале 1653 года он решительно отказался от поездки на острова и от самоличного управления своими фермами; заручившись наконец прощением кардинала, он собрался в Париж, дабы ускорить печатание «Дона Яфета».
Мы не могли больше жить в особняке де Труа, и нам пришлось просить временного приюта у моей золовки Франсуазы Скаррон. Она жила, так же, как и ее сестра Анна, в квартале Марэ, на улице Двенадцати Ворот, которую насмешник Скаррон прозвал улицею Двух Ворот, имея в виду потайные «ворота» своих сестриц. Правду сказать, Франсуаза Скаррон не нуждалась для сей непристойной арифметики в компании сестры, – в молодости у ней самой было предостаточно романов. Нынче же она жила на содержании только одного, но весьма удачно выбранного любовника герцога де Трема.
Если кому и подходило понятие «вести двойную жизнь», так это именно ему, питавшему великую склонность к удвоению: он дал трем своим сыновьям от Франсуазы те же имена – Франсуа, Рене и Луи, – что своим законным детям, обставил комнаты любовницы точно так же, как апартаменты жены, и выращивал во второй семье щенков от собак, содержавшихся в первой. Непрестанно переходя с Сенной улицы, где стоял особняк де Тремов, на улицу Двенадцати Ворот, то есть, из главного дома в запасной, он воображал, что, благодаря столь заботливому устройству, избавляет себя от перемены обстановки. Тем не менее, все в его второй семье – жена, дети и щенки, – хотя и походили на «первых», но были моложе на целое поколение, и герцог уверял, что, пересекая улицу, он всякий раз молодеет лет на двадцать, как по взмаху волшебной палочки. Вот на деньги этого-то мечтателя или, по крайней мере, в его доме мы и прожили первые месяцы после нашего возвращения в Париж.
Отъезд в деревню не лишил Скаррона известности, но привычное общество распалось, а состояние финансов было весьма плачевно. Результатом его блестящей «Мазаринады» стало то, что он лишился пенсии в пятьсот экю, которую прежде королева Анна выплачивала своему «почетному больному» [17]17
Скаррон, добивавшийся королевской пенсии, на вопрос, какие основания у него есть для такой просьбы, ответил, что хочет считаться «почетным больным» Анны Австрийской.
[Закрыть]из личной казны. Год назад он продал свою должность каноника в Мансе секретарю Менажа и давно прожил эти деньги. Сумму, вложенную в американскую экспедицию, также можно было считать потерянною; из колоний к нам доходили самые скверные известия: аббат Мариво утонул, губернатора де Руэнвилля убили его же «наемники», колонисты воевали меж собою не на жизнь, а на смерть, дикари бунтовали, а тех, кто избежал индейских стрел или топора палача, косили голод и болезни. Что же до литературных произведений поэта, они были заранее проданы нескольким издателям, и ему пришлось бы трудиться многие месяцы, чтобы отработать аванс, выданный и Люинем и Соммавилем. А нам нужно было чем-то кормиться и где-то жить уже сейчас; оставалось два выхода: продать фермы или просить милостыню.
Скаррон сделал по очереди и то и другое, начав, однако, с милостыни, которую, в отличие от маленькой «индианки» из Ларошели, всегда просил с легким сердцем.
Его заработком стали посвящения. Кесарю кесарево: Скаррон начал с юного короля Людовика, которому посвятил напечатанного «Дона Яфета», намекнув, что Король не разорится, если чуточку поможет ему. Одновременно он выпустил коротенькое и очень ловко составленное «послание», где осмеивал вчерашних друзей: «Фрондеры, вы просто безумцы, вам пора бы смириться; вспомните, что фронда – это веревка [18]18
La fronde (франц.) – праща, метательный снаряд, состоящий из веревки и камня (см. прим. 1).
[Закрыть]; вам пора бы смириться и воззвать к милости!» Увы, ни Король, ни Кардинал не пожелали открыть кошелек для жалкого рифмоплета. Пришлось спуститься пониже. Скаррон не забыл никого из знатных и незнатных богачей: «Разве это преступление для нищего калеки – просить на пропитание?!» Он обращался ко всем подряд – к Гастону Орлеанскому, мадемуазель де Отфор, маршалу Тюренну, сюринтенданту Фуке, Эльбефу, Сюлли, Вивонну, своему кузену д'Омону; затем, боясь надоесть сильным мира сего, он приступил к людям рангом пониже: советник Моро, финансист Фурро, казначей Дюпен, даже граф Селль, мерзкий пошляк, обивавший пороги светских салонов, – все они удостоились самых возвышенных похвал за несколько экю или какой-нибудь паштет. Щедрее всех оказался Фуке, который раздаривал деньги своим приближенным с тем же размахом, с каким черпал их в королевской казне; поскольку он любил комические стихи и сатиру, поэту была определена годовая пенсия в 1600 ливров, к которой иногда добавлялась через Пелиссона еще какая-нибудь малость. Гастон Орлеанский также велел внести Скаррона в список своих пенсий и назначил 1200 экю.
Эти щедрые пожертвования и выход в свет нескольких новых трактатов позволили нам съехать от Франсуазы Скаррон, которая глядела на незваных гостей свысока и частенько попрекала куском хлеба. Единственной моей радостью в этом доме был младший сын герцога, Луи Потье, очаровательный юноша, которого Скаррон величал «племянником на пуатевинский манер». Он был всего на три года младше меня, обладал острым умом и пылким темпераментом и, сам того не зная, питал легкую влюбленность в свою слишком молодую тетушку, которую случай и бедность забросили к нему в дом. Он таскал у меня ленты и срывал поцелуи с нарочито детским выражением лица, дававшим ему право на прощение всех этих мелких дерзостей. Я же впоследствии, уже будучи в фаворе, решила взять к себе этого пылкого безумца, дабы вознаградить его за те радости, что он доставил мне своими детскими выходками; при Дворе он был моим конюшим, а двух его дочерей я поместила в Сен-Сир.
Но и в том 1654 году когда мы покинули незаконное семейство герцога, я не вовсе потеряла его из виду, ибо мы переехали недалеко – всего лишь на другой конец той же улицы.
Дело в том, что 27 февраля мы сняли за триста пятьдесят ливров в год небольшую часть особняка на перекрестке улиц Двенадцати Ворот и Нев-Сен-Луи. Главное помещение занимал граф де Монтрезор, мы же разместились в задних комнатах, куда проходили по черной лестнице и узкому коридору. Он вел к темному внутреннему дворику, кухне, буфетной и кладовой; мне были отведены две комнаты и гардеробная во втором этаже, Скаррон разместился в двух комнатах на третьем. Вся наша квартира, подновленная, но более чем скромная, не удовлетворила бы даже простого лавочника.
Я, однако, была крайне довольна, ибо ни с кем не делила ее, и мне не приходилось терпеть мою кисло-сладкую золовку или, как в особняке де Труа, Кабара де Виллермона, с его лакеями, капризами и надоевшими мне миндальными пирогами, а, впрочем, весьма добропорядочного господина. Лишь тот, кто долгое время был лишен всего, может оценить любую милость судьбы, и я наслаждалась видом моих четырех комнат и шести каминов. Я любовалась моими медными кастрюлями и вертелом. Я восхищалась венецианским зеркалом, которое Катрин Скаррон, герцогиня д'Омон и кузина моего мужа, подарила мне «за мое веселое личико и приятные манеры, неожиданные для супруги ее ветреного родственника». Я не могла наглядеться на секретер черного дерева с инкрустациями на библейские сюжеты, который одолжил нам д'Эльбен. И, наконец, я довела до полного блеска мои серебряные блюда, каминные подставки для дров, канделябры и кувшины.
Одну из комнат во втором этаже обили желтым атласом из особняка де Труа; этой же материей покрыли диван со спинкою, два кресла, полдюжины обыкновенных и столько же складных стульев. Я собственноручно обшила каймою полотняные занавески и повесила их на окна с помощью нанятой мною служанки, Мадлен Жольфрен. Одну стену этой комнаты я украсила венецианским зеркалом, вторую – картиною с Марией-Магдалиной, третью затянула гобеленом с мотивами из Ветхого Завета, довершив этим убранство моей гостиной. Рядом с нею я устроила себе спальню, приобретя для нее широкую кровать с балдахином из красной полупарчи. Служанка Мишель Дюмэ и Мадлен Жольфрен, моя горничная, она же портниха и обойщица, спали в каморке рядом с гардеробной.
Этажом выше находился наш «парадный» салон, Я считала его роскошным: ореховый стол на шести ножках, вышеупомянутый секретер черного дерева, дюжина стульев с желтыми атласными сиденьями, два больших книжных шкафа, где разместилась библиотека Скаррона, и, главное, картина «Откровение Святого Павла», которую Никола Пуссен написал четыре года назад для своего друга. В задней комнате помещалась спальня поэта, где вся мебель была обита тем же желтым атласом: перед нашей свадьбою господин Скаррон накупил его столько, что хватило бы на десяток домов. «Господи спаси! – воскликнула я, обращаясь к моему супругу, когда убранство было завершено. – Да тут столько желтого, что всех китайских индейцев [19]19
В описываемую эпоху, когда Индия считалась легендарной заморской страной, индейцами называли обитателей всех далеких стран.
[Закрыть]затошнит!» – «А также всех рогачей города Парижа, – отвечал он. – Но сам я, как видите, не суеверен» [20]20
Желтый цвет считается цветом измены.
[Закрыть].
Я полагала мой дом великолепным и вполне достойным блестящего общества, которое надеялась привлечь сюда. Учась ремеслу сиделки при господине Скарроне, занимаясь чтением, к коему он приучал меня, и обустройством нашего нового жилища, я пока что не имела времени выезжать в свет и знать не знала о той истинной роскоши, что скрывалась за кирпичными фасадами особняков знати в Марэ.
Из скромного дома, который Скаррон, со свойственной ему веселой откровенностью, назвал «Приютом Безденежья», я и совершила первые мои вылазки, дабы вернуть поэту-затворнику прежнее общество, рассеянное Фрондою и нашим туренским изгнанием.
Задача была не из легких: самые знаменитые фрондеры, некогда украшавшие своим присутствием особняк де Труа, все еще пребывали в изгнании; что же до сторонников Короля, они не торопились компрометировать себя дружбою с «почетным больным», которого герольды победителей все еще поносили на каждом углу.
Некий Сирано де Бержерак [21]21
Сирано де Бержерак, Савиньен де (1619–1655) – французский эссеист, философ, автор остроумных комедий.
[Закрыть], жалкий, безвестный рифмоплет, выплывший наверх во времена Фронды и ставший новым кумиром Двора, щедро изливал на несчастного Скаррона потоки черной клеветы и насмешек. «Спешите, писатели-повесы, спешите увидеть целый госпиталь, заключенный в теле вашего Аполлона!.. Что ни день, в нем умирает какой-нибудь орган, и лишь язык все еще действует, дабы изъяснить вам все постигшие его владельца муки. Как видите, зрелище это весьма грустно: пока я говорил, он, быть может, уже лишился носа или подбородка. Один из его друзей уверял меня, что, глядя на его скрюченные, прижатые к бокам руки, он нашел в этом теле сходство с виселицей, на которой Дьявол повесил грешную душу, и убедился, что Небо, созерцая сей мерзкий полутруп, решило наказать его за преступления, коих он еще не совершил, и выбросить его душу на свалку…». Подобные пасквили всегда нравятся публике.
Справедливости ради стоит заметить, что Поль Скаррон отважно, с поистине царственным презрением относился ко всей этой брани и ее авторам. Однако, их клевета отнюдь не привлекала к нам, на улицу Нев-Сен-Луи, модное общество. Для начала пришлось довольствоваться компанией пьяниц и дебоширов, низкопробных писак и развратных священников, которые десять лет назад веселились вместе со Скарроном на улице Тиксерандри, а затем, уже в сильно потрепанном виде, наведывались в желтую гостиную особняка де Труа.
Париж уже совершенно оправился от несчастий гражданской войны. Снова тут было всего в избытке – и еды, и вина, и продажных девиц. Жизнь вошла в прежнюю мирную колею, все вкусы почитались вполне законными. Если верить словам одного из моих тогдашних друзей, «милая оплошность не звалась преступлением, скрытые пороки рассматривались как услады». Так вот, услад, во всем их разнообразии, в кружке Скаррона было предостаточно.
Маленький аббат Буаробер, чьи остроты и нравы славились куда более, чем сочинения, воплощал в себе услады плоти, особливо, ежели эта плоть относилась к тому же полу, что его собственная. Он приходил на улицу Нев-Сен-Луи три-четыре раза в неделю, всегда в сопровождении одного-двух юных лакеев, услужавших ему во всем и служивших всем, чем угодно; сан его был подобен муке для шута. – он лишь делал его еще более смешным.
Толстяк Сент-Аман любил винные услады и величал себя «папою бутылочного братства», которое обыкновенно собиралось на улице Дорога Мулов, возле Королевской площади, в кабачке «Львиный ров». В этот «ров», что ни день, попадались честные христиане, коих молодые хищники терзали в свое удовольствие. Однако при этом Сент-Аман был вхож и в порядочные дома, чем был обязан своей покровительнице – польской королеве.
Александр д'Эльбен был привержен усладам чревоугодия, в коем мог заткнуть за пояс всех остальных: его жизнь проходила среди колбас, пулярок и жирных каплунов. Даже пост был ему не указ: именно в эти дни его одолевал зверский аппетит, который ничто не могло утолить; кроме того, он не считал нужным скрываться от святош, и это именно он в Страстную пятницу швырял из окна Нинон де Ланкло куриные кости, которые, попавши в голову некоего аббата, обрекли его нежную подругу на несколько лет заключения в тюрьме Маделоннет.
Жиль Менаж олицетворял собою услады бесед – таких, какие любят парижане, иначе говоря, сплетен, и злых сплетен. Сей педантичный писатель был, по его словам, великим ценителем трех вещей – «свежих яиц, ранета и дружбы». Что до яиц и яблок, об этом судить не берусь, но для дружбы у него был слишком уж острый язык, мешавший ему отзываться хорошо о ком угодно, кроме себя самого.
Эта галерея портретов была бы неполной, если не включить в нее Потель-Ромена и Ренси, приносивших себя в жертву усладам красоты и элегантности. Потель-Ромен был толстым черномазым поэтишкой с проваленным ртом и косыми глазами; ко времени нашего знакомства он только что расстался с париком и, не имея довольно своих волос на голове, «элегантно» дополнял их накладками, по одной справа и слева; при этом он весь топорщился красными, зелеными и синими бантами, а его кривые колени в куцых штанах терялись под пышными кружевными оборками такой ширины, что хватило бы украсить весь Круглый Стол. Что до Ренси, это был хлыщ из Финансового ведомства, благоухавший духами, сверкавший золотом и драгоценными камнями. Дорогой парчи и лент его наряда вполне достало бы на покров церковного алтаря. При этом сей безумец обожал разоблачаться и часто, накинув на плечи простыню, бродил, в чем мать родила, вокруг Королевской площади, пугая – или соблазняя – припозднившихся дам своими прелестями. Однажды он явился к нам в сопровождении Потель-Ромена и бедняги Пелиссона, злосчастного воздыхателя мадемуазель де Скюдери, обезображенного оспою; я объявила Скаррону, что к нему пожаловали «три грации». С тех пор в Марэ их только так и называли.
Я рассказываю об этих персонажах лишь затем, что подобные личности были в большой моде в те времена, но не взыщите за насмешки, – они уравниваются жалостью, на которую я способна и посейчас. А в восемнадцать лет я, опьяненная успехом моего остроумия, весьма напоминала ту бойкую Селимену, что Мольер вывел в своей пьесе.
Итак, чтобы обеспечить господину Скаррону общество, пришлось начинать с этих господ – Буаробера, Ренси, Сент-Амана, Потеля и нескольких других, еще менее известных и еще более отпетых. Я управлялась с ними не так уж плохо. Разумеется, мне не всегда было приятно глядеть, как наши обеды превращаются в попойки, как гости кривляются и вопят, натягивая на головы салфетки и барабаня ножами по тарелкам. Меня возмущало также их богохульство, и в постные дни я упрямо ела селедку на своем краешке стола, тогда как хозяин дома и его приятели дерзко объедались скоромным. Но, если не считать вышеперечисленного, мне тоже нередко бывало весело. Господин Скаррон месяцами принуждал меня читать, и это принесло свои плоды: общество понемногу начинало ценить мои высказывания.
Кроме того, оно благотворно действовало на мой характер; одиночество повергало меня в грусть и досаду, зато среди людей я становилась жизнерадостной и словоохотливой. Вечерами, наедине с собою, я часто плакала; соленые остроты моего супруга, горькие воспоминания отнюдь не счастливого детства, печаль одинокого сердца и смутная жажда чего-то иного – все способствовало моей меланхолии, и я нередко засыпала в слезах. Однако, едва у наших дверей мелькали первые шляпы, стучали по паркету сапоги и туфли, а кресла в желтой гостиной Скаррона исчезали под плащами и кружевными юбками, как я тут же обретала живость, кокетство, уверенность в себе, и полуденный смех приходил ко мне столь же легко, как вечерние слезы. Вскоре все узнали, что, несмотря на разгром фрондеров, у Скаррона по-прежнему смеются. Начали поговаривать также о том, что маленькая девочка, которую сей повеса взял в жены, выросла и соперничает остроумием со своим супругом, при том, что на взгляд она куда приятнее.
В Париже тогда осталось не так уж много салонов, где можно было блеснуть остроумием. Вот почему скука и любопытство привели к Скаррону тех, кого разлучила с ним гражданская война; сперва мы увидали у себя родню – герцога д'Омона, кузена моего мужа, и герцога де Трема – его «незаконного шурина»; оба были рады-радешеньки возможности развлечься, объясняя в Лувре свои визиты обязанностью помогать больному; вновь появились у нас Сент-Эвремон, Тристан Отшельник, Жорж де Скюдери, адвокат Нюбле и газетчик Лоре. Тем не менее, самые знатные придворные и самые известные богачи все еще воздерживались от посещений. А в Париже, если вам не удалось собрать вокруг себя знаменитых вельмож, судейских и писателей, значит, вы держите «контору острословия», но отнюдь не салон.
Как ни странно, именно той преданной и одновременно смешной любви, которую питал ко мне старый шевалье де Мере, Скаррон стал обязан возвращением славы своего дома, в несколько месяцев достигшей апофеоза.
Мере подружился с одним молодым фрондером, графом де Мата, которого Король сослал в деревню, но соседству с имением шевалье. Мата кое-что унаследовал от вкусов и остроумия своего двоюродного деда, графа де Брантома [22]22
Брантом Пьер де Бурден, аббат и сеньор де (1538–1614) – французский писатель, в частности, автор книга «Галантные дамы», где весьма откровенно описаны вольные нравы придворных кавалеров и дам его времени.
[Закрыть]и, подобно ему, охотнее посещал альковы и салоны, нежели поля сражений. Мере посулил Мата вино, песни, беседу с красивой и веселой «индианкою» и завлек его на улицу Нев-Сен-Луи тем более легко, что графу, ненавидимому кардиналом и презираемому Королем, все равно нечего было терять.
Ему понравилось у Скаррона и в следующий раз он привел с собою шевалье де Грамона, с которым был неразлучен, – они даже нанимали общую квартиру. Хотя оба происходили из весьма знатных семей, но за душой у них не было ни гроша, и они пробавлялись где и чем придется. Грамон, искуснейший картежник, находил средства к существованию, играя в доме своего родственника, графа де Миоссенса, маршала-герцога д'Альбре, чей великолепный новенький особняк возвышался в самом сердце Марэ, на углу улиц Фран-Буржуа и Паве. Видясь с маршалом каждый день, он, натурально, рассказал ему о забавных выходках Скаррона и приятнейшем обществе в гостиной поэта, в двух шагах от его собственного дома. Миоссенс любил остроумие, любил женщин и в равной степени ненавидел «жеманников» [23]23
Жеманники – в XVII веке представители высшего общества, любители вычурного разговорного и литературного стиля, отличающегося условностью чувств и игрой слов. Высмеяны Мольером в комедии «Смешные жеманницы».
[Закрыть]и святош; он решил, что эта компания придется ему по вкусу. И в один прекрасный день к нашему дому подъехала роскошная карета, из которой вышел Сезар д'Альбре, граф де Миоссенс и маршал Франции, еще более роскошный, чем его экипаж. С этого момента салон Скаррона опять вошел в моду.
Сезар д'Альбре был обязан маршальским жезлом своей верности молодому Королю, коего весьма отважно защищал во времена Фронды; в самый разгар мятежа этот гасконский кадетишка [24]24
Кадетами в то время звали молодых дворян на военной службе в солдатских чинах до производства их в офицеры.
[Закрыть], простой капитан жандармов, имел смелость арестовать, по королевскому приказу, самого Конде вместе с другими восставшими принцами и сопроводить их в тюремную башню Венсенского замка. Ни угрозы, ни посулы, коими по пути туда Конде засыпал бедного дворянина, не оказали на этого последнего никакого воздействия; он стойко выполнил свой долг в момент, когда само Государство было на краю гибели. Молодой Король не страдал пороком неблагодарности и выразил свою признательность поступку, сохранившему для него трон, – он дал Миоссенсу состояние. Красивая внешность и широкая натура новоиспеченного маршала довершили дело: на его пути не встречалось ни жестоких женщин, ни врагов. Для всякого, кто увидел Сезара д'Альбре на улице Нев-Сен-Луи, стало ясно, что время немилости для Скаррона окончено, что можно одновременно и бывать у него и ездить ко Двору.
В результате салон наш был полон с утра до вечера, так что приходилось иногда отказывать принцам, герцогам и высшим офицерам; при Дворе и в городе все страстно желали попасть в наш маленький избранный кружок; придворные только и мечтали, как бы пообедать в желтой гостиной. Теперь у нас была одна забота – избавляться от назойливых выскочек и прежнего сброда, постепенно заменяя их такими людьми как Виллар, Аркур, де Гиш и Манчини. Соседи, разинув рты, глядели на блестящие выезды, стоявшие у нашей жалкой двери; по узкой лестнице друг за другом поднимались Фуке, живой, легкий, проворный, как белка на его гербе, церемонные Бенсерад и Молье, медлительный, обремененный годами и славою Тюренн, Вивонн с полными руками припасов, Миньяр с очередным портретом.
Мне приходилось постоянно быть начеку, следить, чтобы служанки были расторопны, тому поднесли вина, этому придвинули стул; я научилась во время прерывать улыбкой слишком острую политическую сатиру, а взглядом – слишком грубое богохульство, мягко примирять пошлые мысли с глубокими, солдатские прибаутки с тонкими парадоксами, искусство с философией, дабы каждый гость, согласно своему нраву, получал удовольствие от посещений нашего дома. Кто бы мог подумать, что бедная пуатевинская сирота, вчерашняя ревностная гугенотка, станет королевою этого блестящего и пестрого вольнодумного общества! И, однако, я прекрасно справлялась с этой ролью. Моя молодость и свежесть, невинный вид, веселость, меткие остроумные реплики, предупредительность ко всем, от принцев до их лакеев, снискали мне всеобщее восхищение. Но мое внимание особенно привлекал один из поклонников, тот, кому Скаррон был обязан успехом своего салона, – Сезар д'Альбре, Как странно думать, что без Мере я никогда не увидела бы д'Альбре, а без д'Альбре никогда не узнала бы Короля! Вот так нить моей судьбы соединила всех, кто любил меня – от воздыхателя четырнадцатилетней девочки до последнего, царственного возлюбленного. И в этой цепи д'Альбре был весьма важным звеном. Он происходил из небогатой, но очень знатной семьи. Отличившись доблестью и в гражданской смуте и в заграничных военных кампаниях, он в любом бою неизменно проявлял свою гасконскую доблесть, а его слава любовника, ко времени нашего знакомства, даже затмевала ратную. Тому, кто привык легко побеждать, хочется атаковать снова и снова; д'Альбре непрестанно искал галантных приключений. Этот «Миоссенс-гроза-мужей, Миоссенс-в-любви-всех-нежней», был первым мужчиной, на которого я взглянула с любовью.
Когда он появился на улице Нев-Сен-Луи, я, по совету Скаррона, окружила его особенным вниманием: мой супруг знал, что от протекции маршала зависит судьба его салона. Я старалась ему понравиться; в результате он понравился мне, и сердце мое попало в плен, когда я менее всего ожидала этого.
Разумеется, вначале меня прельстила его внешность и очаровало невиданное мною доселе благородство манер. Всем своим обликом он столь же выгодно отличался от других мужчин, сколько сестра Селеста превосходила красотою всех женщин. Но, в отличие от моей милой ниорской подруги, маршал изъяснялся на редкость коряво, хотя и был весьма неглуп; покидая родной Беарн неловким и робким юношей, он не избавился от своей стеснительности даже в апофеозе славы: стоило ему оказаться в обществе, как его одолевало косноязычие, мешавшее свободной беседе. Случалось, он просто не слышал, что говорит, и нес совершенную галиматью. Рассказывали, что однажды, когда в отеле Рамбуйе [25]25
Отель Рамбуйе – особняк маркизы де Рамбуйе, где она с 1620 по 1655 годы держала литературный салон для «жеманников» (см. выше).
[Закрыть]собралось много гостей, маршал целую четверть часа ораторствовал в своей обычной манере, пока его не прервал поэт Вуатюр: «Месье, черт меня подери, если я понял хоть слово из всего, что вы тут наговорили. Неужто вы всегда изъясняетесь именно так?!» Миоссенс, у которого хватало ума признавать свои слабости и который от природы был вполне добродушен, мирно возразил: «Господин Вуатюр, будьте же снисходительны к своим друзьям!» – «О господи! – воскликнул Вуатюр, неизменно дерзкий с вельможами. – Я так долго был к вам снисходителен, что меня уже тошнит!» Тогда мне казалось, что столь очевидный и важный недостаток – надежная преграда любви. Я еще не знала, что любят именно за несовершенства, которые вовлекают вас в это роковое чувство так же неизбежно, как камень на шее тянет человека в воду.
Вначале я садилась подле д'Альбре из чувства долга и была горда, если мне удавалось вытянуть из него хоть три фразы. Мне не терпелось бросить его, чтобы посмеяться с Ренси или пофилософствовать с Сегре. Однако, будучи учтивой хозяйкою, я строила маршалу умильные гримасы и силилась найти интересные для него темы; одновременно я следила, чтобы ему не было ни холодно, ни жарко, чтобы его не обнесли едою и питьем, предупреждала малейшее проявление недовольства или нетерпения, в душе проклиная моего докучливого гостя и не чая сбежать от него к моим веселым друзьям. Но однажды, когда маршал, в свой четвертый или пятый визит, сыграл в карты с Мата и шевалье де Мере и удалился, обещав придти снова к концу недели, я поймала себя на желании увидеть его поскорее и принялась доискиваться причин; сперва я решила, что он человек умный и компанейский, затем спросила себя, на чем основывается сей вывод и вспомнила, что за весь день только и слышала от него: «Tomo… tres matadores… uno escoba… paso…» [26]26
Tomo… tres matadores… uno escoba… paso… (исп.) – беру (взятку), три матадора, метла, пас – термины старинной испанской карточной игры «омбра».
[Закрыть]. Это открытие поразило меня: я еще никогда не испытывала любви, но сия нежданная, ничем не объяснимая склонность выглядела грозным ее предвестием.
Я поспешила оправдать свое нетерпение желанием вновь увидеть его, дабы холодно и беспристрастно рассудить, обладает ли он нужными достоинствами или же их нет вовсе. И с этой проверкою нельзя было медлить. Ах, как я была молода – не столько годами, сколько отсутствием опыта!
Миоссенс появился три дня спустя; я решилась встретить его ледяным взором неподкупного судьи, и тут случилось то, что любая более опытная женщина сразу предсказала бы мне, – я обнаружила в нем бездну ума, начитанности, чувства, веселости и даже (в таких случаях видишь все, что хочется увидеть!) чуточку благочестия; последнее совершенно успокоило меня в отношении его намерений. Только простушка могла приписать маршалу сию добродетель: он всегда вел себя, как записной безбожник. И, наконец, мысли его показались мне острыми и глубокими, речи – искренними и благородно простыми, а любовь к войне и всему, с нею связанному, убедила меня, что его ратные доблести не уступают гражданским. Уверившись таким образом в достоинствах маршала, я сказала себе, что новое удовольствие, которое доставляет мне его общество, зиждется только на уважении к нему и никоим образом – как я боялась ранее, – не похоже на сердечную склонность.
Заручившись этим прекрасным доводом, я отказалась от борьбы и на несколько пядей глубже погрузилась в пучину страсти. Не знаю, впрямь ли неисповедимы пути Господни, но Дьявол весьма искусно скрывает свои дороги от взоров грешника… Прошло несколько месяцев прежде, чем мне открылась собственная опрометчивость и истинная суть овладевших мною чувств, но было уже слишком поздно, чтобы думать о сопротивлении. И тогда я поняла, что единственный выход – скрыть то, что я испытывала.
Не думаю, что мне это удалось; несомненно, маршал д'Альбре, столь опытный в любовных делах, заметил и понял раньше и лучше меня самой мои нежные чувства. Поначалу он притворялся, будто ничего не видит, ограничиваясь тем, что предпочитал мое общество всякому другому и делал сдержанные комплименты моим туалетам.
Мере и Скаррон сформировали мой ум, но рядом со мною не было опытной женщины, которая могла бы преподать мне искусство наряжаться, и я одевалась, как бог на душу положит, – ведь мне приходилось жить в окружении одних мужчин. Миоссенс, проводивший свои дни среди светских дам, знал гораздо лучше меня все каноны моды, предписывающие длину юбки, цвет лент, выбор духов; желая помочь мне при покупках, он отрядил со мною Ренси, – тот истово заботился о своей внешности и, как записная кокетка, знал все модные лавки Парижа и Сен-Жермена. Я не осмелилась перечить маршалу и послушно следовала его советам.
Прикрыв лицо черной бархатной маскою, как было принято в те времена, чтобы предохранить кожу от загара и не быть узнанною, я в сопровождении Ренси наведалась к Гийери, на улицу Таблеттери, чтобы купить настоящую «Кордобскую воду» и духи из Ниццы; в «Золотое Руно» – за миндальным тестом для рук; в «Великий Монарх» на улице Дофины, где приобрела беличью муфту; за этим последовали кружева от Пердрижона, атлас от Готье, испанские перчатки; я побывала у Шампаня, у Рено, в «Прелестных мушках», в «Золотой Туфельке», конвоируемая все тем же Ренси, который шествовал за мною по пятам, широко расставляя ноги в пышных кружевных оборках ниже колен, спадавших на крошечные башмачки, и весьма похожий на мохноногого голубя. По прошествии нескольких недель меня настолько захватила лихорадка кокетства, что с тех пор я всегда снисходительно отношусь к безумствам, на которые идут любительницы нарядов, и девочки и молодые женщины. У разумной особы это увлечение длится недолго, но чтобы с ним покончить, надобно сперва насладиться им сполна. Если вдуматься, сия философия приложима и ко всем другим человеческим страстям.