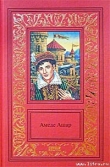Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Я прониклась отвращением к нему с первой же минуты и решила покончить с этим человеком, пока он сам не покончил со мною. Нужно было действовать без промедления, ибо внезапная кончина господина Кольбера и последующий разгром его семейства в несколько месяцев вознесли господина де Лувуа на небывалую высоту. Летелье, его друзья и приспешники захватили буквально все – Военное министерство, Финансы, Полицию, Почту, управление делами протестантов, даже сюринтендантство Строительства, которое Король отнял у сына Кольбера, господина де Бланвиля, отдав его тому же Лувуа. Семейство Кольберов удержало в своих руках лишь Министерство Морского флота, которое возглавлял господин де Сеньеле, второй сын «Севера», и Государственный секретариат иностранных дел, коим управлял Кольбер де Круасси, его дядя. Но все были уверены, что Король отдаст и эти ведомства, как и все остальное, господину де Лувуа.
Я решила ограничить возрастающее влияние этого опасного, рвущегося к власти человека, незаметно способствуя возвышению клана Кольберов, попавших в опалу.
Я с большим уважением относилась к господину де Круасси, хорошо знала господина де Сеньеле и теперь попыталась сблизиться с его сестрами, одна из которых была замужем за герцогом де Шеврезом, а вторая за герцогом де Бовилье; мне это удалось тем легче, что обеих дам отличали здравый смысл, прямота нрава и набожность; вскоре мы тесно подружились.
Добившись этого, я начала понемногу продвигать вперед мои фигуры, ловко используя каждый промах нашего врага и возвеличивая заслуги друзей. От случая к случаю я как бы вскользь, невзначай обращала внимание Короля на то, что уверенность, отличавшая все поступки и речи маркиза де Лувуа, отнюдь не спасает его от ошибок; Король был поражен примерами, что я привела ему, стал внимательнее следить за своим министром и вскоре сам убедился, что тот часто с решительным и высокомерным видом говорит вещи, которые ничем не подтверждаются на деле; через некоторое время он получил наглядное тому доказательство.
Отправившись в Трианон проверить, как идут работы, в сопровождении своего министра, на сей раз в качестве сюринтенданта Строительства, Король заметил, что одно из окон находится чуть ниже других; у него был острый глаз и он редко ошибался на сей счет. Однако господин де Лувуа, не желавший, чтобы его обвинили в небрежном надзоре за работами, решительно настаивал на том, что все окна расположены на одном уровне; он надеялся, что Король удовлетворится этим утверждением и, как всегда, поверит ему, но монарх, которого я давно убеждала в наглости его министра, не успокоился. Он велел позвать господина Ленотра и, скрыв от него суть спора, попросил промерить окна в его присутствии – и оказался прав. Он пристально взглянул на господина де Лувуа и невозмутимо приказал разобрать стену; случай этот навел его на серьезные подозрения, коим я старалась постоянно давать новую пищу.
При каждом удобном случае я сравнивала беспардонную наглость Лувуа со спокойным, миролюбивым нравом господина де Сеньеле, сдержанностью и компетентностью господина де Круасси, выставляла в выгодном свете благотворительные дела герцога де Шевреза и скромность герцога де Бовилье. Король уже привык встречать в моей комнате обеих герцогинь, их жен; сюда же я время от времени приглашала госпожу де Сеньеле, молодую, красивую, привлекательную даму, к которой монарх питал некоторую склонность. Кроме того, желая не упустить случая поднять акции господина де Сеньеле, я посоветовала ему устроить для Короля и всех придворных роскошный прием в Со, где у него был загородный дом. 30 июня 1685 года господин де Лувуа дал подобный праздник для Короля в живописном местечке под названием Медон, однако то ли он не озаботился подготовкою, то ли пожалел денег, но праздник вышел весьма посредственный, а начавшийся дождь вконец испортил впечатление.
Я убедила маркиза де Сеньеле не жалеть сил и средств, лишь бы затмить своего соперника, и 16 июля того же года он предложил Королю такое пышное празднество, какого при Дворе еще не видывали. Тут в изобилии имелось все, что могло усладить чувства и вкусы гостей: изысканные блюда и напитки, редкостные или несезонные фрукты, прекрасные концерты и коротенькая, но очаровательная опера, нарочно сочиненная на сей случай господином Люлли, искусно устроенный, великолепный фейерверк в парке, гротах и по берегам каналов, где плавали лодки и небольшой корабль; одним словом, изобретательный и щедрый хозяин предложил нам в тот день сказочное по красоте и необычности развлечение. Король объявил, что весьма доволен, и что господин де Сеньеле угодил ему во всем, вплоть до мелочей.
Господин де Лувуа сам способствовал своему падению. Недаром говорится, что боги ослепляют того, кого хотят погубить: министр продолжал вести себя по-прежнему, не догадываясь о возраставшем недоверии Короля, и наглость его стала прямо-таки непереносима монарху. Однажды, будучи в армии, он осмелился передислоцировать конных гвардейцев, расставленных самим Королем. «Да сказали ли вы господину де Лувуа, что это я разместил вас тут?» – спросил Король у их капитана. «Да, Сир, говорил», – отвечал тот. «Прекрасно! – заметил уязвленный Король, обернувшись к своей свите. – Я вижу, господин де Лувуа почитает себя великим полководцем, с коим никто не сравнится!» Он долго не мог простить министру это оскорбление, я же старалась время от времени напоминать о нем монарху.
Но министр пошел еще дальше. Толкнув Короля своими пагубными советами на Пфальцскую войну, в то время, как я, вместе с Кольбером де Круасси, тщетно уговаривала его сохранить мир и не нарушать заключенный договор, он столь безжалостно разорил этот край, что вопли несчастных жертв скоро огласили всю Европу. Король не любил напрасной жестокости; он боялся ненависти народа, которая висела над ним дамокловым мечом и грозила тяжкими последствиями. Я не упустила случая живописать ему все ужасы пожаров в Пфальце и внушить чувство вины за содеянное, говоря с воодушевлением, рожденным как моею любовью к ближним, так и ненавистью к министру.
Однако господин де Лувуа, не подозревая о возросшей немилости монарха, решил добавить к нещадному разорению Пфальца еще и поджог Трира [78]78
Трир – город в земле Рейн-Вестфалия, на реке Мозель.
[Закрыть]. Но на сей раз Король не поддался его уговорам и твердо приказал оставить город в покое.
Спустя несколько дней Лувуа, по-прежнему уверенный в том, что добьется желаемого своей настойчивостью, явился, как обычно, в мою комнату работать с Королем. В конце их встречи он спокойно заявил Королю, что сжечь Трир тому помешало одно лишь милосердие, и что он решил оказать своему повелителю бесценную услугу, взяв этот грех на себя, а потому, не посвятив монарха в курс дела, отправил в войска депеши с приказом спалить город к его прибытию. Король, против своего обыкновения, впал в такую ярость, что ринулся к камину, схватил щипцы и уже собрался было размозжить Лувуа голову; я бросилась между ними и, воскликнув: «Сир, что вы делаете! Вспомните, что вы Король!», отняла у него щипцы. Лувуа тем временем бросился к дверям. Король, грозно сверкая глазами, крикнул ему вслед: «Немедля отменить приказ, и дай вам Бог успеть. Вы ответите головой, если в Трире сгорит хоть один дом!» Лувуа, полумертвый от страха, ретировался, но, как мы узнали позже, вовсе не для того, чтобы отменить приказ, который и не думал отсылать: как оказалось, он вручил депеши курьеру, которому велел дожидаться в передней, прямо в верховых сапогах – на тот случай, если Король всего лишь слегка посердится, а тогда уж везти их в армию. Так что он просто забрал депеши назад и велел курьеру снимать сапоги; после этого необычного происшествия у меня появились важные козыри против министра; утратив доверие Короля, он теперь был полностью в моей власти.
Я могла бы погубить его, но не сделала этого: при всем моем уважении к Кольберам, мне не хотелось безраздельно отдавать королевство им в руки. Я считала разумным, и для моего спокойствия и для государства, сохранять равновесие между министрами, с тем, чтобы их амбиции, сталкиваясь, взаимно уничтожались.
Кроме того, Лувуа был не вовсе бесполезен государю, – он отличался большим трудолюбием. Словом, мне было достаточно того, что Король, сильно поохладев к нему, назначил первым министром господина де Сеньеле, а председателем Финансового совета – герцога де Бовилье, и начал прислушиваться к советам господина де Круасси и герцога де Шевреза. Вот теперь-то я и смогла играть ими всеми, словно пешками, продвигая то вперед, то назад.
Что же до отца Лашеза, тут дело обстояло сложнее. Правда, он не столь уж сильно мешал мне, но я терпеть не могла этого посредственного, ограниченного, холодного человека, воплощение придворного иезуита; мягкий, вкрадчивый, коварный, он весьма снисходительно относился ко всем прегрешениям Короля, лишь бы заставить его служить интересам Ордена [79]79
Имеется в виду орден иезуитов.
[Закрыть]. Он имел громадное влияние на своего царственного подопечного, которое объяснялось не столько его заслугами исповедника, сколько прекрасным знанием старины. Король любил редкости, собирал их по всей Европе и выставлял на всеобщий обзор в нарочно устроенных для того кабинетах; отец Лашез хорошо разбирался в медалях, помогал Королю советами и часто сам доставлял ему весьма ценные экземпляры.
Посему я и решила не ссориться с ним: нуждаясь в поддержке, дабы не утратить своего положения, я делала вид, будто ищу ее у Церкви, которая ставила мне в заслугу то, что я положила конец любовным похождениям Короля; мне хотелось рассчитывать на помощь всех священнослужителей, а не замыкаться в пределах какой-нибудь одной религиозной секты или партии, что могло насторожить Короля. При нынешнем состоянии умов атаковать в лоб отца Лашеза значило угодить в ряды «янсенистов» [80]80
Янсенизм – религиозно-философское течение в католицизме, начало которому положил в XVII в. голландский богослов Янсений. Это течение восприняло некоторые черты кальвинизма. Янсенисты резко выступали против иезуитов и осуждались папством.
[Закрыть], иными словами, окончательно погубить себя в глазах Короля, ибо для него всякий янсенист был заведомо государственным заговорщиком и врагом Церкви.
Итак, я пошла окольными путями, стараясь, елико возможно, продвигать на важные посты достойных священников и людей, которые в глубине души не любили иезуитов. В этих целях я сблизилась с господином де Мо, – он нравился мне, помимо всего прочего, как человек достойный, острого и пылкого ума и замечательного красноречия. По той же причине я старалась заручиться дружбою архиепископа Реймского, хотя он и был братом господина де Лувуа; позже я завязала отношения с монахами из Иностранных Миссий; повсюду, особенно, в Сен-Сире, я давала работу лазаристам и сульпицианцам [81]81
Лазаристы – последователи франц. священника (святого) Венсана де Поля (1576–1660), посвятившего себя благотворительной деятельности. Сульпицианцы – последователи святого Сульпиция Севера, епископа Буржского (VI в. н. э.).
[Закрыть], привлекавшим меня простотою и непритязательностью поведения; не имея ничего и будучи всем обязанными мне, они становились моими верными приспешниками.
Я надеялась, что эти незаметные попытки устранить господ-иезуитов не привлекут ничьего внимания, но отец Лашез в конце концов забил тревогу и обратил на мои действия внимание Короля, который в един прекрасный вечер объявил за ужином: «Сударыня, вы огорчаете меня вашей неприязнью к иезуитам!» Я заверила монарха, что люблю их наравне со всеми остальными, но не сумела обмануть его; малое время спустя он прислал ко мне отца Бурдалу, который от имени Ордена упрекнул меня в предубеждении к иезуитам; на это я отвечала только, что готова любым способом доказать обратное.
Тем временем я продолжала незаметно вести подкоп под отца Лашеза, но мне так и не удалось совершенно устранить его. Внешне мы держались вполне дружелюбно, и я благоразумно ограничилась этим перемирием.
Не думайте, однако, что мне были приятны все эти интриги, даже когда они увенчивались счастливым концом. Они развлекали меня среди скуки монотонной придворной жизни, но вкуса я в них не находила.
Я уподоблялась тому суденышку – «Изабель», – на котором некогда плыла к Антильским островам: ему приходилось первым палить из пушек по встречным кораблям, чтобы не быть потопленным самому; единственным моим извинением в этой тайной войне были интересы государства: мне хотелось, чтобы Короля окружали способные и добропорядочные помощники, а не бесстыдные мошенники.
В этих неустанных хлопотах прошло семь или восемь лет, и я бесконечно устала от дворцовых интриг и заговоров. Похоже, все удовольствия рано или поздно теряют свою остроту, а тем более, радости политики; кроме того, я старела.
Придворные уверяли меня, что я вовсе не меняюсь; вероятно, я и впрямь казалась моложе благодаря тонкой талии, блеску глаз, живому нраву и веселой непринужденности манер, не слишком отвечавшей внутренней сдержанности и серьезности. И все-таки лучше я не становилась; зоркий наблюдатель, не видевший меня в оживленной беседе или бурной деятельности, мог бы различить – как различала я сама, сидя перед зеркалом наедине с собою, – морщины вокруг губ и в уголках глаз, намечавшийся второй подбородок, портивший мне овал лица, поблекшую кожу. Каждый день, сидя за туалетом, я оценивала размеры потерь и все больше времени тратила на то, чтобы скрыть следы разрушений, нанесенных возрастом. Всему свое время, говорится в Евангелии, – «время сеять и время собирать урожай», время завоевывать и время сохранять завоеванное. В годы побед я еще была в отличной форме. Теперь же, когда настало время сохранять, мне вполне достаточно было иметь крепкое здоровье, пару больших красивых глаз и малую толику ловкости. Король, невзирая на почтенный возраст, не утрачивал любви ко мне, и любовь эта была не только духовной, что и обнаружил, к великому своему изумлению, один дворянин, уроженец Сентонжа, из числа моих друзей.
Случилось это в Фонтенбло, как-то вечером, часов около шести. Мне доложили, что некий Сен-Лежье де Буарон просит принять его. Я хорошо знала Сен-Лежье в молодости, ибо он состоял в родстве с одним из дядьев моей матери; поскольку до прихода Короля оставалось еще полчаса, я решила посвятить это время беседе со старым другом, хотя мы не виделись уже тридцать лет, и он, как я подозревала, явился из любопытства, прослышав, что я в фаворе. Итак, я велела впустить его, чтобы развлечься.
Он сохранил свою провинциальную внешность и грубовато-фамильярные повадки; при этом он всегда был очень себе на уме и неизменно весел, что никак не подобает гугеноту.
– Ну и ну, Франсуаза! – со смехом воскликнул он, входя в комнату, – я уж было подумал, что придется ждать в передней не меньше, чем поется «Miserere» [82]82
Miserere (лат.) – Сжалься! Католическое песнопение на слова покаянного 50-го псалма «Помилуя мя, Боже!» (Miserere me, (Domine!). Его исполнение длится довольно долго.
[Закрыть]!
– Ах, Сен-Лежье! – отвечала я с улыбкою. – Ваши манеры ничуть не изменились, оттого и я обращаюсь с вами по-прежнему.
Вместе с гостем в комнату ворвался едкий запах конюшни.
– И, как я вижу, – продолжала я, принюхиваясь, – вы до того храните верность себе прежнему, что и моетесь не чаще, чем раньше… Помните ли, как однажды, у Монталамбера, вы угодили в навозную кучу и, эдак благоухая, явились на ужин, где сели рядом со старухою Ла Тремуй? Как же она фыркала и как намекала, что, верно, под столом спрятана лошадь!
Мы со смехом напомнили друг другу еще несколько забавных историй былых времен. Затем я с извинениями объяснила, что жду Короля, села за туалет и велела горничной сделать мне прическу. Гость уселся верхом на складной стульчик и начал пристально разглядывать меня.
– Ну, что же? – спросила я.
– А то, что я вами восхищен, милая дамочка! В пятьдесят лет у вас нет ни одного седого волоса!
– Фи, Сен-Лежье, ну что за манеры! С каких это пор о возрасте дам говорят вслух!
Я слегка нарумянилась, сбрызнула себя туалетной водою, натерла руки миндальным тестом и сунула под юбки несколько саше с майораном.
Сен-Лежье смотрел на все это, вытаращив глаза.
– Ну, что еще? – опять спросила я.
– А то, милая дамочка, что доселе я, как и все другие, полагал, что Короля привлекает только ваш ум…
– А теперь:
– Теперь… теперь… Я вот гляжу, как вы себя обихаживаете, и чую, что тут кроется кое-что более вещественное, так-то.
Я с улыбкою взглянула прямо ему в глаза и лишь негромко промолвила: «Сен-Лежье, можно ли удержать при себе мужчину одним умом?» Бедный сентонжец так и замер от удивления. Я воспользовалась этим, чтобы поскорее сменить тему и, вовремя вспомнив, что он гугенот, притом из «отъявленных», как говорят у нас в Пуату, принялась в самых пламенных выражениях убеждать его сменить веру. Правда, он вышел от меня тем же еретиком, что и вошел, зато это его «вещественное» надолго запомнилось мне.
Не знаю, из любви к «вещественному» или к «умственному», но Король все крепче привязывался ко мне, – разумеется, на свой лад, требовательно и эгоистично; однако теперь я была уверена, что не потеряю его.
Когда он страдал от фистулы в заднем проходе, которая в течение десяти месяцев причиняла ему невыносимые боли, он требовал, чтобы я постоянно находилась рядом; только я одна, не считая господина де Лувуа и врачей, присутствовала на главной операции, которую ему сделали 18 ноября 1686 года. Я стояла в ногах кровати; Король сжимал руку господина де Лувуа и глядел на меня; за всю операцию у него лишь раз вырвался крик: «Боже мой!», а дальше он без единого звука перенес два надреза скальпелем и шесть – ножницами; после этого он пролежал три недели в ужасных мучениях. Я покидала его лишь затем, чтобы помолиться Богу, дабы Он сохранил мне супруга, и ухаживала за ним по 8–9 часов кряду, не отходя ни на шаг; Король кусал губы от боли, по лицу его струился пот, но за все это время он ни разу не застонал и каждый вечер героически принимал у себя в спальне весь Двор.
– Мадам, – сказал он мне как-то, в ответ на мой упрек, здоровье короля есть дело политическое; он должен вести себя так, чтобы у подданных и мысли не явилось о его смерти. Но уверяю вас, что будь я обычным человеком, я бы охотно скрылся ото всех, чтобы страдать в уединении, рядом с вами.
Словом, будучи больным, Король не щадил себя точно так же, как не щадил и меня, когда я занемогала; нужно отдать ему должное – он обращался с теми, кого любил, не хуже, чем с самим собою.
Выздоровев, он совершил два или три поступка, которые подчеркнули в глазах всего света значительность моего положения. Во-первых, он превратил имение Ментенон в маркизат и потребовал, чтобы отныне меня величали только маркизою де Ментенон; признаюсь, сия милость оставила меня вполне равнодушною, чего нельзя сказать о второй: он повелел мне слушать мессу в одном из маленьких позолоченных приделов часовни, где молилась только покойная Королева, и «Мое Степенство» имело слабость с восторгом принять это новое свидетельство моего возвышения.
Еще более, чем постоянство привязанности Короля, меня удивляла его верность. Правда, спустя некоторое время после нашей свадьбы он как будто увлекся мадемуазель де Лаваль, фрейлиною дофины. Мне со всех сторон доносили, что девица ему чрезвычайно нравится и что она осчастливила Короля всем, что может дать красивая женщина; я так и не узнала, верно ли это и далеко ли зашли их отношения, однако вскоре Король отнесся ко мне с просьбою спешно выдать мадемуазель де Лаваль замуж. Я прекрасно обошлась бы без столь почетного поручения, но, будучи сговорчивой супругою, все же выполнила его, при первом же удобном случае предложив девицу господину де Роклору, который сватался к моей племяннице де Виллет; Роклор, крайне удивленный, не удержался от вопроса:
– Могу ли я жениться на женщине, о которой ходит столько сплетен, мадам? Кто мне докажет, что они не имеют под собою оснований?
– Я, – был мой ответ, – ибо мне лучше, чем другим, известны все обстоятельства того дела…
Он поверил; Король дал девице приданое, вскоре состоялась свадьба, и новобрачный увез молодую жену к себе в имение. После чего мне сообщили, что у ней родилась дочь – всего через шесть или семь месяцев после венчания, и что отец, узнав о ее рождении, воскликнул: «Добро пожаловать, мадемуазель, хотя я не ждал вас так рано!» Не знаю, все ли правда в этом анекдоте, ибо Роклор любил сострить, пусть даже себе в ущерб; как бы то ни было, Король никогда более не заговаривал со мною о мадемуазель де Лаваль, а я ничего у него не спрашивала.
С госпожою де Монтеспан дела обстояли куда яснее. Она сама призналась мне однажды, что со времени смерти мадемуазель де Фонтанж Король ни разу не прикоснулся к ней; он продолжал наносить ей короткие ежедневные визиты, но не желал, чтобы они истолковывались двусмысленно, а потому в 1684 году отнял у нее апартаменты, которые она занимала рядом с ним, во втором этаже Версальского дворца, и перевел в так называемую Банную квартиру, расположенную всего лишь на первом этаже; более того, он простер свою осторожность до того, что велел сломать лестницу и замуровать проход, соединявшие эти два помещения; по сему случаю маршал де Фейяд заметил госпоже де Монтеспан: «Вас заставили съехать с квартиры, мадам, но, по крайней мере, не без шума и грохота».
Прекрасная маркиза была неутешна; она никак не могла приспособиться к новому положению вещей и тщетно пыталась вернуть себе любовь Короля, которую потеряла навсегда; ей пришло в голову, что можно достигнуть этого, подражая мне и участвуя во всех благотворительных собраниях и процессиях; увы, она никого не смогла убедить в своей искренности, – куда легче ей давались увеселения.
Еще в начале нашего брака я, видя, что Короля огорчает замкнутый нрав дофины, затеяла в Версале целую череду развлечений, побуждая монарха часто устраивать празднества, притом, всякий раз с новыми забавами и приятными сюрпризами – лотереями, киосками, где самые разнообразные ткани и украшения либо раздавались приглашенным дамам, либо разыгрывались по ценам, много ниже их настоящей стоимости; разницу оплачивал сам Король.
Итак, госпожа де Монтеспан принялась участвовать в этих затеях, и, обладая прирожденным вкусом и любовью к великолепию при подготовке таких увеселений, преуспела в них куда больше, чем в благотворительности и набожности. Так, в 1685 году она дала замечательный праздник у себя в Кланьи, где устроила четыре киоска в соответствии с временами года; она предложила мне поторговать, вместе с юным герцогом дю Меном, за «осенним» прилавком, сама же она встанет к «зимнему»; правду сказать, подбор киосков, ввиду ее и моего положения, был задуман весьма ловко, и я охотно согласилась. Не считая официальных приемов, мы с нею виделись время от времени в других местах и, как прежде, охотно болтали о том, о сем. Помнится, однажды за ужином я случайно оказалась рядом с нею. «Не смущайтесь, – сказала она, – будемте говорить так, словно меж нами никогда ничего не стояло; разумеется, мы не подружимся, но, по крайней мере, весело проведем время». И мы, в самом деле, провели весьма приятный вечер.
В остальном же она выражала свою горечь едкими намеками и злыми шутками. Так, она не могла перенести, что ей заказан доступ в карету Короля; однажды мы должны были отвезти ее в Марли, но свободное место оставалось лишь в третьей коляске; тогда маркиза побежала навстречу входившему Королю, сделала низкий реверанс и с умоляющим видом громко сказала: «Сир, прошу Ваше Величество оказать мне милость и позволить на будущее развлекать тех, кто едет во второй коляске или ожидает приема в передней!» В другой раз, явившись ко мне на собрание бедняков Версаля, куда богатые дамы ежемесячно приносили свою милостыню, она заметила в прихожей кюре, нескольких послушниц и ризничих и сказала мне с ледяной усмешкою: «Знаете ли вы, мадам, что ваша передняя прекрасно убрана и вполне готова для ваших похорон?»
Поскольку я всегда ценила остроумие (а меня нечасто баловали им в компании Маргариты де Моншеврейль, Нанон, Короля или дофина), эти шутки приходились мне по вкусу, и я первая пересказывала их всем, кому не лень было слушать. Признаюсь, я не отказалась бы взять госпожу де Монтеспан к себе в компаньонки. Разумеется, такая должность была не по ней, но на подмостках Двора другой роли ей уже не находилось, а она все не решалась их покинуть, уподобляясь привидениям, что постоянно блуждают в тех местах, где грешили при жизни.
Ее пример давал мне обильную пищу для размышлений об эфемерности величия; к тому же, немилость, не доведенная до крайности, еще хуже смерти.
Скажите мне, где теперь те мудрецы, те ученые, те богословы, коих вы знали, когда они были еще живы и славились своими познаниями? Другие заняли нынче их место… А те, прежние, казалось бы, столь знаменитые… – кто помнит о них, кто их чтит?»
– Ужели вы читаете «Подражание Иисусу Христу», сударыня? – спросил меня однажды маршал де Виллеруа. – Ведь она уж не в моде, ее все давно перечитали. До чего же скучны эти древние истории!..
Он взял с моего столика другую книгу и повертел ее в руках.
– О, тут у вас еще и «Толкование благочестивой жизни «Святого» Франциска Сальского! Прекрасный труд и прекрасный «Святой»! Я хорошо знал его в свое время, – он был другом моего отца. Так что могу доложить вам, сударыня, что он любил плутовать в карты и ругался не хуже других. Я, конечно, молчу на сей счет, но считать его «Святым»!.. Нет уж, увольте!
– Оставьте меня в покое, господин маршал, – смеясь, ответила я. – Мне хочется быть святошею, и вы мне в этом не помешаете.
– Как это «хочется быть»? – возразил он, теребя свои светлые усы, – я полагал, что вы давно уже ею стали.
И верно, то ли из отвращения к придворным интригам, то ли из скуки ничем не заполненных дней, я все чаще обращалась мыслями к Богу. Быть может, этого не случилось бы, если бы вокруг меня не кишело столько воров, убийц, предателей и низких льстецов? Или, быть может, человек нуждается в Божьей помощи именно для того, чтобы нести крест процветания, изобилия и почестей?
Или же таким образом я пыталась обеспечить себе не только земную, но и загробную жизнь и, достигнув предела честолюбивых замыслов, надеялась, после Короля, сочетаться с Господом, как меня обвинял в том Мой брат? Не знаю; чувства наши слишком надежно скрыты от нас самих, чтобы я могла в них разобраться. И мне в этом требовалось надежное руководство.
Однако помощи я ни в ком не находила. Духовник мой, аббат Гоблен, с тех пор, как он знал о моем браке, начал обращаться со мною, как почтительный придворный. Вместо того, чтобы руководить мною, как я просила, он присылал мне робкие путаные письма; в одном из них он сам просил у меня поддержки в какой-то своей тяжбе. Я-то полагала, что в его возрасте и церковном сане ему скорее подобает думать не о земном суде, а о Страшном; тем не менее, успокоила его, написавши полушутя, полусерьезно. «По поводу Вашего процесса вверьтесь Господу, Королю и мне; уж кто-нибудь из нас троих вам непременно поможет..», после чего засунула беднягу в Сен-Сир, предоставив ему стареть там на покое.
Вот в таком-то положении и были мои дела, когда герцогиня де Бовилье познакомила меня с аббатом Фенелоном, настоятелем монастыря Новых Католичек в Сент-Антуанском предместье…
Он тотчас очаровал меня, как и всех других. В то время он издал небольшой трактат «О воспитании девиц» и очень интересовался тем, что я делаю в Сен-Сире; мы целыми часами увлеченно беседовали о том, что следует преподавать юным воспитанницам, как сочетать учение с играми и о многом другом; я никогда не подумала бы, что мужчина способен вникать в такие дела.
Затем он завел со мною разговор о Боге, и я с изумлением поняла, что его Бог походит на моего, что это Бог любви и свободы, весьма далекий от неумолимого Бога гугенотов и янсенистов. Словом сказать, мы согласились с аббатом по всем пунктам и воспитания и веры, что обещало сделать приятными наши будущие встречи.
Тем не менее, я не стала просить господина Фенелона стать моим духовником: я не хотела бросать старика Гоблена, который, не будучи мудрым наставником, был все-таки моим верным другом во все трудные годы моей жизни; кроме того, авторитет пророка, завоеванный господином Фенелоном в своем окружении, приучил его, несмотря на природную мягкость, к беспрекословному повиновению окружающих; я побоялась, что характеры наши, весьма схожие, в конце концов приведут нас к столкновению. Поэтому я ограничилась встречами с аббатом у Шеврезов или Бовилье, а также уговорила Короля назначить его воспитателем герцога Бургундского, старшего внука монарха, коего гувернером был, также по моей протекции, герцог Бовилье.
Шло время, дни походили один на другой. Я вступала в возраст, когда все кругом блекнет и стирается, – сады казались уже не так пышны, цветы – не так ярки, краски – не так веселы, луга не так зелены, воды – не так прозрачны. Окружающий пейзаж мерк на глазах и совсем уж омрачился в 1691 году, когда от меня внезапно, словно провалившись в театральный люк, ушли спутники моей молодости.
Смерть простерла над нами свою костлявую руку.
Первым умер господин де Вилларсо. Я не виделась с ним уже лет пятнадцать, хотя моими стараниями ему пожаловали голубую ленту. Я опечалилась не его кончиною – для меня он давно уже умер, – мне было жаль моих двадцати лет, я с умилением вспоминала желтый домик на улице Трех Павильонов, сельские утехи в Вексене, Безонскую ярмарку и свое свежее хорошенькое личико, так радостно сиявшее над бедным коричневым платьем, а нынче канувшее в небытие вместе с маркизом.
Потом умер аббат Гоблен, и с ним ушла еще одна часть моей жизни – улица Турнель, Вожирар, муки совести и треволнения первых лет при Дворе.
Госпожа де Монтеспан покинула Версаль. Король препоручил воспитание их младшей дочери, Мадемуазель де Блуа, госпоже де Моншеврейль; маркиза громко запротестовала, крича, что у нее отнимают детей. Тогда Король велел передать ей, что устал от ее скандалов и, к тому же, нуждается в ее апартаментах, чтобы поселить там герцога дю Мена. И маркизе пришлось уехать к своей сестре, аббатисе де Фонтевро, увозя с собою, помимо прочего багажа, горькие воспоминания о годах нашей борьбы и другие, более отрадные, о бедной малютке Франсуазе, графе Вексенском и кроткой Мадемуазель де Тур.
А затем настал черед исчезнуть господину де Лувуа. Его постигла самая ужасная из смертей – смерть без покаяния, последнее время он явственно понимал, что впал в немилость, и это разрывало ему сердце. Однажды он пришел ко мне работать с бумагами, ввечеру любезно распрощался, прошел через галерею внешне в добром здравии, тогда как смерть уже подкрадывалась к нему, – и, едва переступив порог своей комнаты, рухнул в кресло и скончался – мгновенно, не успев исповедаться и повидать детей. «Чуть явишься на свет Божий, – говорится в Писании, – и вот уж нет тебя».
Малое время спустя за ним сошел в могилу Сеньеле, его соперник и мой протеже. Он умер в том же году, в возрасте тридцати девяти лет, как раз в тот момент, когда власть и величие почти уже были у него в руках; так пропали даром все мои труды и растаял призрак дружбы, коей я тешила себя. Суета сует!