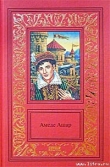Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Глава 8
Мне нетрудно было подвести итоги моей восьмилетней замужней жизни. Они были вполне утешительны в части духовной и светской жизни: я превосходно знала испанский и итальянский языки, довольно хорошо владела латынью, сочиняла недурные стихи, перезнакомилась со всеми важными особами из числа придворных и финансистов; они знали и, более того, любили меня. Однако, сердечная моя жизнь оставляла желать лучшего: я уже не надеялась испытать те чувства, о коих пишут в романах, убедившись, что люди, когда ими не руководит страсть (а пуще того, если руководит!), не способны на истинную нежность; обрести же это сладостное чувство в любви к Богу мне было еще не дано, я рассматривала благочестие только как одну из неизбежных светских обязанностей.
Той осенью 1660 года я разрывалась между тревогою за свое будущее – ведь я внезапно лишилась и куска хлеба и крова, – и незнакомым, но радостным ощущением полной свободы.
Все наше имущество на улице Нев-Сен-Луи было описано в первую же неделю после смерти поэта и продано с торгов прямо у дверей дома; пошел с молотка даже «ящик» – инвалидное кресло несчастного остряка. Я, как могла, возместила потерю нашим слугам, с которыми мне нечем было расплатиться: Жану Брийо отдала всю одежду Скаррона, камеристке – мои платья; будучи в трауре, я в любом случае я не могла носить их. Мне объяснили, что я имею право оспаривать у заимодавцев, среди коих числились моя золовка Франсуаза, герцог де Трем и еще несколько вчерашних друзей, четыре-пять тысяч франков, ибо согласно свадебному контракту господин Скаррон обеспечил за мною вдовью долю, и мой долг, первый и самый значительный из всех, мог частично возместить другие. Но, если не считать надежды на эти деньги, обещанные стряпчими, я оказалась в самом отчаянном положении – ни кола, ни двора; мне даже нечем было заплатить булочнику.
Тем не менее, я не хотела никому быть в тягость, предпочитая удалиться в монастырь. У маршальши д'Омон, кузины Скаррона, имелась меблированная комната в женском монастыре Шарите, близ Королевской площади; она предоставила ее мне, простерев свою доброту до того, что прислала мне туда все необходимые вещи, вплоть до платьев. Итак, я заперла себя в монастырской келье, отказавшись поначалу даже от визитов друзей; мое уныние по поводу нового моего положения сочли вдовьей скорбью, я никого не разуверяла в этом. В одной газетке появились стихи под названием «Воскресший Скаррон – к своей супруге», коих автор восхвалял мою печаль.
Несчастная вдова, что слезы льешь потоком?
Ужели скорбь твоя сим двухнедельным сроком
Не утолилась вдоволь? Осуши глаза…
Я и впрямь искренне полагала, что мне не суждено быть счастливою, и старалась со смирением принять горестную участь, поручив себя воле Господней.
Признаюсь, однако, что зеркальце на стене кельи, служило мне куда большим утешением, нежели распятие, висевшее рядом; ничто так не идет к лицу молодым красивым женщинам, как траур, черный цвет выгодно оттенял мое бледное лицо и глаза в темных кругах, появившихся за долгие ночи бдений возле умирающего Скаррона. Это было отмечено всеми, кто, после первых недель моего затворничества, посетил меня в монастыре.
Мои знакомые дамы пожаловали сюда, дабы сообщить о своих демаршах в мою пользу: крестная, Сюзанна де Навай, гувернантка фрейлин молодой Королевы, и госпожа де Монтозье добивались для меня пенсиона у Королевы-матери, госпожа Фуке искала того же у своего супруга, и даже герцогиня Ришелье выказывала озабоченность моею судьбой, хотя мало чем помогла.
Явились также и мужчины, – я ведь жила в монастыре как пансионерка, и их визиты дозволялись; так, будущий кардинал д'Эстре, член Академии, приносил мне книги, гравюры и развлекал письмами с новостями.
Тем не менее, дела мои никак не продвигались к лучшему, а гордость, уязвленная подачками, побуждала искать приюта в ином месте, где я могла бы заработать себе на пропитание какой-нибудь работою. Я уже было начала складывать вещи, как вдруг настоятельница сообщила мне, что господин и госпожа де Моншеврейль заплатили за мое содержание до конца года. Я была так благодарна им за этот бескорыстный жест, что все милости, коих я добилась для них впоследствии, не казались мне достойными их благородного поступка.
Кроме того, госпожа де Моншеврейль пригласила меня на все лето в свой маленький Вексенский замок, и я с радостью приняла ее предложение.
Мы проделали весь путь в ее карете; погоды стояли чрезвычайно жаркие. По дороге, чтобы не скучать, мы занимались вышивкою накидок для кресел. Нас сопровождали юные кузены госпожи де Моншеврейль; они вдевали нам нитки в иголки, чтобы сэкономить наше время, и говорили разные глупости, дабы не терять своего. Таким образом, путешествие вышло весьма занимательным, и пребывание в замке ни в чем не уступило ему. Дом был полон гостей; кроме уже помянутых мною кузенов, здесь оказались многочисленные подруги хозяйки, родственники самого разного возраста и положения и, среди этих последних, затерянный, словно мальчик-с-пальчик в лесу, Луи де Вилларсо – один, ибо жена его не захотела покинуть Париж. Он старался ничем не выделяться среди присутствующих, мало говорил, еще менее хвастал, не преследовал меня более своими дерзостями, – словом, держался столь незаметно и скромно, что я почти перестала презирать его.
Мы не пренебрегли ни одним из сельских развлечений; каждый день смех и всяческие игры оживляли дом и парк; прятки (более или менее невинные), шары, китайский бильярд, волан и прочие забавы следовали одна за другою; иногда днем мы охотились, вечерами же беседовали у камина; мужчины играли на гитарах, девицы строили им глазки; при все том отличный стол, такой изысканный и обильный, что я никак не могла понять, откуда у небогатых наших хозяев берутся на все это деньги; знай я тогда их источник, я бежала бы без оглядки из этого дома, а, главное, от маркиза Вилларсо: ведь именно он, как я узнала – увы, слишком поздно! – составил список гостей и дал деньги на их прием и угощение. А я, ничего не подозревая, беззаботно веселилась в их компании, не пропускала ни одной прогулки, ни одной трапезы, хотя и соблюдала сдержанность, приличествующую недавно овдовевшей женщине.
Однажды господин де Вилларсо собрался пойти в соседнюю деревню, чтобы уладить какое-то дело с тамошним арендатором; одной из кузин, которая должна была сопровождать его, понездоровилось, и госпожа де Моншеврейль, ревностно пекущаяся о том, чтобы родственник ее не скучал, попросила меня составить ему компанию. Мне неловко было отказать ей.
По дороге маркиз держался столь холодно, что поведение это граничило с прямою неучтивостью. Я уже собиралась поздравить себя с тем, что испытание мое не будет слишком тяжким, как вдруг одно из тех мелких событий, что на первый взгляд не имеют никакого значения, круто изменило всю мою жизнь: накануне прошла гроза, дороги тонули в грязи, я же носила туфли, которые, отнюдь не будучи новыми, хотя еще и не продырявились, вовсе не были приспособлены к ходьбе по мокрым рытвинам; кончилось тем, что у меня сломался каблук. Маркиз де Вилларсо сухо предложил мне свою руку, но я отказалась и продолжала путь сама, с трудом ковыляя по дороге.
Вдали уже показался замок; маркиз, якобы для того, чтобы починить мою туфлю, усадил меня на пригорок под хилыми тополями, которые госпожа де Моншеврейль тщетно пыталась приучить к суровым зимам Вексена. Я сняла туфлю и подала ее маркизу, проворно спрятав ногу под юбку; два года назад это послужило бы для него поводом к самому язвительному веселью; на сей раз он как будто ничего не заметил.
Склонившись над туфлей, он долго разглядывал ее, затем попросил меня снять вторую, под тем предлогом, что хочет посмотреть, как там укреплен каблук. Притворясь, будто сравнивает туфли, он взвесил их обе на руке и наконец сказал:
– Боюсь, сударыня, что сапожник из меня никудышный; придется мне донести вас до замка на руках.
– О, не утруждайте себя, я прекрасно доберусь сама, – отвечала я.
Вдруг маркиз швырнул оба моих башмака за тополя и дерзко спросил:
– Вот как, вы пойдете босиком по такой дороге?
Пораженная этим поступком до глубины души, я даже не нашлась с ответом; мне представилось, как мои чулки запачкаются в грязи, а ведь при моей бедности нечего было и мечтать о другой паре; пусть уж лучше маркиз и впрямь несет меня… Но господин де Вилларсо уже оставил эту затею. Почувствовав, что я колеблюсь, он коснулся моей шеи и принялся играть моими локонами. Я вновь подумала о бегстве, но, увы, грязь окружала нас со всех сторон.
Страх показаться смешной и боязнь скандала, отнявшие у меня хладнокровие, лишили и последнего шанса на спасение: я побоялась стать мишенью для насмешек обитателей замка, явившись в дом босою, по пояс в грязи и без всякого разумного объяснения моего нелепого вида. Эта-то гордыня и сгубила меня. Луи де Вилларсо уже снял с меня шейную косынку и положил голову мне на грудь.
Что произошло после? О, я не могу оправдаться тем, что меня принудили к чему-то силой. Осыпая поцелуями мои губы и грудь, маркиз на руках донес меня до какого-то стоявшего поблизости амбара, уложил на солому и, избавив таким образом от грязи, равно как от посторонних взглядов, продолжил то, что уже начал. Он действовал неторопливо, не грубо, словно был уверен в том, что я больше не попытаюсь бежать и даже не стану сопротивляться. Я и впрямь не нашла иных слов, кроме «пожалуйста, прошу вас!», что, ввиду происходящего, звучало весьма двусмысленно и могло в равной мере означать и запрет и поощрение. Маркиз решил счесть их за последнее и овладел мною. В результате я, даже не успев еще измерить все последствия сломанного каблука, потеряла сознание под лаврами Моншеврейля, которые ничего не прибавили к моей славе.
Верна та пословица, что гласит: «Важен первый шаг». Я сошла с пути добродетели, и ничто уже не препятствовало тому падению, которое уготовили мне бесчестность маркиза де Вилларсо и его страсть, впрочем, на свой лад вполне искренняя. Теперь я уже не могла, да и не желала отказывать ему в чем бы то ни было. К счастью, он стремился лишь к одному – каждую ночь навещать меня в моей спальне, расположенной поодаль от других комнат замка; что ж, я принимала его там, когда он хотел, а иногда и удерживала подле себя.
По правде сказать, в первое время любовные утехи не сделали меня счастливою; я еще слишком хорошо помнила отвращение, с коим подчинялась причудам господина Скаррона; однако не стану утверждать, что грех внушал мне сильные угрызения совести. Я ровным счетом ничего не чувствовала, я перестала мучиться, бояться, рассчитывать и находила в этом приятное отдохновение: отныне другой распоряжался моей жизнью, сама же я на несколько недель словно забылась, подобно Спящей красавице, волшебным сном.
Нашему роману способствовала слепота окружающих, несравнимая с притворной слепотою тех, кто десять лет спустя и при совсем иной любовной связи выказал себя искусным и хитрым царедворцем. Свет всегда полагается на видимость, и если вы неукоснительно соблюдаете определенные правила, то сможете обмануть кого угодно. Вот они: никогда не произносите в разговоре первой имя вашего любовника, а при случае вскользь подшутите над ним; никогда не рассказывайте о нем то, чего не знают в свете, и притворитесь, будто не знаете того, что известно всем; не беседуйте в обществе ни с ним самим, ни о нем, но не избегайте его, а обращайтесь, как с любым безразличным вам человеком; старайтесь дружить с его любовницами или с женою; всячески подчеркивайте свою добродетельность и тягу к духовным ценностям, и тогда глупцы сочтут, что человек этот вам вовсе не нужен, а люди проницательные усомнятся в вашей связи. Как и во всяком грехе, я находила в этом лицемерии приятную сладость тайны – не последнюю утеху любви…
Вернувшись в Париж, я, в нарушение поговорки «сюринтенданту ни одна не откажет», поочередно отклонила предложения господина Делорма, управляющего Сюринтендантством, готового одарить меня тридцатью тысячами экю, и сюринтенданта Фуке, который, по примеру своего начальника, также стремился стать моим покровителем; ничего не приняла я и от моего любовника. Чем больше судьба и сознание греховности моей связи угнетали меня, тем сильнее я жаждала стать независимой, твердо положив страдать от нищеты или сделаться служанкою, только бы не изменить основной черте моего характера – гордости. Но Провидение все же пришло мне на помощь, как бы мало я ни была достойна милости Божьей: господин д'Альбре столь усердно хлопотал за меня перед своими друзьями в Лувре, что королева Анна, тронутая моими бедствиями, о коих поведала ей госпожа де Мотвиль, согласилась вернуть мне пенсию, которую уже много лет не выплачивала моему несчастному супругу. Пенсия эта составляла две тысячи ливров из ларца Королевы – сумма скромная, но при разумной экономии вполне достаточная для жизни. Это счастливое событие, случившееся в начале зимы 1661 года, положило конец самому черному периоду моей нищеты…
Я поселилась в небольшом доме на улице Трех Павильонов, вблизи от улицы Паве, где находился особняк д'Альбре, а чуть дальше, на Королевской площади, особняк Ришелье. Домик этот, снятый за триста пятьдесят ливров у торговца мясом, был скромен, но очарователен. Ползучие розы, карабкаясь по желтой оштукатуренной стене, заглядывали мне в окно; фонтан, нежно журчавший днем и ночью у дверей, напоминал плеск реки в милом моему сердцу Мюрсэ. Жить здесь одной было бы весьма приятно и удобно при моей любовной связи, но опасно для репутации: людям показалось бы странным, что, располагая королевской пенсией, я не завела себе слуг.
Поэтому я начала искать девушку, способную вести мое хозяйство, однако, не слишком торопилась брать постоянную служанку, а под предлогом того, что трудно найти подходящую особу, и хорошо воспитанную и обученную своему делу, нанимала пока поденную прислуг, чтобы на ночь оставаться в одиночестве.
Вот когда я провела с маркизом несколько ночей, которые теперь, избавившись от тревоги за мое будущее, нашла весьма приятными. Пожалуй, именно в это время я испытала самое горячее чувство к Луи Вилларсо; наконец-то я убедилась, что он не имеет ничего общего с моим бедным мужем, и что если все грехи на свете достойны осуждения, то некоторые из них гораздо слаще других; мне было до того хорошо с ним, что я начала мечтать о браке по взаимной страсти, который полагала восхитительным, особенно, в самом начале. Однажды маркиз рассказал мне о болезни своей жены, о том, что доктора сочли ее безнадежною; моя глупая мечтательность толкнула меня спросить, женится ли он на мне, если она умрет.
Мой любовник остолбенел от изумления, затем, придя в себя, расхохотался. «Франсуаза, да вы бредите! Неужто вам, с вашим умом, непонятно, сколь смехотворен был бы брак одного из Морне с вдовою господина Скаррона!» Мне подумалось: «Я, конечно, не так знатна, как вы, но слишком благородна сердцем, чтобы долго быть вашею любовницей!» Однако вслух ничего не сказала и молча проглотила обиду, зная, что вполне заслужила ее своей глупой наивностью; впрочем, мне скорее пристало благодарить маркиза за то, что он сам дал мне в руки ключ, дабы я могла открыть и покинуть узилище моей страсти.
В апреле или в мае 1662 года я решилась наконец взять служанку, которую искала уже несколько недель.
Я остановила свой выбор на бедной пятнадцатилетней девушке по имени Нанон Бальбьен; она жила на холме Святого Роха, рядом с одним из тех бандитских пристанищ, что зовутся «дворами чудес».
Нанон была родом из какой-то бриарской деревушки. Голод, согнавший в том году с земли множество крестьян, привел семью Бальбьен на злополучное подворье Святого Роха, где ее ждала новая беда: отец девушки пошел работать каменщиком, упал с лесов и теперь лежал парализованный; брат устроился грузчиком на пристани Сен-Бернар и целые дни стоял по пояс в ледяной воде, сплавляя бревна по Сене до острова Лувье; в результате он заработал сильную лихорадку и жестокий кашель и временами бывал так слаб, что не мог найти себе работы ни в Арсенале, ни на Гревской или Сенной пристанях; четверо или пятеро младших ребятишек, грязных и завшивевших, умирали с голоду, а их мать, стараясь заработать хотя бы на жилье, целыми днями ходила по улицам, во весь голос нахваливая товар, которым торговал ее домовладелец. Семья питалась лишь «королевским хлебом», который время от времени раздавали в Лувре.
Старшая дочь, Нанон, с детства работала в поле и ничего не умела делать по дому, разве только немного шила; но она была крепкой на вид, добродушной и благочестивой, как вся ее семья; кроме того, я знала, что без меня она неминуемо погибнет от голода. Я была нужна ей больше, чем она мне. Вот почему я взяла Нанон к себе в дом, и этот день стал для нее началом удачи, которая, если забыть о разнице в нашем положении, оказалась не меньшей, чем моя собственная.
Итак, я привела Нанон на улицу Трех Павильонов, чисто одела и принялась обучать ремеслу служанки, вовсе ей неизвестному, и грамоте, которую она также не знала. В первое время мне случалось иногда выполнять за нее работу по дому, чтобы дать ей возможность заниматься чтением. И, наконец, я скоро полюбила ее так же нежно, как некогда мою няню де Лиль, только эта была много моложе.
Ужаснувшись зрелищу нужды ее родных, я решила отныне стараться хоть немного облегчать страдания бедняков; нищета их бросалась в глаза на каждой улице Парижа, но именно потому я к ней привыкла и не замечала. Теперь я жертвовала десятую часть моего скромного дохода на милостыню, поклявшись себе отдавать больше, если когда-нибудь получу такую возможность; этого обещания я свято держалась всю мою жизнь и, надеюсь, Бог, как и я сама, зачтет мне это деяние.
Нанон была слишком невинна и слишком уверена в моей добродетельности, чтобы заподозрить мои тайные любовные сношения с Вилларсо, но эта девушка была отнюдь не глупа, и когда она немного освоилась у меня, я сочла неприличным принимать маркиза наедине. Как ни странно, я дорожила уважением Нанон и не хотела, чтобы она догадалась о моей неправедной жизни.
С тех пор я виделась с маркизом только у мадемуазель де Ланкло, которую по-прежнему навещала раз или два в неделю; иногда Нинон оставляла нас одних в своей желтой спальне, не заботясь о том, чем мы там занимаемся.
В июне 1662 года Моншеврейль вновь стал пристанищем нашей любви. Признаюсь, что с удовольствием увидела место моего первого падения. Стоило мне пройти мимо служб и лавровых деревьев замка, как я живо вспоминала тогдашний стыд, но, вместе с тем, и веселое заблуждение молодости и нежность к господину Вилларсо, которые, вкупе с любовью к очаровательным детишкам Моншеврейлей, делали для меня Вексен самым притягательным местом в мире. На сей раз я обставила мой приезд особым образом: на скромную пенсию, бывшую моим единственным доходом, накупила столько игрушек для детей моих хозяев, что они забили всю карету, и мне некуда было поставить ноги; пришлось свернуться клубочком на сиденье и так ехать до самого дома. Если взрослые и не похвалили меня за эту прихоть, то дети были в полном восторге, извлекая из-под моих юбок лающую собачку, стул с бубенчиками, механического попугая, свистевшего, когда его дергали за хвост, миниатюрную часовенку с колоколом и процессией монашек, игрушечный фиакр с обезьянкой-кучером и множество кукол и сладостей. Я всегда пылко, до смешного, обожала детей, но, думаю, именно в то время научилась по-настоящему заботиться о них и завоевывать их любовь…
Дни мои проходили в простых сельских усладах, ночи же в усладах, гораздо менее невинных, хотя господин Вилларсо навещал меня не так часто, как в прошлом году: я объяснила ему, сколь опасно было бы разоблачение, и он отнюдь не хотел, чтобы его крайне ревнивая жена узнала о нашем романе…
В Моншеврейле наши прогулки по окрестностям перемежались с сельскими работами. Сперва поспели вишни; я до сих пор вижу, как госпожа де Бринон, молодая урсулинка, подруга Маргариты де Моншеврейль, стоя на лесенке, бросает сорванные ягоды в наши подставленные передники. Маркиз, забавы ради, подвесил мне две пары вишен к ушам; впрочем, у него хватило хитрости позволить съесть их юному брату Анри де Моншеврейля. Потом мы собирали сливы, с которыми пекли пироги, огромные, как мельничное колесо; я с утра до вечера ходила запорошенная мукой. Затем мы собирали яблоки, из которых приготовляли сидр; мы пили его из серебряных чарок с горбом Морне. Но когда, наконец, созрел виноград, настала пора закрывать дом и возвращаться в Париж под осенним дождем.
Об этом лете я сочинила коротенькую, но злую поэмку, ценную единственно тем, что она пробуждает во мне воспоминания о былом:
Лишь здесь, в глуши, невинны нравы,
Здесь души искренние правы.
А при Дворе мошной гордятся да породой.
Разумеется, я судила о Дворе только по слухам и написала это, дабы похвастаться, что и мне немало известно.
Цветы – вот наше украшенье.
Родник – вот наше омовенье.
Нам красота дарована природой.
Однако, лето 1663 года оказалось далеко не таким удачным, как прошлое. Пошли слухи о том, что за прием гостей в Моншеврейле платил Вилларсо; из гордости Анри де Моншеврейль отказался принимать что бы то ни было от своего кузена и никого не пригласил в имение. К счастью, у маркиза было довольно друзей, чтобы не пострадать от этого. Он попросил одного из своих соседей по Вексену, господина де Валликьервилля, пригласить меня на несколько недель в свой замок, находившийся всего в двух верстах от его собственного.
В прошлом Луи де Вилларсо уже не раз обращался к помощи и добрым услугам своего друга Шарля де Валликьервилля; так, восемь или десять лет назад тот приютил у себя мадемуазель де Ланкло, когда госпожа де Вилларсо нежданно пожаловала в свой вексенский дом, укрывавший любовь маркиза и «божественной», которой пришлось спешно перебираться к соседу.
Валликьервилль питал к Нинон горячую дружбу или, быть может, нечто большее. Поэтому он поставил условием, чтобы она также приехала пожить в его доме. Маркиз нашел эту просьбу вполне уместною: она позволяла скрыть наши с ним отношения. Если он будет ежедневно наведываться из замка Вилларсо в Валликьервилль, все подумают, что он ездит туда ради Нинон, из «возродившейся» страсти; меня же сочтут просто-напросто сопровождающей ее подругою. «Конечно, служить дуэньей при Нинон не лучший способ заслужить себе добрую репутацию, – смеясь, сказал мне маркиз, – но все-таки это вас скомпрометирует меньше, чем иметь при себе Нинон в качестве дуэньи!»
Так мы и сделали. Нинон была очень рада вновь увидеться с Валликьервиллем, которого высоко ценила за острый ум, и как будто даже не заметила, что служит нам ширмою. Не знаю, откровенничал ли с нею ее бывший любовник; я, по крайней мере, ни словечком не обмолвилась ей о том, что случилось два года назад в Моншеврейле и какие чувства я питаю к маркизу… Дружба Нинон придавала истинное очарование нашему житью в Валликьервилле, однако страсти нашей отнюдь не способствовало: живя с Нинон под одной крышей, я вынуждена была встречаться с маркизом лишь на прогулках, а я не любила рисковать понапрасну; кроме того, встречи эти слишком живо напоминали мне мое первое постыдное падение. Вскоре я поняла, что далеко не так пылко люблю господина Вилларсо на лугу, при дневном свете, как в ночном уединении спальни; впрочем, какова бы ни была причина этого охлаждения чувств, оно стало для меня сюрпризом и привело в некоторое смятение. Я еще не успела измерить все преимущества этого нового состояния…
Кроме того, жизнь бок о бок с Нинон, неизбежная в Вексенской глуши, сознание того, что я вслед за нею, с перерывом в несколько лет, ублажаю в тех же канавах чересчур богатого сеньора, которого заполучила после нее, преисполнила меня отвращения к этой тайной преступной связи. Я с ужасом вспоминала начало нашего знакомства с маркизом, его преследования, его презрительный ответ, когда я осмелилась заговорить с ним о браке. Меня мучили подозрения в его искренности; не знаю отчего, но мне казалось, что, едва расставшись со мною, он спешит дать Нинон полный отчет в том, что я говорила или делала. Я допускала, что мои грехи должны быть известны Господу, но не хотела, чтобы о них знали люди, и эти страхи заставили меня принять решение о разрыве с маркизом, ибо наша связь доставляла мне одни лишь тревоги и стыд.
Правду сказать, мне трудно было хладнокровно осуществить этот замысел: как раз в то время маркиз сделался особенно нежен. И я отложила свое решение на несколько месяцев, которые могли стать годами, если бы не невольная помощь господина де Мере.
Вот как это случилось: на ежегодном карнавале все нарядились кто во что горазд; улицы были заполнены людьми в самых причудливых одеяниях; некоторые, по примеру госпожи д'Олонн (которая осмелилась на такую эскападу несколькими годами раньше), переоделись капуцинами, явив, таким образом, народу зрелище сколь непристойное, столь же и богопротивное; как ни грустно, Королева-мать и молодая королева Мария-Терезия сочли возможным подражать этим глупцам и также явились на празднество в маскарадных костюмах. Будучи в гостях у д'Альбре, я не удержалась от замечания, что не понимаю, как это порядочная женщина может принимать участие в столь непристойном увеселении, и зачем Королеве понадобилось, забыв о своем достоинстве, слоняться по улицам в маске. Господин де Мере молча выслушал мою диатрибу, потом, когда я собралась уходить, сказал мне вполголоса: «Мадам, вы такая же талантливая комедиантка, как Росций, о коем говорил Цицерон».
Всей педантичной фразе – ибо мой первый учитель был записным педантом, – крылось осуждение, которое я слишком хорошо поняла; уязвленная до глубины души, я положила немедленно исправить положение вещей с тем, чтобы уж более не подвергать себя подобной критике. Мне было стыдно, что я нарушила собственные принципы, и это чувство перевесило наконец жажду наслаждений.
Два дня спустя я ушла к урсулинкам в монастырь на улице Сен-Жак, где решила пробыть несколько недель. Я объявила, что никого не хочу видеть; маркиз не составил исключения. Эта первая разлука явилась для меня прелюдией к окончательному разрыву: стоило мне расстаться с господином Вилларсо, как моя страсть к нему тотчас угасала, – с глаз долой, из сердца вон. Отгородившись от мирских соблазнов с помощью строгой привратницы, я принялась в одиночестве набираться мужества, коего мне так не хватало в течение трех последних лет.
Когда, после месяца размышлений, я покинула улицу Сен-Жак, я тотчас пригласила к себе господина де Вилларсо, слишком хорошо зная, как опасно любое промедление.
Мой чернокудрый красавец-любовник не замедлил примчаться ко мне, исполненный самых радужных надежд. Я с первого же слова объявила ему о разрыве. Он был столь далек от этой мысли, что сперва даже не понял, о чем я веду речь. Напрасно я приводила ему всевозможные доводы, вплоть до греховности супружеского обмана, – он упорно считал это шуткой. Наконец я взяла с ним крайне твердый и суровый тон, сказавши, что запрещаю ему показываться мне на глаза, где бы ни было, целый год, после чего мы сможем видеться на людях как добрые друзья, но двери моей спальни отныне будут для него навсегда закрыты.
Маркиз был так растерян, ошеломлен, поражен, что, казалось, легче убить его своими руками, нежели нанести подобный удар. Он плакал, умолял, грозил, словом, устроил бурную сцену, недостойную благородного человека и мучительную для любовницы; однако, чем труднее мне было принять мое решение, тем упорнее я цеплялась за него, боясь, что второй раз у меня не достанет на это мужества. Наше тяжкое объяснение продолжалось так долго, что под конец я буквально ослепла от слез, лишилась сил и желала только одного – чтобы он поскорее ушел от меня, куда и к кому угодно. Видя, что меня не разубедить, он удалился.
В течение нескольких дней я боялась за его жизнь. Вдобавок, я была не слишком-то уверена, что, расставшись с любовником, поступила себе во благо, и каждую ночь, просыпаясь, мучилась тоскою и угрызениями совести. Я боялась, что маркиз в отчаянии решится на какое-нибудь безумство и положит конец либо своей жизни, либо моей.
После этого рокового удара маркиз прожил еще тридцать лет; я сама уже шестьдесят лет как жива и здорова. Это доказывает, что, если человек любит не так сильно, как говорит, то уж, конечно, он любит гораздо меньше, чем ему кажется.