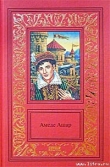Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Сей пикантный маневр побудил меня серьезно поразмыслить над пределами моей власти, – я все еще не знала, до какой степени Король привязан ко мне, и сочла, что его вынужденное возвращение к супруге, совершенное единственно по моему настоянию и с целью угодить мне, как раз и явится самым верным свидетельством основательности его чувств. Даже и нынче мне кажется, что вернуть своего возлюбленного постылой жене – верх могущества любовницы. Кроме того, это семейное примирение должно было послужить назиданием для окружающих, способствовать укреплению морали общества и заодно отвести подозрения от меня самой.
Все вышло именно так, как я задумала. Король выказал Королеве внимание, к коему она совсем не привыкла; он стал чаще проводить у ней ночи, и всякий раз наутро она восклицала в постели, радостно хлопая в ладоши: «Король никогда еще не обходился со мною так милостиво, как нынче; хорошо, что он слушается госпожу де Ментенон!» или «Господь послал госпожу де Ментенон, чтобы она вернула мне сердце Короля!» Не удивительно, что она очень полюбила меня. Поскольку она всю жизнь трепетала перед Королем, почитая его, как Бога, то теперь, когда он посылал за нею, она требовала, чтобы я сопровождала ее, боясь остаться с ним наедине; я доводила ее до дверей комнаты Короля, куда мне приходилось буквально вталкивать ее, дрожащую от страха.
Пока Король, замкнувшись в семейном кругу, безуспешно пытался приобщить дофина к государственным делам, а дофину – к светской жизни, я посвящала себя друзьям, ибо свободно располагала своим временем: дофина, настроенная против меня стараниями Мадам, ревновавшей меня к Королю, и госпожою де Ришелье, ревновавшей к моим успехам, не переносила моего присутствия и отвергала все услуги. Но чего стоит фимиам славы, если к нему не примешивается черный дым зависти?!
Итак, в обществе Нанон и невозмутимой госпожи де Моншеврейль я читала, шила, писала письма. Построив в Ментеноне больницу и дом призрения, я теперь затеяла возвести там полотняную мануфактуру, чтобы дать работу местным беднякам. Одновременно я пыталась привести в порядок дела моего брата: Шарль, отвергший все мои предложения солидных браков, тайно женился на пятнадцатилетней девчонке, незнатной и без приданого, а, впрочем, крайне избалованной, как все дети буржуа, которые скверно воспитывают своих детей; распущенная, грубая, невоздержанная на язык, точно рыночная торговка, она была истинной парижской мещаночкой. Я отдавала много времени этой «пташке» писала ей письма, навещала, старалась научить правильно говорить, вести хозяйство, прилично одеваться и держать себя в обществе. Но все мои труды оставались втуне, – девица желала носить платья только из золотой или серебряной парчи и роскошные, не хуже, чем у Короля, кружева, пособляя брату в три месяца проматывать годовой доход; тщетно я употребляла все мое влияние, устраивая для них всякие выгодные сделки и пополняя их мошну, – это была бочка Данаид [71]71
Данаиды – дочери легендарного царя Даная, насильно выданные замуж за сыновей царя Египта. В первую брачную ночь они, по совету отца, убили своих мужей и за это были осуждены вечно наполнять водой бездонную бочку в подземном царстве.
[Закрыть]. При этом, как я ни старалась, золовка моя выглядела распустехой, и пригласить ее в хорошее общество было совершенно невозможно, тем более, что она каждую минуту могла ляпнуть что-нибудь несообразное. В конце концов, я отчаялась и предоставила этой парочке самостоятельно губернаторствовать в Коньяке.
Куда больше радовало меня воспитание герцога дю Мена: в возрасте десяти лет его отдали в руки господину де Моншеврейлю, коего, по моей рекомендации, Король назначил его гувернером; таким образом, мой милый мальчик не вышел ни из-под моей опеки, ни из моего сердца. Будучи при Дворе, он проводил много времени в моем обществе; мы беседовали обо всем на свете в самом доверительном тоне, я неизменно старалась идеализировать в его глазах Короля, дабы внушить ребенку уважение, почтение и любовь как к отцу, так и к монарху. Я внушала ему, что умру от стыда, если он обманет надежды Короля, и, в самом деле, полагала, что, ввиду плачевного состояния королевской семьи, один лишь этот мальчик сможет утешить своего отца достоинствами, коих так не хватает другим детям, ставши его подлинным сыном во всех отношениях. Для меня он уже давно был таковым, и, когда его увозили в Пиренеи лечить больную ногу, мне всего важнее было узнавать из его писем, дают ли ему клубнику на полдник, отведал ли он местный омлет с салом, нежели думать о том, стерпит ли Империя «политику Альянсов», а дофина – мое присутствие за ужином. Я обратила на этого, самого очаровательного из всех принцев всю мою нежность, невостребованную после смерти маленького графа Вексенского и кончины кроткой восьмилетней Мадемуазель де Тур.
Правда состояла в том, что я никак не могла обходиться без детского общества. Чем старше я становилась, тем более жадно тянулась к детям.
Уже давно я уговаривала Филиппа де Виллета дать своим детям воспитание, приличествующее их происхождению, но, поскольку они были гугенотами, это не представлялось возможным: Король запретил наставникам-реформаторам брать пансионеров, кальвинистская Академия в Седане, где некогда учился мой отец, была закрыта, а другую такую же, в Сомюре, собирались разогнать. Филипп упорно не желал отдавать детей в католический коллеж и таскал обоих сыновей в плаванья по всем морям; мальчики набрались там отваги, участвуя с восьми-девяти лет в сражениях, но отнюдь не учености, и на их невежество больно было смотреть. Я считала своим долгом помочь этой беде. Мне также очень нравилась их младшая сестренка Маргарита-Мари, прелестная, как ангел, и хитрая, как бесенок; по моему мнению, она заслуживала лучшей участи, чем прозябание на птичьем дворе в Мюрсэ, к чему готовила ее моя кузина. Меня приводила в ярость упрямая приверженность моих кузенов кальвинизму, мешавшая им воспользоваться моей помощью, а мне – проявить благодарность их матери и бабушке, которые воспитали меня.
Король, и в самом деле, не желал видеть гугенотов при Дворе. Он с юных лет враждебно относился к любой ереси. Рассказывали, что однажды, когда к нему явилась депутация гугенотов, он бросил их генеральному представителю, господину де Рювиньи: «Король, мой дед, любил вас; Король, мой отец, боялся; я же и не люблю и не боюсь вас!» Он полагал, что для королевства нет ничего лучше, чем единая религия, и что свобода вероисповедания разрушает государство; реформаторы верили в то же самое, и потому ни в одной кальвинистской стране Европы не было примеров свободы вероисповедания.
Однако, монарх, всегда руководимый чувством законности, считал себя обязанным сохранять привилегии, унаследованные гугенотами от их отцов в силу Нантского и Алесского эдиктов [72]72
Нантский эдикт (1598), подписанный королем Генрихом IV, закрепил права гугенотов во Франции на свободу вероисповедания и религиозных церемоний, на право занимать официальные должности и подавать жалобы королю. Алесский эдикт, подписанный в 1629 г. герцогом Ришелье, отменил все военные привилегии гугенотов, например, строительство крепостей.
[Закрыть], но сверх этого не делал никаких послаблений, строго придерживаясь рамок официальных обязательств и объявив, что все непредусмотренное эдиктами должно рассматриваться как запрещенное. Опираясь на эти слова, власти, с самого начала его царствования, уничтожили многие протестантские храмы, закрыли школы и так называемые «палаты Эдикта», занимавшиеся разбором религиозных распрей, воспретили кальвинистам держать у себя подмастерьев и учеников, а гугенотам обоих полов заниматься родовспоможением; представители этой религии не могли претендовать на должности в полицейских и финансовых ведомствах. Король готовил в этом отношении еще и другие планы и, с установлением мира, желал приступить к самому широкому обращению гугенотов; ясно было, что если Бог дарует ему долгую жизнь, то через двадцать лет в стране не останется ни одного «еретика». Уже и нынче они тысячами переходили в католичество.
И только мои родные продолжали упорствовать; мне казалось, они медлят нарочно, стремясь выставить меня в смешном свете перед людьми. Я сочувствовала этим заблудшим душам, ибо сама в юности держалась того же, но не думала, что их упорство может служить им извинением, а, впрочем, согласна была терпеть, лишь бы достичь своего, хотя и не ждала легкой победы.
Боязнь немилости Короля, столь удачно сочетавшаяся с тоскою по детям и вполне естественным стремлением сделать доброе дело, привела меня к решению обратить в католичество детей де Виллета, де Сент-Эрмина и Комона д'Адд.
Начиная с 1669 года, согласно официальному указу, родители не имели права препятствовать детям, пожелавшим переменить веру, – мальчикам, начиная с четырнадцати лет, и девочкам, начиная с двенадцати. Старший из сыновей Филиппа, носивший имя Мюрсэ, уже попал таким образом в мои сети. Ему было четырнадцать лет, когда родители прислали его в Париж по делам; я воспользовалась этим, чтобы свести мальчика с аббатом Гобленом. Мюрсэ оказался неопытным богословом и, главное, больше пекся о своей карьере, нежели о верности религии отцов; он не долго противился аргументам священника и три недели спустя перешел в нашу веру. Король оплатил его учебу в Академии, где он и начал усердно заниматься.
Эта удача воодушевила меня на попытки завоевать и младших детей. Я попросила моих ниорских кузин и Филиппа присылать ко мне на месяц или два тех из детей, кто уже был достаточно взрослым, чтобы оценить прелести Парижа и Двора, обязавшись притом не склонять их к переходу в католичество. Кузины тут же охотно согласились в ближайшую зиму прислать и сыновей и дочерей. И только Филипп, разгневанный обращением Мюрсэ, не ответил ни слова и забрал второго сына с собою в плаванье.
Его дерзкий отпор побудил меня сделать все, чтобы завладеть его дочерью Маргаритой, хотя ей было всего семь лет. Для начала я заручилась содействием кузины Эме, ставшей теперь госпожою де Фонмор; она сама перешла в католичество и твердо положила пренебречь упрямством брата ради новой своей веры; только следовало поспешить, ибо кузина, как и мой отец, столь часто меняла одну религию на другую, что Филипп насмешливо говаривал: «Верно, и сам Господь уже не знает, какой веры нынче моя сестрица». Итак, госпожа де Фонмор, в тот момент католичка, пригласила свою племянницу погостить два-три дня в Ниоре; едва девочку привезли к ней, как она посадила ее в карету и умчала в Париж, где уже находились юные Сент-Эрмины и мадемуазель де Комон. У Маргариты де Виллет не было с собою никаких вещей, даже лишней рубашки, и она горько плакала, тоскуя по родителям.
Я взяла ее с собою в Сен-Жермен. Девочка поплакала еще немного; она рассказала мне, что отец, перед плаваньем, строго предупредил ее, что если она поедет ко Двору без его разрешения и сменит веру, то больше никогда не увидит его. Но я показала ей апартаменты Королевы, которая, из милости ко мне, весьма ласково обошлась с нею; затем мы пошли к мессе, и ее так поразила красота церкви, что она тут же согласилась сделаться католичкою, при условии, что ей позволят каждый день слушать мотеты Лаланда и не будут пороть. Вот и все богословские доводы, которые мне пришлось употребить, и все условия, которые она выставила за свое обращение. Эта быстрая победа утешила меня после неудачи с детьми Сент-Эрминов и дочерью Комонов, которые так и не сдались; делать нечего, спустя оговоренное время я отослала их к родителям без всяких сожалений, в полной уверенности, что в один прекрасный день они пожалеют о своем упрямстве.
Обращение Маргариты полностью отдавало девочку мне в руки: Король ничего не мог возразить против ее присутствия подле меня, родители же не могли забрать ее назад, – по закону еретикам запрещалось брать к себе обращенных детей.
Однако едва мой кузен вернулся из плаванья, мне пришлось нелегко. Он ожесточенно требовал назад свою дочь. Я призвала его подумать и рассудить, умно ли будет с моей стороны возвращать ему Маргариту, когда я приложила столько усилий, чтобы добиться ее… По прошествии нескольких месяцев он смягчился и поневоле признал, что я проделала с его детьми то же самое, что моя тетушка де Виллет – со мною, а именно, превратила меня в гугенотку, невзирая на желание матери, так как полагала сие моим благом. Тогда-то я и позволила ему приехать в Сен-Жермен и обнять дочь и старшего сына; мы порешили воспитывать этих детей совместно, без споров о религии.
Маргарита была моей гордостью, и, поскольку мои привязанности неизменно идут об руку с уважением, я не даром испытывала к ней это чувство: она и впрямь была чудом ума и сообразительности. Решив сделать из нее совершенство, я начала учить ее испанскому языку, игре на музыкальных инструментах, танцам; всегда садилась за стол вместе с нею и, так как Бог не обидел меня талантом воспитательницы, она вскоре выказала самые блестящие способности к светской беседе. С первого же дня нашей встречи, когда она еще плакала при упоминании о своих родителях, я заверила ее, что она полюбит меня; и вскоре она на самом деле привязалась ко мне, как к родной матери.
Когда я думаю обо всем этом, мне приходит в голову, что за свою долгую жизнь я создала себе весьма необычную семью: я считаю герцога дю Мена своим настоящим сыном и Маргариту де Виллет, позже графиню де Кейлюс, своей настоящей дочерью; был у меня и зять в лице графа д'Эйяна, хотя я и не женила его на своей так называемой племяннице; наконец, я всегда считала герцогиню Бургундскую своей внучкою – по нашему духовному сходству, пускай она и не состояла в кровном родстве ни со мною, ни с кем-либо из моих названых детей. Разум, быть может, и не согласится со всем этим, но сердцу не прикажешь.
Те три или четыре года, что отделили отставку госпожи де Монтеспан от смерти Королевы, сохранились в моей памяти как годы радости, – я не смею произнести слово «счастье».
Король любил меня и доказывал мне это с каждым днем все более и более галантно. Теперь, когда я освободилась от последних угрызений совести, мне было уже не так трудно отвечать ему взаимностью; постигнув замысел Господа, пожелавшего ввергнуть меня в этот грех лишь за тем, чтобы спасти Короля, я обрела душевный покой, а с ним новую, мягкую и ласковую, свободную и томную манеру обхождения, доселе мне неведомую.
В Версале, где в 1682 году Двор расположился на долгое время, Король отвел мне новое помещение во втором этаже – две гостиные, спальню и просторный кабинет; все это располагалось на одном уровне с его собственными покоями и также выходило на парадную мраморную лестницу. Королю достаточно было пройти через кордегардию и нашу общую переднюю, чтобы попасть ко мне. Сама Королева не находилась так близко от «Солнца», как я.
Я принимала друзей, лежа на атласном, зеленом с золотом, покрывале постели с балдахином высотою в девять футов; четыре его столбика венчали пышные белые плюмажи, ярко-красные занавеси были обшиты тяжелой золотою бахромой. «Кто бы мог подумать, – сказала мне однажды Бон д'Эдикур, с улыбкой созерцая это поистине королевское ложе, – что улицу Трех Павильонов и постель, достойную королевы, соединяет столь короткая дорога!» Разумеется, говоря о постели, достойной королевы, она думала о постели, достойной короля, но не могла высказать мне это вслух; ей было неведомо, что эта лестная фраза странным образом предвосхитила главное событие моей жизни.
И в самом деле, 31 июля 1683 года королева Мария-Терезия скончалась в возрасте сорока трех лет. Смерть ее повергла нас в изумление: она вовсе не была больна, а всего лишь страдала, в течение нескольких дней, от нарыва на предплечье; однако, им занялся Дакен. Когда госпожа де Монтеспан покинула Двор, за нею последовало большинство тех мошенников-лекарей, что пользовали ее и детей, но Дакен, первый лейб-медик и первейший из невеж, к несчастью, остался. Именно он решил, в противовес господину Фагону, чьи услуги я предложила со своей стороны, пустить Королеве кровь; всему медицинскому корпусу отлично известно, что кровопускания загоняют гной внутрь вместо того, чтобы очистить нарыв, один Дакен этого не знал. В какие-нибудь три дня он свел Королеву в могилу. Эта несчастная государыня только и успела пролепетать перед смертью: «С тех пор, как я стала королевою, я была счастлива всего один день»; с тех пор, как она стала королевою, это было ее первое – и последнее разумное слово.
Смерть бедной женщины повергла меня в печаль и уныние; она меня любила, а мне было необходимо, чтобы она жила. Я горько оплакала ее кончину.
Госпожа де Монтеспан также пролила немало слез, и в поведении ее теперь явственно проскальзывала робость, внушаемая, вероятно, страхом вновь попасть в руки мужу; со смертью Королевы она лишалась своей должности сюринтендантши и отнюдь не была уверена в том, что Король пожелает дать ей другой повод остаться при Дворе. Словом сказать, никогда еще ни одну супругу так искренно не оплакивали любовницы ее мужа.
Мне, однако, не пришлось слишком долго предаваться скорби. Едва лишь Королева испустила дух, и я решила удалиться, как господин де Ларошфуко, истинный царедворец, взял меня за руку и подвел к покоям Короля, шепнув только: «Не время покидать его, вы ему нужны!» Я застала моего повелителя в слезах, но не сразу нашлась, что сказать: Король был скор на слезы по любому поводу. Наконец, я принялась было восхвалять усопшую, однако, он тут же оборвал меня, сказав: «Об этом, сударыня, мне известно больше, чем вам: Бог дал мне именно такую супругу, какая была мне нужна, – она ни разу не сказала «нет».
Я приняла сей урок как должное и замолчала, украдкой вытирая льющиеся слезы.
По правде сказать, Король был скорее растроган, нежели опечален понесенной утратой, но, поскольку растроганность на первый взгляд весьма походит на печаль, а у великих людей и выражение чувств кажется великим, то и Двор поначалу отдался скорби, по видимости, весьма глубокой. Я сама обманулась на сей счет: мне пришлось остаться в Версале на то время, что Двор, вслед за Королем, перебрался в Сен-Клу, а затем в Фонтенбло, и, по приезде моем в Фонтенбло, явилась на люди в глубоком трауре и с печальной миною, приличествующими, на мой взгляд, обстоятельствам. Король, давно уж позабывший горевать, не удержался от шуток на мой счет. Тут-то я и узнала от дам, путешествовавших в одном с ним экипаже, что в продолжение всей поездки Король был отменно весел и что им пришлось без конца смеяться и выказывать ненасытный аппетит. То было в понедельник, Королева же умерла в пятницу. Со вторника уже начались приемы. Король попросил дофину танцевать, и когда та, с извинениями за свою печаль, попробовала было отказаться, он строго призвал ее к повиновению, сказавши так: «Дочь моя, мы, короли, не должны уподобляться обычным людям, – мы живем на глазах у наших подданных».
Если я скоро рассталась с моей печалью, дабы угодить Королю, то избавиться от страха мне было куда труднее. Придворные, воодушевленные добрым расположением монарха, беспрестанно толковали о новой его женитьбе. Я сама слышала, как у дофины все присутствующие сравнивали достоинства нескольких немецких принцесс; говорили также о принцессе Тосканы, но более всего уповали на брак с португальской инфантою. Король виделся со мною в обычные, назначенные им, часы, но ни слова не говорил обо всех этих радужных прожектах, чем еще более усугублял мои страхи.
Я избегала встреч с друзьями, совсем потеряла сон, мучилась удушьями. Лишь только выдавалась свободная минута, я в сопровождении госпожи Моншеврейль спешила в лес подышать свежим воздухом; иногда мне случалось выходить даже по ночам, чтобы развеять одолевавшие меня страхи. Я не сомневалась, что, если Король женится вторично, то новая королева, возможно, молодая и привлекательная, возьмет над ним власть, тем более, что брак их будет освящен церковью, я же смогу претендовать разве лишь на дружбу, которая мало что значит в сравнении с супружеским союзом; стоит прекрасной повелительнице вымолвить только одно слово, как меня ввергнут в опалу и прогонят; я была уверена, что не пройдет и года, как это случится. Если же, напротив, Король не женится и не заведет себе новых любовниц, Двор объяснит сию загадку лишь одним способом, а именно, раскроет тайну наших отношений, и тогда уж прощай, приличия! – меня обвинят в том, что я своими злостными происками мешаю браку, полезному для королевства, и начнут преследовать все подряд – и министры, и семья Короля, а, главное, церковь. И в один прекрасный день, когда Короля окончательно доймут упреки окружающих, а слишком яркие огни канделябров беспощадно высветят на моем лице все прожитые годы, он отошлет меня прочь, униженную и развенчанную.
Тщательно обдумав все это, я сочла, что лучше уехать самой, не ожидая изгнания, и решилась поговорить с Королем.
Беседа эта состоялась в конце августа, вечером, в моих покоях. Король недавно вернулся с охоты и готовился подробно изучить некий финансовый отчет, завершению коего помешала внезапная смерть господина Кольбера; он все чаще приносил ко мне какие-нибудь непрочитанные бумаги, утверждая, что ему легче работается в моем присутствии и восхищаясь тем, что я никогда не упрекала его, когда он предпочитал государственные занятия пустяшной болтовне.
Погоды стояли теплые и душные. Я чувствовала себя скверно, мне было страшно начать задуманный разговор. Взяв в руки книгу, я тотчас отложила ее, встала, чтобы поправить цветы в вазе, передвинула ширму, разорвала только что написанные мною письма, открыла, потом затворила окно, словом, металась по комнате, точно медведи госпожи де Монтеспан в салоне Меркурия. В конце концов, Король поднял голову от бумаг, внимательно поглядел на меня и добродушно промолвил: «Что с вами, Франсуаза, отчего вам нынче не сидится на месте?»
Я склонилась к его ногам в низком реверансе и, потупясь, сказала: «Сир, я умоляю Ваше Величество позволить мне уехать в Ментенон».
Он сжал мое лицо в ладонях и приподнял его, стараясь заглянуть мне в глаза.
– Что с вами? Вы больны? Вам что-то досаждает? Разумеется, я позволю вам удалиться на два-три дня. Однако…
– Сир, Ваше Величество не поняли: я желала бы покинуть Двор навсегда и поселиться в Ментеноне.
На лице Короля выразилось неподдельное изумление.
– Вполне ли вы понимаете, что говорите, сударыня?
– Осмелюсь сказать, что понимаю, Сир, – ответила я, опустив глаза. – Все вокруг только и говорят, что о втором браке Вашего Величества, и, если Король соблаговолит выслушать мой совет, я присоединяюсь к мнению ваших приближенных. Франции нужна королева, а вам – спутница жизни. Ваше Величество не в том возрасте и расположении, чтобы оставаться вдовцом. И португальская инфанта…
– О, прошу вас, оставьте заботу о португальской инфанте! Это вас совершенно не касается, – сухо возразил Король и добавил, уже мягче, – но кто сказал, что вы должны удалиться, даже если я женюсь вторично? Разве вы не ладили с покойной Королевой?
– Разумеется, ладила, Сир, но Королева, несомненно, обладавшая высокими душевными качествами, не могла, однако, похвастаться ни умом, ни привлекательностью, которые помогли бы ей удерживать при себе и развлекать Ваше Величество. Совсем другое дело – такая юная и очаровательная особа как португальская принцесса, которая сумеет осчастливить Ваше Величество всеми радостями идеального брачного союза. И я стану более не нужна, да, впрочем, и новой королеве может не понравиться наша дружба.
– Даже если я женюсь вновь, мадам, я отвечаю за доброе отношение королевы к вам.
– О, королева, быть может, и согласится терпеть меня, если вы будете настаивать на этом. Но я сама не захочу более вашей дружбы на таких условиях. Я не стала отнимать вас у покойной королевы, напротив, вернула вас любящей супруге. Теперь же, если я попытаюсь сохранить нашу дружбу, дело будет обстоять совсем иначе. Я буду грешницей перед Богом, мешающей Вашему Величеству всецело отдаться новому брачному союзу, более того, побуждающей Короля вступить в этот союз с мыслью осквернить священные брачные узы изменою!
Король терпеливо слушал меня, но под конец начал проявлять некоторое раздражение.
– Вы огорчили меня, мадам, – сказал он. – Я полагал, что вы питаете ко мне более прочные дружеские чувства.
– О, я питаю к Вашему Величеству чувства куда более нежные, чем дружба, и именно это придает мне решимости расстаться.
– И все-таки, скажите, Франсуаза, к чему вы стремитесь?
Не знаю, как у меня вырвался «находчивый» ответ, более уместный в беседе с аббатом Тестю, нежели с королем Франции:
– Я стремлюсь уехать в Ментенон, Сир… по Шартрской дороге.
– О, прошу вас, мадам, воздержитесь от подобных шуток. Я сейчас не расположен наслаждаться вашим остроумием.
Взяв портфель с бумагами, он встал и вышел, не прощаясь. Я решила, что погибла.
Однако назавтра он вернулся, приходил и во все последующие дни. Он беседовал со мною лишь о всяких пустяках и ни словом не поминал рассердивший его разговор. Потому я сама вернулась к нему. Я хорошо видела, что он понимал мои мучения, но собственное удовольствие ценил гораздо выше и решительно не желал, чтобы я покинула Двор. Однако, я со всех сторон слышала о его браке и не могла скрыть от него мои слезы. Они растрогали его, но никоим образом не сподвигли на решение пожертвовать мною или, вернее, собственными удовольствиями, Я на коленях умоляла его отпустить меня.
– Вы предпочитаете ваше минутное наслаждение спокойствию всей моей жизни! – сказала я ему однажды, рыдая.
– А вы, мадам, ставите свою гордость выше моего счастья! – сухо отвечал он мне.
Эти сцены буквально истерзали меня. После каждой из них Нанон и моя подруга Моншеврейль с трудом приводили меня в чувство: им приходилось сменять на мне рубашку, смачивать виски, отпаивать водою Святой Королевы или оранжадом, – так отхаживают боевую лошадь, перед тем, как вновь послать ее в сражение.
В один из первых сентябрьских дней Король повел меня на прогулку и, отойдя подальше от сопровождавших нас придворных, сказал: «Знаете ли вы, что убедили меня? Мое решение принято, я женюсь». Мы шли по берегу пруда Золотых Карпов, откуда открывался прелестный вид на двор Фонтанов. Глаза мои наполнились слезами при мысли о том, что я, быть может, в последний раз любуюсь этим живописным пейзажем. «Что ж вы молчите?» спросил Король, глядя мне в лицо. Я только и смогла, что покачать головою. «И вы не спросите, на ком я женюсь?» – «На ком же?» – через силу пробормотала я. В любом другом человеке я тотчас разгадала бы хитрый умысел, но Король даже при самых вольных шутках неизменно сохранял вид самой полной серьезности. «Ну так вот, – сказал он торжественно, – я женюсь на Франсуазе д'Обинье». Слова эти, которые я сочла просто безжалостной насмешкою, точно кинжал, пронзили мое сердце. «Что с вами, мадам? Вам дурно?» – «О, ничего страшного, Сир. Обычное недомогание… Прошу извинения у Вашего Величества, но я не в силах продолжать прогулку. Я вижу там госпожу д'Эдикур, пусть она проводит меня до дома».
Сильно встревоженный моим полуобморочным состоянием, которое заставило шептаться весь Двор, ибо ничто не проходит незамеченным, когда на вас, словно в театре, глазеет публика, Король явился навестить меня, и я с ужасом поняла, что он и не думал шутить. Это меня так потрясло, что я побоялась и вовсе не оправиться от болезни.
Король объявил мне тоном человека, привыкшего повелевать и не желающего, чтобы его приказы подвергались обсуждению, что женится на мне, ибо не видит иного средства удержать меня при себе; что будущее его династии уже надежно обеспечено сыном и двумя внуками, которых дофина подарила ему, одного за другим; что иметь детей от второго брака значило бы посеять рознь в семье и смуту в государстве; что, наконец, ни перед Богом, ни перед обстоятельствами в нашем браке нет ровно ничего предосудительного.
– Но что скажут люди, Сир!.. Величайший Король на свете женится на вдове господина Скаррона!
– Ах, вы рассуждаете, как господин Лувуа, – отвечал он мне, – так я и отвечу вам на его манер. Всем известно, что я сам дарую или отнимаю знатность. И любая особа, удостоившаяся моего отличия, уже тем самым обретает благородное происхождение.
После чего он произнес длинную пылкую речь, стараясь доказать, что, женясь на мне, он поступает в высшей степени разумно, ибо что может быть разумнее, как не заключить, в возрасте сорока четырех лет, брак по сердечной склонности. «Вам ведь известно, что я отказался от такого союза в двадцать пять лет, ибо тогда не был себе хозяином; быть может, именно это обстоятельство и послужило причиною того, что я с тех пор часто впадал в грех. Теперь же я стал осмотрительнее и хочу обеспечить себе спасение. И женюсь на вас именно затем, чтобы спасти мою душу. Таковое соображение не может и не должно оставить вас равнодушною!..» Никогда еще не видела я Короля столь увлеченно излагающим свои аргументы: он походил на ребенка, который с умным видом разъясняет гувернантке, почему она должна простить ему его капризы. Впрочем, он был столь уверен в моем согласии, что посвятил в свое решение первого министра и духовника, прежде чем сообщить о нем мне; правда что если в этом деле кто-нибудь и мог возразить против, то уж никоим образом не я.
Итак, через тридцать два дня после кончины королевы я согласилась стать супругою короля Франции или, вернее сказать, узнала, что мне предстоит быть ею, и не осмелилась возразить.
Мы сообщили об этом лишь нескольким доверенным лицам; со стороны Короля то были господин де Лувуа, отец Лашез, архиепископ Парижский и первый королевский лакей Бонтан; что же до меня, то я посвятила в дело мою верную Нанон, Маргариту и Анри де Моншеврейлей, аббата Гоблена и госпожу де Бринон. Ни семья Короля, ни мои родственники ничего не знали.
Король колебался: он никак не мог решить, объявлять ли о нашем браке; тем не менее, он предложил мне сделать это. Я отвечала, что он и без того приносит большую жертву, женясь на мне, и что лучше держать наше супружество в тайне. Король весьма охотно согласился с моими доводами.
Если раньше мне приходилось изображать жену господина Скаррона, отнюдь не будучи ею, то теперь, вступив в настоящий брак, я должна была разыгрывать из себя прежнюю вдову. Поистине, мне никогда не суждено было узнать радостей нормального замужества.
И все же, могла ли я сетовать на судьбу?! Напротив, – я была на седьмом небе от счастья. Для полноты блаженства мне не хватало лишь одного: сообщить эту новость господину де Вилларсо. «Вы бредите, Франсуаза! Разве Вилларсо может жениться на какой-то госпоже Скаррон!» Когда-то эти его слова так сильно ранили мое сердце, что и впрямь только брак с королем мог излечить меня.
Фонтенбло плохо подходило для тайной церемонии, и Король решил, что венчание состоится в первую же ночь после нашего возвращения в Версаль, где легко было пройти в часовню через его апартаменты. Итак, в ночь с субботы на воскресенье 10 октября 1683 года в старинной часовне Версаля архиепископ Парижский, в присутствии отца Лашеза, Бонтана и Моншеврейля, обвенчал Людовика XIV с Франсуазою д'Обинье, вдовою Скаррон.