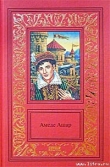Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Глава 18
«Гнев его терзает и враждует против меня…» – сказал Иов о Боге. Король Франции мог бы повторить эти скорбные слова, настолько очевидно было, что Господь прогневался на него за гордыню и пожелал обратить «в прах и пепел».
Было решено доверить командование войсками герцогу Бургундскому, которого Король, его дед, считал достаточно умным и сведущим, предпочитая в течение нескольких лет приглашать на военные советы его, а не Монсеньора, своего сына. Итак, ему отдали под начало Фландрскую армию, пополам с господином Вандомом. Я давно уже добивалась этого поста для маршала де Виллара, но маленькая герцогиня так радовалась почетному назначению своего супруга, что и я ликовала вместе с нею, когда герцог Бургундский отбыл из Версаля в Монс, где стояли лагерем 80 000 солдат.
Командование это окончилось полной катастрофою.
Герцог Вандомский, тучный гурман и сладострастник, живший в окружении поваров и «миньонов», не имел ничего общего с молодым принцем, тощим, робким, набожным, бросавшим чтение лишь ради религиозных процессий в городах, по которым проходила армия. Они так и не смогли поладить.
Правду сказать, решение послать принца сражаться на границу было непростительной ошибкою: герцог Бургундский никогда не скрывал своей антипатии к войне, рассматривая ее как бич для человечества. «Воевать с безоружными крестьянами, – сказал он как-то в присутствии Короля, – сжигать их дома, топтать их виноградники, рубить их деревья – все это подлость и разбой». Мне кажется, он испытывал такую же неприязнь и к управлению государством: господин де Фенелон, с коим принц поддерживал тесную дружбу, невзирая на разделявшую их дистанцию, привил ему столь решительное отвращение к несправедливостям правителей, что он не желал отягощать ими свою совесть.
Вандом хотел сражаться, герцог Бургундский не хотел этого, но он был слишком робок, чтобы одержать верх над своим кузеном. Армия разделилась на две партии – «вандомцев» и «бургундцев». Пока они препирались, враги их заключили союз. В Уденарде Вандом пошел в атаку один; герцог Бургундский отказался участвовать в сражении, которое почитал безрассудным, и его войска наблюдали за битвою, как смотрят пьесу в театре, с балкона. Затем принц, наперекор Вандому, скомандовал отступление, которое вылилось в паническое бегство, ибо солдаты не знали, кого слушать. Мы потеряли 25 000 человек. Мальборо разорил Артуа, а принц Евгений осадил Лилль.
Господин де Вандом и герцог Бургундский и тут не смогли договориться, чтобы спасти город. На сей раз отказался выступить Вандом, утверждая, что осада эта задумана как ловушка, дабы завлечь в нее принца.
Старый маршал де Буффле предложил Версалю свои услуги для защиты Лилля, Король согласился, и маршал отбыл тут же, не заехав домой, без багажа, на перекладных; давно не видели мы такого усердия и мужества в столь почтенном возрасте; однако, как умело ни была организована им защита города, после нескольких недель героического отпора пришлось капитулировать, за отсутствием поддержки со стороны. Герцог Вандомский и принц так и не сошлись в планах атаки на неприятеля, а Шамийяр, посланный Королем, дабы примирить их, прибыл слишком поздно и уже не мог повлиять на ход сражения.
Король глубоко переживал потерю Лилля, этого прекрасного, истинно французского города, одного из первых славных завоеваний своего царствования; его страшно уязвило позорное бездействие армии, пальцем не шевельнувшей для защиты осажденных; кроме того, он огорчался упреками придворных в адрес внука, считавшегося виновником всех этих бедствий; рассказывали, будто герцог Бургундский узнал о сдаче Лилля за игрою в волан и даже не прервал партии; его тетка, госпожа Герцогиня, никогда не упускавшая случая блеснуть остроумием, сложила песенку о трусливом принце, «опозорившем род Бурбонов».
Сама я была далека от того, чтобы взваливать всю вину на принца. Вандом, слишком легковерный и ленивый, на свою беду, презирал и потому недооценивал врага; я считала, что принц, поначалу вовсе не знакомый с военным делом, весьма разумно оценил ситуацию с Лиллем; кроме того, мне было до слез жаль мою принцессу. Я и не подозревала, что она до такой степени любит мужа, – до сих пор она скорее позволяла ему обожать себя, не отвечая на его ласки взаимностью, и принц, хорошо знавший мое влияние на свою супругу, жаловался мне на нее в умных, но грустных письмах. Однако, в данном случае принцесса выказала истинную и глубокую любовь к мужу: она горевала о том, что его первое самостоятельное деяние окончилось так несчастливо, разделяла его печали и волнения, желала битвы и боялась ее; при виде очередного письма сердце ее испуганно колотилось: она опасалась и за жизнь принца и за его репутацию; наконец, она решительно не переносила сплетен и насмешек, ходивших на его счет; в короткое время из весьма жизнерадостной особы она превратилась в одну из самых несчастных женщин в мире.
Я переживала это несчастье наравне с нею; придворные вслух объявляли, что Король допустил тяжкую ошибку в этой кампании, и что негоже делить командование армией между принцами и генералами. Во Франции всегда высказывались обо всем весьма смело; теперь, в дни поражений, смелость эта стала и вовсе несносною. Будь моя воля, я бы мигом отослала дерзких болтунов в армию или в их провинции, оставив при Дворе лишь полезных людей. «Сир, к чему вам такой огромный Двор, зачем кормить столько никчемных бездельников, которые отвечают вам черной неблагодарностью?!» – «На это есть свои причины, мадам», – отвечал Король, неизменно стойко переносивший все эти невзгоды.
Лилль пал, и мне чудилось, что неприятель уже завоевывает Францию, входит в Париж. При Дворе на всех лицах читался непритворный страх, доходящий до неприличия; стоило заслышать лошадиный галоп, как все уже в панике бежали, кто куда. Церкви были полны молящимися.
Крепость Экзиль в Дофинэ сдалась герцогу Савойскому даже без боя; на это Король сказал, что с некоторого времени вокруг творятся подлинные чудеса и что он перестал понимать французов.
Наконец, все пограничные крепости пали, и Франция осталась беззащитною со всех сторон; армия была отрезана от нас вражескими войсками. В несколько дней весь север страны был захвачен и разграблен дотла. Немцы простерли свою наглость до того, что послали отряд из двух десятков офицеров в окрестности Версаля с заданием взять в плен нескольких принцев крови, однако им удалось захватить лишь мелкую шушеру – нескольких гулявших придворных, которые мигнуть не успели, как очутились во Фландрии.
И все же Король не отчаивался. Он не мог передать мне даже малой доли своего мужества, но и я не могла заразить его ни одним из моих страхов. Твердо положив не вступать в переговоры с врагом, он отнял у Вандома командование, отозвал внука в Париж и поставил на их место Виллара, с приказом собрать воедино разрозненные, разбитые войска.
И тогда Бог, разгневанный таким упорством, нанес новый жестокий удар. Вслед за войною он послал нам голод.
Всю страну сковал ледяной мороз, какой бывает раз в столетие. «Вода Венгерской королевы» и самые крепкие настойки, замерзая, раскалывали бутыли, хранившиеся в шкафах комнат с каминами. Стужа сковала море и реки, земля промерзла на несколько локтей в глубину, погубив будущий урожай, не оставив ни фруктовых, ни оливковых деревьев в Провансе и Лангедоке, ни каштанов в Лимузене, ни орешника по всей Франции. Кончилось время спектаклей и развлечений, закрылись коллежи, ремесленники прекратили работу, торговля замерла. Волки бесстрашно рыскали даже на городских окраинах, нападая на курьеров и разносчиков, которые еще осмеливались выйти на улицу. Люди, как мухи, умирали от холода.
Худшее было, однако, еще впереди: уже в феврале 1709 года стало ясно, что нам грозит страшный голод, ибо морозы уничтожили хлебные посевы. В марте зерно начало расти в цене, и цена эта с каждым днем удваивалась. Начиная с апреля в Отель-Дье и в госпиталь Инвалидов начали поступать больные цингою; говорили, что это предвестие чумы. Мельницы остановились; самые благополучные семьи уже питались одними овсяными лепешками. Фландрская армия жила впроголодь, собирая рожь на полях военных действий. Мне подавали на обед только ячменные хлебцы и яйца, – овощи все вымерзли; бедняки же не имели ровно ничего; черные от голода женщины подстерегали меня на дороге и бросали своих детей мне в карету.
При Дворе рассказывали горестную историю о женщине, укравшей хлеб в одной парижской лавке. Булочник схватил ее; несчастная закричала, рыдая: «Если бы вы знали мою нужду, вы бы не отбирали этот хлеб; у меня трое голодных раздетых детишек!» Комиссар полиции велел отвести женщину к ней домой; там, и в самом деле, обнаружили троих малышей в лохмотьях, дрожащих в углу от холода и лихорадки. Он спросил у старшего: «Где ваш отец?» Ребенок ответил: «Там, за дверью». Комиссар решил взглянуть, что делает их отец за дверью, и в ужасе отшатнулся: бедняга в приступе отчаяния повесился. И подобные вещи случались каждый день.
Вскоре закрылись почти все городские рынки. Провинциальные городки бунтовали, когда от них требовали зерна для Парижа; мятеж охватил Руан, Клермон, Байонну и даже Лангедок; жизнь в Париже становилось все скуднее, хлеб дорожал и дорожал.
Весна принесла новые бедствия: некоторые кантоны пострадали от града, другие от наводнений, которые смыли молодые посевы, сгубив урожай в тех редких провинциях, где на него еще можно было надеяться; пошли разговоры о том, что нам нечего будет сеять в следующем году.
Как-то Король спросил у президента Арле, что нового в Париже; тот лаконично ответил: «Сир, бедняки мрут, а богатые занимают их место и становятся бедняками». На самом же деле новое было то, что все эти несчастные перестали умирать с покорностью.
Голод и нужда повсеместно возмущали народ; положение становилось угрожающим. Стоило принцам выехать в город, как их со всех сторон осаждали крестьяне с криками «хлеба!»; в их кареты летели камни; сам Король слышал угрозы, доносившиеся с улиц в окна Версальского дворца. Голод возбуждал в народе протест, который наши враги еще усугубляли. Торговки Парижского рынка осмелились даже собраться и пойти на Версаль с требованием понизить цены на хлеб; королевский полк остановил их на Севрском мосту, и женщины при виде заряженных мушкетов вынуждены были повернуть назад.
В августе возмутился весь Париж; в течение нескольких дней власти нанимали бедняков, чтобы срыть большой холм между воротами Сен-Дени и Сен-Мартен; вместо платы работникам раздавали хлеб, но однажды его не хватило. Тотчас люди побежали по улицам, грабя булочные; лавки спешно закрывались, беспорядок ширился, со всех сторон несся один грозный крик «хлеба! хлеба!». К счастью, в Париже случайно находился старик-маршал Буффле, столь же бесстрашный во время бунта, как и на войне; он один, пешком вышел навстречу разъяренной толпе, расспросил, чего хотят люди, и объяснил им, что таким способом они ничего путного не добьются. Его узнали, к нему прислушались; раздались приветственные крики: «Да здравствует славный маршал Буффле!» Наконец он утихомирил мятежников. Вечером, прибывши в Версаль, он вошел прямо ко мне, зная, что Король тут, рассказал, что его привело, и бесстрашно объявил, что мир необходим; Король выслушал его, поблагодарил и… отправил в Париж войска, а в Бастилию 8000 мушкетеров. Он ничего не изменил в своей политике.
В дни народных возмущений повсюду тотчас начинают звучать оскорбительные слова в адрес правителей; мне также доставалось не на шутку. На улицах распевали:
Говорят, что Ментенон
Забралась уже на трон.
Из-за этой старой шлюхи
Мы дошли до голодухи.
Меня собирались побить камнями, – простые люди были уверены, что я скрываю от Короля страшную правду, боясь его огорчить. Каждый день я получала анонимные письма, где меня спрашивали, не надоело ли мне «жиреть, высасывая кровь из бедняков», и не хватит ли грабить народ, «ибо все равно с собою в могилу не унесешь»; в некоторых посланиях меня обещали сжечь, как колдунью. Я утешалась лишь мыслью, что совесть моя чиста и что я не грешна в скупости: у меня не осталось ни гроша наличных денег и чтобы раздавать милостыню, мне пришлось продать кольцо, подаренное Королем.
Впрочем, самого Короля тоже не жалели: его обвиняли в расточительности, у него грозились отнять лошадей, собак, слуг, даже мебель; недовольные роптали повсюду, чуть ли не у него под дверью. Некоторые песенки, напечатанные голландцами, призывали народ взять пример с англичан, иными словами, подстрекали к прямому цареубийству:
Дед – фанфарон спесивый,
Сынок – прямой урод,
Внук – заяц боязливый,
Ну, прелесть что за род!
Несчастные французы,
Как жаль мне вас, друзья!
Избыть все три обузы
Неужто вам нельзя?!
Пример тому есть близкий,
И способ есть – английский!
Король приказал повесить на Гревской площади нескольких издателей, публиковавших оскорбительные стишки в его адрес, но я знала, что он никогда не сможет наказать тех, кто подстрекал рифмоплетов на все эти эпиграммы, сонеты и басни, постоянно ходившие по рукам, – для этого ему пришлось бы покарать виновных в собственной семье.
Голод и поражения собрали немалое количество приспешников вокруг дофина; в Версале эту партию называли «Медонским заговором». Недовольство режимом и жадное стремление захватить власть в свои руки постоянно увеличивали число сторонников Монсеньора, нетерпеливо ожидавших смерти Короля. Принцесса де Конти и ее сестра, герцогиня Бурбонская, весьма тесно связанные с их братом и мадемуазель Шуэн, не отходили от Монсеньора и открыто строили планы заговора; господин де Вандом, разъяренный своей отставкою и тем, что герцогиня Бургундская не желала с ним разговаривать, стал военным советником этого подпольного «Двора», а Шамийяр, у которого Король отнял министерство Финансов, передав его господину Демаре, служил дофину финансистом.
Все эти людишки вели свои дела шумно и без всякого стеснения; самые ловкие из них уже променяли Марли на Медон. Монсеньор, от природы робкий и покорный, был ослеплен этим нежданным ярким светом, вырвавшим его из забвения; его восхищала возможность уязвить, наконец, сына, уму и фавору которого он завидовал, и отца, которого всю жизнь боялся, и он не в последнюю очередь участвовал в поношениях власти. «Чудо, великое чудо! – кричали торговки на Парижском рынке, где Монсеньора любили и почитали. – Младенец сорока девяти лет наконец заговорил!»
Враги захватывали наши города один за другим; осенью они овладели Турнэ и уже подступались к Версалю, чтобы сжечь его; маршал де Буффле, добровольно служивший под началом Виллара, был вынужден покинуть армию при Кенуа, а самого Виллара ранили в бою. Союзники противной стороны щедро экипировали своих солдат и платили им вдвойне, дабы толкать наших на дезертирство.
И, однако, если не считать овсяных лепешек за обедом и траура по сыновьям или супругам, который носили многие дамы, жизнь при Дворе шла по-прежнему. Мы все так же ездили в Фонтенбло и Трианон, разве что теперь у нас были Марли-военный и Марли-траурный вместо Марли карнавального или театрального. Король, полагая, что миру ни в коем случае нельзя показывать уныние, охватившее нацию, пожелал даже устроить балы и представить в три месяца двадцать две комедии. Несколько знатных вельмож явились на эти балы между двумя сражениями, их нашли великолепными, невзирая на прискорбное наличие костылей. Тем не менее, торговцы более не желали поставлять Королю ткани и белье, поскольку им не платили; в воздухе пахло разорением.
– Наш Король был слишком прославлен, – сказала я однажды моей племяннице де Кейлюс. – и Господь решил унизить его, дабы спасти; Франция чересчур распространила свою мощь – быть может, и несправедливо, – и Он хочет заключить ее в более тесные пределы; французская нация чересчур осмелела, – Он напомнил ей о смирении. Нужно склониться пред Его волею.
– Ах, тетушка, не говорите так! Лучше примите участие в делах и добейтесь поскорее мира!
Прекрасные глаза Маргариты наполнились слезами. Ее шестнадцатилетний сын только что отличился в битве при Кенуа, но предстояли еще другие сражения, и она боялась за него; вдобавок она была достаточно умна и понимала, что королевство не в силах нести груз этой войны.
– Мадам, нам нужен мир, – твердил мне, в свою очередь, маршал де Виллар, лечивший в Версале свою рану. – Мир любою ценой. Я не могу долее возглавлять армию, которую нечем кормить…
– Месье, Бог поставил меня на это место не для того, чтобы я надоедала просьбами тому, кому хотела бы дарить лишь покой, в котором ему нынче отказано, – отвечала я. – До сих пор политические дела мне не очень-то удавались, большинство из них окончились несчастливо: я хотела, чтобы герцог де Бовилье и господин де Шеврез стали друзьями Короля, но с горечью вижу, что из этого не вышло ничего хорошего; я продвинула господина де Шамийяра в министры, как честного и усердного человека, а ныне признаю, что он разорил страну и сгубил армию; я с наилучшими намерениями сделала господина де Фенелона архиепископом Камбре, а господина де Ноая – архиепископом парижским, почитая их обоих преданными слугами Церкви, чуть ли не святыми, и что же? – один из них оказался квиетистом, другой же причинил Королю множество огорчений своими янсенистскими убеждениями. Отсюда следует, что я совершенно неспособна вести дела такого рода, ничего не понимаю в них и терпеть их не могу.
Однако, помимо моей воли, вокруг меня постепенно образовалась партия людей, желавших дать отпор «медонским заговорщикам» и склонить Короля к миру во имя сохранения величия и авторитета его власти; вскоре при Дворе эту партию окрестили «партией вельмож».
К ней примкнули самые блестящие военачальники – Виллар, Аркур и Буффле, новый Государственный секретарь по военным делам Вуазен, сменивший на этом посту Шамийяра, канцлер Поншартрен, племянник великого Кольбера и новый контролер Финансов Демаре, герцог дю Мен, мой племянник Ноай и герцогиня Бургундская. Видя, что партия эта пользуется поддержкою общественного мнения и авторитетом, который сообщал ей Буффле, любимец народа, я, в конце концов, решила откровенно объясниться с Королем.
Улучив момент, когда мой супруг был в благодушном настроении, я как могла мягко и убедительно заговорила с ним:
– Сир, я знаю, что вы готовы скорее погибнуть, нежели сдаться врагу; княгиня дез Юрсен держится того же мнения. Я же не могу отделаться от мысли, что лучше было бы все-таки уступить силе и склониться перед волей Господа, который столь явно гневается на нас. Король имеет куда более важные обязательства перед своим народом, чем перед самим собою; взгляните же, на что вы обрекаете его. Я не люблю оспаривать ваши мнения, но не могу скрыть от вас мои собственные: мы претерпели тяжкие испытания, от коих Франция сможет оправиться лишь при долгом и прочном мире.
Король ничего не ответил.
– Я понимаю, что мои слова не способны повлиять ни на войну, ни на мир, – продолжала я, – и говорю их так свободно лишь затем, что сознаю, сколь они незначительны; однако я слишком люблю Францию и не думаю, что нужно лишиться ее во имя спасения Испании.
– Я вижу, вы наслушались немало советчиков, сударыня.
Упрек этот заставил меня побледнеть, – он был незаслужен, ибо не я организовала и вдохновила «партию вельмож» и давно отказалась действовать окольными путями.
– Сир, – в гневе воскликнула я, – вам хорошо известно, что мое отношение к сильным мира сего весьма не похоже на общепринятое; я не стесняюсь доносить до них самые жестокие истины, касающиеся и дел и их личного поведения, но на публике всегда поддерживаю их во всем и буду вести себя так до последнего вздоха. Неужто вы в этом меня упрекаете? И разве я когда-нибудь хоть словом осудила перед людьми ваши поступки? Простите меня, Сир, – продолжала я уже мягче, всхлипывая, мне стыдно заводить с вами разговор о делах, в которых я ничего не смыслю, но бедствия, настигшие страну, повергают меня в такое отчаяние…
Иногда мои слезы трогали Короля сильнее, чем несчастья народа.
– Мадам, я намерен просить о мире, – сказал он мне через несколько дней. – Вы давно этого хотели; однако я сомневаюсь, что мы добьемся его.
В Голландию были отправлены послы. Госпожа дез Юрсен поносила меня на чем свет стоит и объявила в своем письме, что их Католические Величества никогда не согласятся покинуть королевство, которым правили целых девять лет. Король, со своей стороны, был готов ради Франции на любые жертвы, однако враги, опьяненные своими успехами, не ограничились территориальными притязаниями; сверх того они потребовали, чтобы король Франции повел войну против собственного внука и отнял у него трон, на котором испанцы хотели его оставить, взамен же обещали всего лишь двухмесячное перемирие, не желая вести никаких серьезных переговоров и надеясь на успехи будущих своих военных кампаний.
Читая эти постыдные условия, я, как и все министры Двора, кипела от негодования. Король только сказал господину де Торси, что уж коли надобно продолжать войну, он предпочитает вести ее против врага, но не против собственных детей. Затем он написал воззвание к епископам, губернаторам и интендантам, попросив опубликовать его и читать во всех церквях: «Я хочу, чтобы те, кто в течение многих лет выказывали мне свою преданность ценою великих лишений, крови и потери имущества, ведя вместе со мною эту тяжкую войну, знали, что враги наши, в ответ на мои предложения мира, согласились лишь на двухмесячное перемирие, каковое позволит им воспользоваться преимуществами еще более значительными, нежели ранее. Пусть народ мой узнает от вас, что, будь на то моя воля, мы тотчас заключили бы мир, которого он столь справедливо жаждет, но поскольку все мои старания дать ему покой и благоденствие остались втуне, понадобятся новые усилия, дабы отвоевать мир».
Король пустил в продажу все свои драгоценности, надеясь, что иностранцы хоть что-нибудь заплатят за них; отослал всю оставшуюся серебряную посуду на Монетный двор и призвал других следовать его примеру; кроме Буффле и меня, отдавшей в переплавку посуды на 14 000 франков, никто с этим не спешил, однако, на вырученные деньги и двадцать миллионов золотом, нежданно доставленных нашим флотом из Мексики, мы смогли закупить зерно за границей, накормить народ и, таким образом, спастись от мора. Господин Демаре, со своей стороны, всеми силами старался восстановить кредитоспособность государства; даже сам Король снизошел до того, что устроил в Марли пышный прием в честь богатого финансиста Самюэля Бернара: нам уже не на что было содержать войска. Господин Бернар, рассыпаясь в любезностях, заплатил требуемую сумму, после чего объявил себя банкротом.
– Господин маршал, – сказал Король герцогу де Виллару, который вернулся в армию, – я желаю вам удачи; если же она изменит вам, то я, самый старый французский солдат, попрошу вас о чести сражаться под вашим командованием и погибнуть на поле боя.
В другой раз он объявил на Совете:
– Я готов идти во главе моих дворян защищать остатки королевства и сражаться за каждый город, за каждую речушку; а дальше пусть будет, что будет.
Не желая отставать, я заверила Короля, что отныне столь же твердо привержена войне, как ранее миру, и не покину его, где бы мы ни оказались, на другом берегу Луары или среди Пиренейских гор. «Хорошо еще, – добавила я с улыбкою, – что я, в моем возрасте, уже не так люблю путешествия!»
Величие и твердая решимость Короля, неподвластные даже разгрому, голоду и бунтам, произвели впечатление на всех; едва лишь условия, выдвинутые врагом, стали известны народу, как отовсюду раздались крики возмущения и призывы отомстить: французы, то ли вспомнив о чести нации, то ли подгоняемые голодом, толпами повалили вступать в армию. «Чтобы накормить полки, идущие в бой, я заставляю поститься тех, кто остается в арьергарде, – писал мне Виллар. – В таких случаях я сам обхожу солдат, уговариваю их потерпеть и радуюсь, слыша в ответ: «Господин маршал прав, ради победы можно и попоститься».
К концу года нам удалось укрепить армию, и она сразилась при Мальплаке с принцем Евгением и Мальборо; хотя неприятель имел превосходство в инфантерии и пушках, он потерял вдвое больше убитыми, чем наши полки, которые ушли с поля битвы в боевом порядке, с развернутыми знаменами, превратив свое полупоражение в истинную викторию. Нация воспрянула; казалось, Франция уже спасена.
И тогда Бог нанес Королю третий удар.
Сперва заболел сам монарх; одно время мы даже опасались за его жизнь. Близившийся разгром, переутомление, а также, по словам господина Фагона, обильная пища привели к появлению нового абсцесса; Короля мучил сильнейший жар, я не на шутку перепугалась. Король очень удивился, когда я поделилась с ним моими опасениями: что станется со страною, если он умрет? «Мадам, такое место, как мое, никогда не бывает вакантным, – сказал он. – Всегда найдется родственник, который займет его».
Он весьма гордился тем, что имеет самую многочисленную семью среди всех государей Европы; когда, в некоторые вечера, она собиралась в его кабинете, зрелище было и впрямь удивительное: сам Король, Монсеньор – его сын, герцог Бургундский его внук, и юный герцог Бретонский – его правнук, в ту пору четырехлетний мальчик. Живописцы неустанно запечатлевали на полотне этот поразительный род, вызывавший всеобщее восхищение. Наследование казалось тем более надежным, что кроме герцога Бургундского и короля Испании, монарх имел еще одного внука в лице герцога Беррийского, а кроме маленького герцога Бретонского – еще одного правнука, герцога Анжуйского, только что рожденного на свет моей милой принцессою. Всего же в королевской семье насчитывалось тридцать принцев и принцесс крови.
И Господь поразил Короля, лишив его этой последней гордости, последнего утешения.
Утром 9 апреля 1711 года дофин собирался на волчью охоту, как вдруг почувствовал такую слабость, что упал со стула. Король, вернувшись из Марли и узнав эту новость, решил тотчас ехать в Медон и находиться рядом с сыном, какова бы ни была эта болезнь. Я отправилась вместе с ним.
Король виделся с дофином по утрам и вечером, а иногда еще и днем; остальное время он, как обычно, работал с министрами. Мадемуазель Шуэн забилась на чердак и навещала своего супруга, лишь тогда, когда Король покидал его спальню. Принцесса де Конти, напротив, не отходила от изголовья больного, самоотверженно ухаживая за ним.
Прошло три дня, и стало ясно, что это оспа. Все мы с волнением ждали кризиса. Сам же Монсеньор не переставал дивиться случившемуся, твердя: «Мне ведь пятьдесят лет, – и откуда взялась эта оспа!»
Во вторник Король вошел ко мне в сопровождении господина Фагона и сказал: «Я только что видел сына и едва удержал слезы, – жалость берет смотреть на него! За три-четыре часа у него до неузнаваемости распухло все лицо, глаза заплыли и уже почти не открываются. Но меня уверяют, что при этой болезни всегда так бывает; госпожа Герцогиня и принцесса де Конти говорят, что с ними происходило то же самое. Правда, что ум его ясен; он даже сказал, что надеется завтра встретить меня в лучшем здравии». После этого Король сел работать с Вуазеном и Демаре.
В одиннадцать часов к нему пришли с сообщением, что Монсеньор очень плох. Спустившись к дофину, он застал его в судорогах и без сознания. В это время как раз явился медонский кюре, ежедневно заходивший справляться о больном. Догадавшись по испуганным лицам слуг, что конец близок, он крикнул прямо с порога: «Монсеньор, раскаиваетесь ли вы, что грешили и тем оскорбляли Господа нашего?» Хирург Марешаль, который держал бившегося в конвульсиях дофина, заверил кюре, что тот сказал «да». Кюре продолжал, все так же громогласно: «Будь вы в состоянии исповедаться, вы сделали бы это?» Марешаль опять ответил, что принц прошептал «да», более того, – сжал ему руку. Тут вошел наспех одетый отец Детелье, новый духовник Короля, и дал принцу отпущение грехов.
Какое горестное зрелище предстало моему взору, когда я, внезапно разбуженная, вошла в большой кабинет Монсеньора: Король сидел подле умирающего сына; глаза его были сухи, но все тело, с головы до ног, сотрясала судорожная дрожь; госпожа Герцогиня в отчаянии ломала руки, принцесса де Конти была потрясена до глубины души, придворные молчали; горестные возгласы и рыдания нарушали тишину лишь в те мгновения, когда всем казалось, что больной испускает последний вздох… Наконец, во дворе загремели экипажи Короля. Он сел в карету первым, я вошла следом и поместилась рядом с ним; госпожа Герцогиня и принцесса де Конти заняли передние сиденья. Когда карета уже тронулась, Король заметил в темном углу двора Поншартрена и, подозвав его, велел собрать назавтра в Марли остальных министров для очередного Государственного совета, всегда проходящего по средам.
В дороге принцессы умоляли Короля не крепиться и поплакать: на него страшно было смотреть. Но он так и не пролил не слезинки. Госпожа Герцогиня, напротив, то испускала душераздирающие крики, то внезапно погружалась в оцепенение: со смертью Монсеньора она теряла все, да и «медонскому заговору» приходил конец.
Заехав на минуту в Версаль, чтобы увидеть герцогиню Бургундскую и сообщить ей об этой кончине, сделавшей ее мужа дофином, мы прибыли в Марли, где нас не ожидали и потому ничего не приготовили, – не было даже простынь и ночных рубашек. В доме царил ледяной холод, камины не топились. Слуги не могли разыскать ключи от комнат, свечи или хотя бы огарки. Нам с Королем пришлось ждать в передней до четырех часов ночи, пока мы наконец смогли улечься в постель.
Умирая, Монсеньор сплошь покрылся багровой сыпью, – торжественные похороны были невозможны. Тело поспешно сунули в возок; священник, несколько стражников и дюжина факельщиков сопроводили его в Сен-Дени и опустили в склеп; вот она – цена земного величия!
Я не слишком сильно горевала о дофине, который, сам того не понимая, воодушевлял партию, враждебную Королю; как человека я его ни в грош не ставила, как принца – не жалела, ибо он всегда ненавидел герцога дю Мена, часто завидовал собственному сыну и третировал мою милую бедняжку-герцогиню; нужно сказать, что и она приняла эту потерю с чисто формальным сочувствием.
Зато Король, в первые дни после похорон, прямо-таки пугал меня своим видом. Мне кажется, он наконец почувствовал тяжкий гнет десницы Господней. Однако я не придала его скорби слишком большого значения, будучи убеждена, что моя дофина сумеет быстро развеять ее: печаль Короля редко бывала продолжительною. Тем более, что во всех жестах, манерах, речах дофины, даже самых обычных, таилось неодолимое очарование. Она была воплощением беззаботной, неуемной радости.