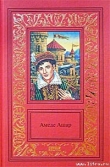Текст книги "Королевская аллея"
Автор книги: Франсуаза Шандернагор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
В течение нескольких недель, показавшихся нам долгими, как месяцы, мы жили и кормились чужими щедротами. Одна добрая женщина, плетельщица стульев и родственница той старой служанки, что последовала за нами в Америку, пустила нас в каморку под лестницей, без окна и камина, в своем убогом домишке возле порта. Как ни жалок был этот приют, мать не выходила за порог, боясь показаться в городе, где она все еще не вернула Ла Плюму и другим кредиторам деньги, одолженные три года назад, по отъезде на острова.
Потому-то она и возложила на Шарля и меня, которых не могли узнать местные буржуа, заботу о милостыне, получаемой на прокорм семьи. Шарль принял это поручение с легким сердцем, для меня же оно было сущей пыткой. Раз в два дня я ходила с глиняным горшком за супом в привратницкую иезуитского коллежа, где мать немного знала одного из наставников, отца Дюверже. Привратник, хотя и предупрежденный отцом-иезуитом, оказывал эту услугу весьма неохотно и выдавал мне хлеб и суп с презрительной миною и угрюмым ворчанием. Однажды я пригрелась в уголке у камина и не сразу заметила, что горшок уже полон и я могу нести еду домой; тогда он пребольно шлепнул меня по щеке, чтобы вывести из задумчивости, со словами: «А ну, убирайся отсюда, маленькая оборванка!»
Можно умереть от холода или голода, но, стоит избавиться от этих напастей, как они забываются. Однако, если вы хотя бы единожды претерпели стыд, то уж он будет терзать вас всю оставшуюся жизнь. Никакие румяна не смогли стереть жгучие следы той пощечины и презрительных или жалостливых взглядов, коими встречали меня прохожие, когда я возвращалась босиком, грязная, промокшая до нитки, в нашу лачугу, с горшком супа в руках.
Наконец, прибыла тетушка и вытащила нас из этой нужды. Тут же все устроилось: проезжая через Ниор, она повидала баронессу де Нейян, мою «почетную» крестную, и вместе они решили, что Шарль, которого мать давно уже мечтала отдать в пажи, поедет в Ламот-Сент-Эре и будет служить у графа де Парабера, губернатора Пуату и зятя баронессы. Кроме того, госпожа де Нейян предложила отправить мою мать в Париж, с тем, чтобы отыскать там моего отца; покидая нас, он сказал, что направится именно в этот город для переговоров с господами из торговой Компании. Что же до Констана, то он должен был ехать в Мюрсэ, – мой дядюшка де Виллет собирался пристроить его в какой-нибудь военный гарнизон; мне тоже предстояло провести зиму в имении, пока родители мои уладят свои дела и вернутся в Ниор.
Но человек предполагает, а Бог располагает. Мы строили планы, не зная о том, что мой отец уже два месяца как умер. Оказалось, что он не был в Париже, а, покинув нас, отправился в Лондон, оттуда во Фландрию, в Лион и, наконец, в Оранж, где и скончался под чужим именем, так и не осуществив задуманное путешествие в Константинополь. По правде сказать, я думаю, что бедняга был подвержен душевной болезни, называемой в Пуату «горячкою»: тот, кто ею страдает, не в состоянии усидеть на одном месте, где бы ни находился.
Тем же октябрем 1647 года мы не знали и другого – что моему несчастному брату Констану осталось жить всего несколько недель, и что мне уже больше не суждено увидеть свою мать живою.
Впрочем, даже будь мне известно, что я осиротела, я бы вряд ли сильно горевала.
Итак, я равнодушно глядела вслед госпоже д'Обинье, уезжавшей от нас по парижской дороге; на прощанье, вместо тщетно ожидаемого поцелуя, я получила от нее лишь совет – «жить, опасаясь всего со стороны людей и ожидая всего со стороны Бога».
Глава 5
Я нашла Мюрсэ сильно переменившимся. Правда, что и сама я вернулась туда совсем иною.
Американские ливни, под коими все росло гораздо скорее, чем под французским солнцем, помогли и мне быстро развиться и созреть. Я выглядела старше своих двенадцати лет и была даже чуточку выше моего кузена Филиппа, которому сравнялось пятнадцать; однако то, что я выиграла в росте, я потеряла в душевном развитии. Будучи в возрасте, когда еще не осознаешь смысла вещей и мироздания, я за короткий трехлетний период увидела столько новых мест и пережила столько приключений, что душа моя вышла из них расстроенною и смущенною, а нрав стал злым и дерзким. Если в детстве я была жизнерадостной болтушкою, то теперь не смеялась вовсе, а говорила чрезвычайно мало. Окружающие люди и события воспринимались мною с тупым безразличием; я научилась ожидать от жизни всего, кроме счастья (хотя на островах вовсе не была несчастною), вернее сказать, я более не надеялась обрести то мирное счастье, которое дарует телу покой, а душе ясность.
Находясь в таковом состоянии, я поначалу затруднялась беседовать с моими кузенами де Виллет. Да и можно ли было признаться им, что деревня, дом, семья, о которых я так горько тосковала в разлуке, обманули мои воспоминания, разрушили надежды?! Я хранила в памяти образ цветущего зеленого края, светлого замка, прелестных детей. Но, прибыв сюда дождливой осенью, увидела холодное, мрачное и грязное захолустье; отсыревшие стены сочились водою, почва обратилась в сплошное болото. Кузины мои, еще не вышедшие замуж, показались мне унылыми старыми девами, вдобавок, весьма провинциального вида и сильно подурневшими; что же касается дядюшки, то он никогда не ездил дальше Марана и не знал ровно ничего, кроме своей Библии и счетов; по нескольким внушениям, которые он мне сделал, я убедилась, что он являет собою тип самого ограниченного протестанта.
Смерть брата Констана, найденного утонувшим в крепостном рве замка, всего через несколько дней после нашего прибытия, окончательно подавила меня. До сих пор не знаю, как это произошло. Позже я часто спрашивала себя, уж не решил ли несчастный, обиженный жизнью юноша покончить с собою. Тот факт, что мне и доселе неизвестно, где он похоронен и лежит ли в освященной земле, доказывает, что подозрения мои не беспочвенны. Однако, если я и не узнала, где его погребли, то по самой странной случайности знаю час похорон. Два дня спустя после несчастья я сидела в комнате кузины Мари и глядела на Сьекский лес за рекой, как вдруг у подножия замка появились Урбен Апперсе, Пьер Тексерон и Тома Тиксье; они вынесли гроб, погрузили его на плоскодонку и взошли на нее вместе с моим дядею. Судно медленно пересекло реку по направлению к лесу, высадившись на берег, трое мужчин подняли гроб на плечи и скрылись в чаще. Я еще долго видела огонек фонаря, которым дядя освещал им путь; потом он померк, а вместе с ним и память о брате; никто более никогда не заговаривал о нем.
Я продолжала сидеть у открытого окна, облокотясь на подоконник и устремив взгляд в темноту. Протекли минуты, а, может быть, и часы, но я не замечала, что вся застыла от холода. Когда вошедшая Мари вывела меня из этого странного оцепенения, я даже не сразу смогла пошевелить оледеневшими пальцами. Несколько дней после того меня мучила лихорадка, но я не задавала никаких вопросов и скрывала слезы.
Глубоко убежденная, что в Мюрсэ мне не суждено обрести долгожданное спокойствие, что я рождена на свет, дабы претерпеть все мыслимые мучения, все потери и разлуки, я просила Господа оказать милость и забрать меня к себе так же мгновенно, как это случилось с Констаном.
Но, поскольку умереть, когда хочется, невозможно, даже от тоски по другим умершим, я пережила мое первое отчаяние. Тетушка воспользовалась этим доказательством моего здоровья, чтобы начать терпеливую осаду моей души, чьей первой наставницею она была, безраздельно руководя ею в течение семи-восьми лет. Она с замечательным умением и добротою принялась по камешку восстанавливать это обрушенное здание и на сей раз ей удалось выстроить его нерушимо крепким. Не обижаясь моим молчанием, отказами или резкими возражениями, что изредка вырывались у меня, искусно прибегая в нужный момент к нежности или твердости, к ласкам, увещеваниям или религии, она сумела открыть мое замкнувшееся сердце и успокоить смятенный разум, снова вверенные ее попечению.
Она заполнила пустые часы безделья множеством занятий, изгнавших мою скуку – шитьем, вышивкою, даже плетением корзин, – и следила за тем, чтобы у меня в руках всегда была какая-нибудь работа. Пустоту же моего сердца она заполнила любовью к Богу, прекрасно зная, что Отец небесный воздаст мне тою же любовью куда вернее, чем земной мой родитель, и уж, по крайней мере, ничем не обманет моих надежд.
В мое первое пребывание в Мюрсэ тетушка преподала мне христианскую мораль и основные религиозные заповеди. Теперь же она приобщала меня к истинной вере. Каждый день, во время тех очаровательных и остроумных бесед, коих секретом она владела в совершенстве, я узнавала о сладости божественной любви, о свете благочестивых упований. Она учила меня, что молиться нужно так же просто и естественно, как дышать, в ожидании, когда свет Господен осияет мою душу. Она сделала меня своею помощницей в благих делах: раз в неделю я должна была самолично раздавать беднякам милостыню у подъемного моста замка. И, наконец, она сразу поняла, что мне, в моем душевном смятении, необходима постоянная религиозная практика; единственной религией, которую она могла предложить мне, было протестантство, и тетушка решительно, без сомнений, которые смущали ее до моего отъезда в Америку, посвятила меня в его обряды; я не только сопровождала ее на воскресные проповеди, но выучила наизусть катехизис пастора Дреленкура, научилась петь кальвинистские псалмы и гимны, читала еретические сочинения реформаторов и присоединяла свой голос к молитвам моих близких.
Мало-помалу, под влиянием этой доброй святой феи, я вновь обрела вкус к жизни и силу любить. С приходом лета ко мне вернулись цветы на полях и забытые детские игры. Я кувыркалась в сене вместе с Мари и Филиппом; игры в прятки и в «вора-сыщика», салки, кегли, бабки – все забавляло нас, все было в радость; я искуснее других играла в бирюльки, где главное – вытащить «короля»; могла ли я видеть в этом пророчество?!
Моя мать, приехавши в Париж, узнала одновременно о смерти мужа, которого ненавидела, и единственно любимого ею сына. Отныне ничто не связывало ее с Ниором. Она перестала писать нам; мы сочли бы ее умершею, если бы тетушка совершенно случайно не узнала, что золовка ее живет в крайней нищете, в каморке при меблированных комнатах прихода Сен-Медар; бедной женщине приходилось тяжко работать, чтобы добывать себе пропитание, ибо она располагала всего двумястами ливров годового пенсиона; притом она ни от кого не хотела принимать помощи, но тетушка все же переслала ей немного денег через госпожу де Ла Тремуй.
Судьба госпожи д'Обинье огорчала меня, когда о ней говорили в моем присутствии, но в остальное время я заботилась о ней не более, чем она обо мне. Я считала себя членом семейства де Виллет и стремилась поскорее забыть годы, прожитые вне Мюрсэ.
Зато я с удовольствием получала вести о моем брате Шарле, жившем всего в нескольких верстах от нас, в замке Ламот-Сент-Эре. Здоровье его было прекрасно, поведение же оставляло желать лучшего. Лишенный родительского надзора и руководства, которые были ему весьма необходимы, он скорыми шагами шел по пути своего отца, и его детская шаловливость превращалась у пятнадцатилетнего пажа, каковым он стал, в настоящее беспутство. Меня это печалило, – я питала к Шарлю теплые чувства, – однако, расстояние, нас разделявшее, и мой юный возраст не позволяли мне бранить его, и я только просила Господа осенить моего брата своею милостью.
Так прошло более года. Я стала прежней Бинеттою, прежней Франсиною – живой, смешливой любимицею окружающих; мне шел тринадцатый год, и я была беспечна, как лилия на лугу, как птица в небе. Сидя на полу парадной залы у ног тетушки Артемизы, я клала голову ей на колени и зарывалась лицом в ее передник, слушая, как взрослые обсуждают планы замужества моих кузин. Я заранее радовалась тому, что надену, по случаю их свадьбы, прелестное кружевное платье, из которого выросла Мари, и буду в этом наряде танцевать пуатевинский бранль, который уже довольно хорошо освоила, как вдруг, в один момент, я навсегда лишилась и возможности совершенствоваться в пуатевинских танцах и, что еще печальнее, любви и нежности милого семейства де Виллет.
Моя «почетная» крестная, госпожа де Нейян, с которой я не встречалась со дня своего крещения, прослышав от нескольких усердных сплетников, что мой религиозный пыл и отличное знание псалмов служат примером для всех протестантов от Ниора до Ларошели, сочла своим долгом вырвать меня из столь зловредного окружения. Зная, что я сирота, она вспомнила, что ей некогда вверили заботу о моем спасении, и, выставив предлогом мое католическое крещение, добилась от королевы Анны письменного предписания об опеке. Влиятельность Параберов, особенно, дочери госпожи де Нейян, Сюзанны, состоявшей фрейлиною при мадемуазель де Монпансье, племяннице регентши [11]11
Имеется в виду королева Анна Австрийская (1601–1666), которая была регентшей при сыне Людовике XIV с 1643 по 1661.
[Закрыть], позволила моей «крестной» в самые короткие сроки получить подпись королевы. Таким образом, в самый канун моего тринадцатого дня рождения у наших ворот с большой помпой явились судебный пристав и несколько стражников. Дядя и тетушка были потрясены до глубины души, но как воспротивиться королевскому указу?! Пришлось тут же передать меня этим людям, которые под конвоем, словно воровку, отвезли меня в Ниор, к госпоже де Нейян, намеренной отныне самолично заняться моим воспитанием.
В первое время я плакала день и ночь, ничего не умея делать наполовину, но, поскольку никто в моем новом обиталище не собирался меня утешать, я осушила слезы, затаила свое горе и решилась терпеливо ждать, надеясь, что моя мать выскажет свою волю в этом деле. Однако, меня постигло жестокое разочарование: тетушка де Виллет не смогла разыскать ее в Париже. Оказалось, что госпожа д'Обинье давно покинула столицу и обосновалась в провинции Сентонж, в Аршиаке, где у нее имелась какая-то родня и где она жила, заботясь о судьбе Шарля и моей не более, чем прежде; она так и не узнала о новом, поразившем меня несчастье, и я осталась в руках госпожи де Нейян.
А руки эти не отличались ни нежностью, ни щедростью и довольно скоро ослабили свою хватку. Благородное дело воспитания, на которое моя «крестная» так рьяно претендовала, быстро прискучило ей, превзойдя ее способности. Обращение мое и впрямь было делом нелегким: я отвечала на благодеяния моей опекунши лишь дерзостями и жестоким отпором, весьма для нее неприятными. Вскоре баронессе де Нейян надоело угрожать и наказывать; у ней достаточно было других занятий, например, парижских развлечений и придворных обязанностей, которые удерживали ее в столице большую часть года. Поэтому, в одно прекрасное утро, она сдала меня сестрам-урсулинкам на улице Кремо.
Монахини эти, недавно появившиеся в Ниоре, не занимались детьми благородного происхождения, – тех поручали бенедиктинкам, – но воспитывали девочек из буржуазных семей. Госпожа де Нейян решила, что воспитание, которое дается детям торговцев, без сомнения, подойдет бедной сироте, с боем вырванной из логова еретиков.
Монастырь урсулинок располагался в приходе Святого Андрея, на самом высоком холме города. Он высился над Реграттери, Рынком и кварталом Богородицы, примыкая к крепостной стене рядом с башнею Безумия; помещение, где жили тогда пансионерки, было не очень велико – четыре комнаты внизу, служившие классами и столовой, шесть спален на втором этаже для нас и сестер, два птичьих двора и два обширных сада, где нам позволяли играть в свободные часы. Всюду царили опрятность и удобство, если не считать тесноты.
Сначала меня провели в комнаты старших пансионерок, там я сложила в шкаф свою одежду. Это не заняло много времени, осмотр моих нарядов был бы не длиннее обхода «моих ферм»: весь мой гардероб составляли пара тафтяных чепчиков, два дрогетовых платья, семь передников и шейная косынка. Косынку эту мне подарила тетушка. Прижав ее к сердцу, я разрыдалась, но тут же заставила себя осушить слезы и взбодриться; в этом новом доме, куда меня забросила судьба, я могла рассчитывать лишь на себя самое, и следовало глядеть во все глаза, чтобы не допустить промаха.
Затем классная дама и настоятельница повели меня к учительнице; это была молодая монахиня по имени сестра Селеста, обладавшая необыкновенным умом и талантом к воспитанию, за что ей и поручили, невзирая на юный возраст, занятия со старшеклассницами. Не знаю, отчего, но я с одного взгляда, без памяти полюбила эту женщину.
Думаю, что в первую очередь она поразила меня своею красотой. И, хотя впоследствии я часто раскаивалась в собственной восторженности, мне никогда не удавалось сопротивляться женской или детской красоте. Даже и нынче стройная фигура, свежий цвет лица, большие глаза неизменно восхищают меня в той же мере, в какой неприятны горбатая спина или угрюмый взгляд.
Сестра Селеста, которая даже при Дворе произвела бы фурор своею красотой, блистала ею в монастыре. Это было тем более удивительно, что одежда урсулинок крайне неприглядна, – другие монашки в своих чепцах «пирожком», с длинными, ниспадающими до пояса «ушами», выглядели, как старые крестьянки; лицо же сестры Селесты под тем же нелепым головным убором сияло ангельской белизною, овал его был безупречен, рисунок рта необычайно изящен. Нежный взгляд и кротость выражения сочетались с остроумием и живым, веселым нравом. Она пленяла все сердца как обликом, так и речами.
Сестра Селеста быстро поняла, как опасно мне противоречить. Жесткая, безапелляционная манера обращения госпожи де Нейян, радевшей скорее о моем теле, нежели о душе, которой она ничего не могла дать, отнюдь не способствовала моему обращению в истинную веру. Хуже того, она убила во мне смирение и кротость, подобающие юной девице, и я по любому поводу и без оного выказывала упрямство и строптивость. Сестра Селеста не стала прибегать ни к угрозам, ни к посулам. Она действовала лишь спокойным убеждением, не принуждала меня к посещениям церкви, к которой я прониклась живейшей ненавистью и где могла устроить настоящий скандал, провозгласив, подобно моему деду, что «католическая вера для меня страшнее костра». Я была твердо убеждена, что причащение Иисусу Христу с помощью облатки граничит с идолопоклонством, и скорее пошла бы на смерть, чем встала на колени перед алтарем; она со мною не спорила. Мне разрешалось есть скоромное в постные дни и молиться на протестантский манер. Сестра Селеста ограничилась тем, что дала мне книги, способные раскрыть глаза на заблуждения реформаторов, в ожидании, пока милость Божия сделает остальное. Я вышла из Ниорского монастыря той же гугеноткою, что и вошла, однако, стала куда более сговорчивою.
Впрочем, не уверена, что причиной смягчения моего нрава стало умное руководство моей наставницы; скорее, этому помогли любовь и нежность, коими она прониклась ко мне. Моя же любовь к ней была столь сильна, что когда, несколько месяцев спустя, я покинула монастырь, сердце мое разрывалось от горя, и я, в наивности своей, просила у Бога только одного – чтобы он поскорее прибрал меня, – не зная, как мне жить дальше, в разлуке с нею.
Моя любовь, жгучая, как и все чувства, отравленные душевным одиночеством, окончилась лишь с жизнью сестры Селесты.
И, однако, нынче, когда я пишу эти строки, мне с большим трудом удается отыскать под пеплом былого следы этого пламенного обожания. Ничто не бывает нам так чуждо, как ушедшая любовь. Лишь воспоминание обо всех уступках, на какие я шла ради нее, свидетельствует о том, что я ее любила, но сердце мое молчит, в нем не сохранились ни жар, ни муки этого горячего чувства. О нем, как и о многих последующих, я могу лишь сказать, КАК оно проявлялось, но давно уж забыла, ПОЧЕМУ, словно все это произошло не со мною, а с другими.
Однако, и это хрупкое счастье в монастыре на улице Кремо оказалось недолгим. Госпожа де Нейян, олицетворенная скупость, надеялась воспитать меня, не кормя, и отослала монахинь за оплатою моего содержания к тетушке де Виллет; та, вполне резонно, отказалась платить за мое обращение в католичество, и борьба между двумя тетками, родной и названою, продолжалась довольно долго, не принося в казну настоятельницы ни гроша. Вначале монахини не осмеливались сказать свое слово, – госпожа де Нейян, вдова бывшего губернатора Ниора и мать нынешнего, выступала патронессою городских монастырей, и дамы с улицы Кремо обхаживали ее, как могли. Но, в конце концов, после нескольких осторожных предупреждений, а затем и более настойчивых требований, также оставшихся втуне, они решили, невзирая на мольбы Селесты, выставить меня вон. Благочестивые сестры, коим по роду их занятий следовало проявлять милосердие, все-таки предпочитали худородных, но аккуратно плативших пансионерок заблудшим овцам, нуждавшимся в бесплатном спасении.
Вот почему к началу лета 1649 года я вновь очутилась в особняке Франсуазы де Нейян, которая и не подумала заколоть тучного тельца в честь моего возвращения. Впрочем, у этой дамы тучных тельцов не подавали к столу ни при каких обстоятельствах.
Принужденная кормить меня, она согласилась на это лишь в обмен на услуги с моей стороны и вручила мне ключ от своего чердака, приказав отмеривать овес для лошадей и зерно для кур. Я была погружена в скорбь разлуки с моею доброю Селестой, и унижение это оставило меня равнодушною. К тому же, если нужно было учиться хозяйничать, то отчего бы не начать со скотного двора?! Меня тяготило другое: из скупости баронесса держала меня раздетою: я росла так быстро, что мои убогие дрогетовые юбки, привезенные от урсулинок, уже не достигали лодыжек; но госпожа де Нейян рассудила, что девушке столь юного возраста можно выставлять напоказ ноги, и одежда моя продержится еще с год. Если не считать этого плачевного состояния моего гардероба и службы на конюшне госпожи де Нейян, со мною обращались не хуже, чем с кузиной Анжеликой, младшей сестрою моей крестной Сюзанны, впоследствии графини де Фруле. Баронесса отказалась от намерения обратить меня в католичество и, хотя одевала, как Золушку, и поместила в каморке своей горничной, я все же не считалась служанкою и вела примерно тот же образ жизни, что и ее дети.
Особняк де Нейянов в Ниоре всегда был полон гостей, даром что хозяйка никогда и никого не приглашала к столу; семейные связи, ослепительная красота старшей дочери Сюзанны, в ту пору девушки на выданье, дух великосветской придворной жизни – все это привлекало сюда самых заметных людей провинции. Я понемногу обтесалась в их обществе, рассталась с манерами пансионерки и крестьянскими чепчиками, научилась думать и рассуждать, предпочитая, правда, богословские диспуты светской болтовне.
Лучшим моим наставником в знании света был Антуан Гомбо, шевалье де Мере, который владел небольшим имением близ Ларош-Сент-Эре, но большей частью жил в Париже, вращаясь в самом изысканном обществе. Это был человечек крошечного роста, но в высшей степени элегантный, надушенный, охотно выступавший арбитром в светских беседах и развлечениях; после участия в нескольких морских баталиях он решил обратить свою отвагу на завоевание салонов и сменил шпагу на перо. Он тесно дружил с Паскалем, Бальзаком, Менажем, Клерамбо [12]12
Паскаль Блез (1623–1662) – французский мыслитель, ученый и писатель. Бальзак Жан Луи Гез, сеньор де (1595–1654) французский писатель. Менаж Жиль (1613–1692) – французский писатель и поэт, автор т. н. галантных стихов. Клерамбо Луи Никола (1676–1749) – французский композитор и органист.
[Закрыть]и другими светлыми умами своего времени, однако и сам сочинил несколько трактатов – «О подлинной честности», «О красноречии», «Об изяществе речи», «О знании света». В пору нашего с ним знакомства он как раз интересовался воспитанием детей из знатных семейств, о чем также хотел писать трактаты; я пришлась кстати для его опытов: ему нравилось знакомить меня с античными авторами, которых сам он прекрасно знал, учить геометрии, в коей он почитал себя великим специалистом, показывать карты и глобус, приправляя свои объяснения латынью и греческим. Он также приносил мне романы, столь поразившие мое воображение, что даже собственные злоключения трогали меня меньше, чем эти, вымышленные. Госпожа де Нейян, заметив, что я увлеклась этим опасным чтением, велела мне оставить его; я повиновалась.
И, однако, впечатление от описанных страстей навсегда врезалось в мою душу, оставив в ней глубокий, хотя и неопределенный, след. Нужно заметить, что мои чувства вполне могли бы обратиться на самого шевалье; к счастью, этого не случилось. Зато господин де Мере и впрямь увлекся своей четырнадцатилетней ученицею и объявил об этом в стихах, где, памятуя о моей жизни на островах, прославил под именем «прекрасной индианки». С этого дня меня знали в Ниоре только под этим пикантным прозвищем, которое доставило мне репутацию красавицы, в то время вовсе не заслуженную.
Господин де Мере не нравился мне: во-первых, он был скорее стар, чем молод, и, вдобавок, я находила его немного смешным; меня раздражала его манера изъясняться, и в беседах и в стихах, столь витиевато, путано и темно, что трудно было уловить спрятанную за словами мысль. Но все же его увлечение весьма льстило мне. Самые драгоценные сердечные победы – это первая и последняя. Поэтому я терпела мадригалы шевалье и позволяла ему восхвалять мои достоинства во всех книжных лавках Ниора и Ларошели. Кроме того, я была ему признательна за то, что он обучал меня правилам хорошего тона и правилам грамматики, перемежая свои наставления тяжкими вздохами и томными взглядами.
Вот так и шло мое обучение, как вдруг госпожа де Нейян, собравшаяся провести конец зимы в Париже, решила взять меня с собою. Она уселась в карету, запряженную шестеркой лошадей, поместила рядом мою кузину Анжелику, а я поехала следом на крупе мула, везущего вместе со мною багаж и дорожные припасы. В эдаком «экипаже» – который, правду сказать, был не так уж плох, ибо тогдашние возки не отличались большими удобствами, я и въехала в столицу. Если бы я не боялась показаться провинциалкою, то первым делом удивилась бы великому множеству домов и людей в этом городе. Вторым моим впечатлением были необыкновенная грязь и зловоние на улицах. Из-под копыт мула летели брызги черной жижи, грозя запачкать мне юбку. Грохот повозок, крики прохожих и зазывания торговцев овощами, сыром, подержанной одеждою, песком, рыбой, водой и прочими необходимыми вещами окончательно повергли меня в ужас.
Я пришла в себя лишь после того, как мы въехали во двор особняка, где жил Пьер Тирако де Сент-Эрман, кузен госпожи де Нейян и мажордом Короля. Баронесса занимала второй этаж дома, выходившего окнами на предместье Сен-Жак, близ ворот Сен-Мишель, и на задний фасад Орлеанского дворца. Здесь она жила не менее прижимисто, чем в Ниоре; и сама госпожа де Нейян, и ее дочь Сюзанна доводили свою скупость и расчетливость до абсурда, не позволяя даже топить камины в своих спальнях и довольствуясь лишь маленькой жаровнею, вокруг которой собирались погреться все домочадцы. Что же до еды, то о приличном столе и мечтать не приходилось: госпожа де Нейян не взяла в Париж своего повара, разгневавшись на него за то, что он попросил у ней денег на шпиговальную иглу. «Вот так-то и разоряются богатые семьи, Франсуаза! – провозгласила она мне. – Подай ему, видишь ли, шпиговальную иглу! Моему зятю такие иглы влетели в тысячу двести франков. Шпиговальную иглу, скажите пожалуйста! Да я лучше велю готовить обед моему привратнику!» Так она и распорядилась, и трапезы наши, ранее скудные, стали и вовсе нищенскими. Однако ж, и здесь, как в Ниоре, в доме не переводились гости.
Увы, мне не пришлось насладиться их обществом: едва я сошла со своего мула, как баронесса отвела меня к урсулинкам на улицу Сен-Жак. В Ниоре она еще позволяла мне изображать гугенотку, но в Париже это выставило бы ее в самом невыгодном свете. Не могла же она сознаться при Дворе, что ей не удалось вернуть на путь истинный свою воспитанницу, вот она и поручила меня урсулинкам, не столько желая обратить в католичество, сколько для того, чтобы спрятать от чужих глаз. Не решаясь, однако, сказать прямо, что снова намерена запереть меня в монастыре, она предложила мне посетить его для свидания с одной живущей там родственницей. По дороге я догадалась, что меня хотят оставить в монастыре и, едва отворились двери, как я, вместо того, чтобы расцеловать свою кузину в привратницкой, опрометью кинулась внутрь, лишь бы не доставить госпоже де Нейян радости приказать мне войти туда. Я не вольна была распоряжаться своею судьбой, но не желала идти на поводу у обманщиков.
Как только я пулей влетела в монастырскую залу, монашки, знавшие о прибытии еретички, устроили маленький спектакль, каждая на свой лад: одна убежала, испуганно крестясь, другая, напротив, подошла со словами: «Малютка, если вы пойдете слушать мессу, я подарю вам «Агнус» или конфетку!» Я уже была достаточно взрослой, чтобы видеть всю смехотворность их уловок, вызывавших одно лишь отвращение. Ни их страхи, ни посулы не трогали меня, и уж, конечно, я не нуждалась в их иконках и сластях.
Тем не менее, госпожа де Нейян имела все основания радоваться результатам моего пребывания на улице Сен-Жак. Я начала уставать от преследований, вызванных собственным упрямством. Твердость, выказываемая мною в эти долгие месяцы неравного боя, объяснялась более гордостью, нежели убеждением в своей правоте, и с тех пор, как я познакомилась с Мере и другими стихотворцами, мне нравилось проявлять эту гордость в светских успехах, а не в религиозном мученичестве. Поразмыслив как следует, я решила, что могу взывать к Богу на любом языке, коль скоро он, как заверяли взрослые, услышит меня, если захочет: сия остроумная философия была весьма недалека от самого злостного вольнодумства.
Итак, монашки с улицы Сен-Жак, приступившись ко мне с угрозами и уговорами, поощрениями и карами, с удивлением обнаружили, что дело уже наполовину сделано. Я убедилась, что от меня не требуют ничего особенного: мне не нужно было, подобно новообращенным католикам, торжественно отрекаться от ереси, а всего лишь добровольно признать свое католическое крещение, слушать мессы и причащаться. Нежность, которую я питала к тетушке де Виллет, уступила место любви к сестре Селесте, и сердцу моему был почти безразличен исход этого теологического поединка.
Я только попросила, чтобы от меня не требовали признать мою тетушку Артемизу проклятою. Мне это позволили, и я проделала все, чего от меня ждали.
Монашки с улицы Сен-Жак приписали себе заслугу сего нежданного успеха и за то, что я способствовала их славе, готовы были даже содержать меня бесплатно. К счастью, госпожа де Нейян сочла, что теперь меня можно показать в свете без ущерба для репутации, и, дождавшись первого причастия, увезла из монастыря, о чем я совершенно не жалела.