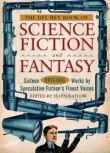Текст книги "Сделка"
Автор книги: Элиа Казан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Глава вторая
Теперь о «двойном».
У меня было две работы. В «Вильямсе и Мак-Элрое» я зарабатывал на жизнь, другая работа – была для меня смыслом жизни.
Суть ее составляли статьи, которые я называл для себя «каждому по заслугам». Некоторые из них, даже учитывая, что написал я их давно, и поныне разяще убийственны. Думаю, после рекламной патоки для моих истинных чувств должен был быть выход.
В колледже воплощением справедливости для меня являлся Линкольн Стеффенс. Повзрослев, я пошел по его стопам и искал, находил и разоблачал, тем самым помогая уничтожать, всевозможных негодяев, опасных для общества и морали. Статьи публиковали разные журналы – «Харперз», «Атлантик», а один раз даже «Партизан Ревью». Деньги, и немалые, которые я получал за работу головой и пером, были для меня огромным подспорьем и являлись еще одной причиной, по которой я занимался письменным творчеством. Деньги – проблема вечная, порой влезаешь в долги (в Калифорнии цены высоки, как нигде) – я был вынужден занимать у самого себя, то есть у тех, кто давал мне вторую жизнь. Они были честными партнерами и, помимо перевода заработанных сумм на мой счет, часто предоставляли и другие виды помощи, такие, как оплата транспортных расходов, услуг секретаря.
Статьи являли собой тот столп, на котором покоилось мое самоуважение. Как большинство людей мира, я часто говорил неправду (понимая это и относясь к этому как к должному): здесь соврешь, там; соврешь, когда обстоятельства вынуждают; соврешь, когда иначе нельзя; соврешь, чтобы не вызвать ссору; солжешь на благо, солжешь, приукрасив… и так далее, и тому подобное. Моя артистическая натура позволяла даже расширять диапазоны вранья, но, как ни крути, я должен был так поступать – слишком много нервов я потратил, говоря нежелательную кое-кому правду. Но я не забывал успокаивать себя тем, что единственным местом, где я ни на йоту не отходил от истины, являются эти самые статьи.
Получалось просто чудесно – «двойник» и я прекрасно сосуществовали во мне одном. Их договор был крепок и надежен. Агентство оплачивало текущие счета: дом, хозяйство, служанку, садовника, страховку, гаражи, удобства, тряпки жены и услуги ее чертова психоаналитика доктора Лейбмана, тряпки дочери и ее, не стоящее таких кошмарных денег, обучение в Радклиффе и, наконец, такие обыденные вещи, как пропитание и напитки. Другими словами – всё!
При таком жизненном раскладе быть непривередой и хватать что придется – просто глупо! Я писал статьи какие хотел и как хотел. Я бы писал их и бесплатно, но за них ведь еще и платили! И хорошо платили! Ну разве плохо осознавать, что у тебя есть счет, всегда готовый к услугам! А коли «Вильямс и Мак-Элрой» оплачивали все, даже отпуска, я занимался творчеством для души и от души. Вы очень удивитесь, если узнаете, сколько людей на свете делает то же самое и славно себя при этом ощущает! Я прочитал где-то, что поэт Уоллес Стивенс, оказывается, работал или работает (жив ли он?) в управлении какой-то страховой компании в Коннектикуте.
Итак, можно сказать, что нас, то есть меня, было двое. Хотя и эта цифра неполная. По правде говоря, списочный состав моих «я» включал в себя еще многих. Начать объяснения надо издалека: я – старший сын человека по имени Серафим, который родился в Анатолии и был завезен в Америку своим старшим братом Ставросом, который, в свою очередь, первый в нашем роду Топозоглу пересек Атлантику. Ставрос очутился на острове Эллис в 1899 году и первое, что сделал, – сменил имя на Джо Арнесса. Несколько лет спустя, когда он привез моего отца, заставил и его сменить имя и фамилию. Только круглый идиот не поймет, что в бизнесе с именем Серафим делать нечего, – где угодно, только не в Соединенных Штатах! И отец стал Сэмом – Сэмми для покупателей, опекающих живого и обязательного маленького грека, Сэмми Арнесса, Восточные Ковры и Подстилки.
Человек, изменивший фамилии своего рода, всегда ощущает себя немного предателем. Поэтому, когда у Сэма родился сын, он попытался смыть грех и окрестил мальчика Эвангелосом. Это был я. В списках колледжа я значился как Эвангелос Арнесс. Ребята сократили мое имя до Эдди (какое я испытал облегчение!). Женился я, если верить водительским правам, будучи Эдвардом Арнессом. После войны начал с рекламы – но быстро, я должен был попасть в ногу со временем. У людей в агентстве фамилия Арнесс вызывала легкое недоумение, особенно если учесть мою якобы бело-американо-протестантскую стопроцентность, – ушла в прошлое и фамилия Арнесс. Я стал Андерсеном. (Идея мистера Финнегана. Я был его любимцем, и он лично исправил недостаток в моей фамилии. Я был польщен.) Когда же наступило время статей, то Арнесс всплыл снова. Разумеется, до Эвангелоса дело не дошло, а Эдди было слишком распространенным. Имя дала жена – Эванс. В итоге: на одной работе я был Эдди Андерсон, на другой Эванс Арнесс, жена звала меня Эв, мать – Э-э, отец, когда не называл меня «Шекспиром», звал Эвангеле-е.
Неудивительно, что драма моей жизни имеет прямое отношение к тому, какую маску я напяливал на себя по утрам. Но проблем до Гвен не было, все «я» мирно уживались в одном лице и, стреляя по целям, редко оставляли черный круг мишени нетронутым.
Вот что представляла из себя та структура, которую я начал подталкивать к пропасти, двинувшись тем вечером к телефону.
Я сказал Гвен, что сейчас приеду, и она не ответила ни приглашением, ни отказом. То, что было обыкновенной холодностью в Гвен… впрочем, что ломать голову – это и была холодность! Но, размышлял я, возвращаясь к столику, разве все остальные не притворяются, выказывая более теплое отношение, чем чувствуют на самом деле? Разве не притворяются, что они более уверены в том, в чем они не так уж уверены? Когда Гвен не ощущает что-то определенное, а именно так мы себя чувствуем почти всегда, она молчит. Не выход из проблемы человеческих отношений, но все же лучше, чем тот сироп, который каждый из нас льет друг на друга в «процессе общения».
За столом я переплюнул во вранье самого себя. В офисе жуткая ситуация, на физиономии – обеспокоенность вселенская, театр одного актера, страдалец за «Вильямса и Мак-Элроя»! Швырнув на стол билеты, я сказал им: «Досиживайте. Встретимся в театре, как только верну все на круги своя!» (Круги? Какие круги?)
Не знаю, поверили ли моим словам. Меня это не остановило. Дейл, со ртом, полным шоколадного крема, смотрел подозрительно и обиженно. Потом Флоренс сказала мне, что он имел полное право обижаться, ведь до этого я настоял (Я настоял? Да когда я вообще настаивал?), чтобы он проконсультировал нас по поводу капиталовложений, и вот, когда он все обобщил и приготовился прочитать нам полный курс, я гордо уплыл в неизвестном направлении.
Другими словами, я сбежал. Ни о чем не мог тогда и думать. Вырвался из ресторана, опустил верх машины (прическа Флоренс разлеталась от ветра) и помчался, чувствуя огромное облегчение. Полная свободу и токсичный бриз. До Гвен я добрался за рекордно короткое время – за десять минут.
К моему удивлению, она излучала теплоту и гостеприимство. Обычно я понукал себя сразу начинать то, что мы обычно делали, лишь только встречались в укромных местах. Успокаивая тем самым и себя и ее, что все идет как надо. Но в тот день она была так мила, что мы просто сели рядом и поговорили. Она сказала, что все уже решила за нас. На мои протесты она не по-женски возразила: «Эдди, твоя жизнь устоялась, она – оформлена! Если же ты попробуешь изменить ее, то все полетит к чертям! А ты не из тех, кто любит… Да, да, пусть останется, как было до сегодня. Что ты сказал? Все было восхитительно, и нам было хорошо!»
Гвен сделала то, что должен был сделать я. Другими словами, она облекла в слова то, о чем я думал несколько часов назад сам.
Но мне почему-то казалось, что конец еще не наступил, и я продолжал играть обиду и непонимание. Думаю, я притворялся так долго, потому что вообще потерял способность что-либо чувствовать. Неужели я по правде не хотел, чтобы она исчезла из моей жизни? Я убеждал ее всеми доступными способами, но… заскучал бы через месяц разлуки? Или через неделю? Или я говорил ей как человек, убежденный в том, что порядочный и честный мужчина в подобной ситуации поведет себя именно так, как я бы хотел, чтобы обо мне думали все, включая меня самого?.. Я уже ничего не знал.
Она бросила взгляд на часики, ойкнула и вскочила. Самолет улетал в полночь, а она еще не начала собираться. Я прилег на кровать и стал смотреть на нее. И тут почувствовал, что мое «я» отделилось от плоти… Жизнь, сама моя жизнь неспешно покидала меня! А я лежал и не делал ни малейшей попытки, чтобы остановить ее. Я, казалось, более ни на что не был способен. Лежал и смотрел, как уходит от меня она – моя жизнь.
Гвен поняла, что со мной происходит, и пришла. Она целовала и ласкала мое лицо. Повторяла, что любит меня, но связь пора прекратить. «Ты еще будешь благодарен мне… – говорила она. И потом: – Не надо, Эдди. Не надо…»
Спустя минуту одежды на нас не оказалось. Я шептал ей, что я думал после стольких осторожных месяцев, говорил, что чувствую. До этого дня я ни разу не сказал ей, что люблю ее, даже не употреблял этого слова. Оно, казалось, могло дать ей какую-то власть надо мной, которую я никому не хотел давать (какую власть?), или оно могло ослабить мои позиции (какие позиции?). За все наше с ней время мы избегали этого Слова. Оба, как я понимал, стремились хоть что-то оставить нетронутым. Но в тот вечер меня прорвало. Я сказал. Потом еще и еще. Я говорил ей, что она – единственная женщина в мире, которая для меня сама жизнь. И неожиданно для себя я ударил Гвен по лицу ладонью. Со всей силы. Не от гнева, а чтобы она поверила в мои слова. В мое Слово. Или я хотел доказать самому себе, что верю в сказанное?
Пощечина пробила брешь в последнем форте завоеванной мной крепости. Она сдалась и начала льнуть ко мне. Она плакала, и в ее поведении не осталось ничего от той маленькой, едва заметной сдержанности, которую она до этого не позволяла окончательно отринуть от себя. Я – южанин, но годы взрослой жизни приучили меня застывать на краю пропасти неконтролируемых эмоций, а годы детства – не плакать. Но в тот вечер я плакал вместе с ней и прижимал ее к себе со страстью, доселе не испытанной. После чего она забыла и про часики, и про самолет.
Мы лежали рядом, успокоенные. Она думала о своем, я – о своем. Могу вспомнить, о чем я тогда думал, но даже сейчас мне стыдно за себя. Какой же я был сноб! Мы лежали, оплетя руками друг друга, а в моей голове шевелилось: «Ну как ты мог дойти с девчонкой до такого откровения? Как ты можешь рисковать своим положением ради нее?» Ведь я считал себя выше ее. И всего лишь спустя минуту после огня и бури начал изумляться, с чего вдруг такое неистовство. Глубоко в сердце я по-прежнему был согласен с людьми из офиса и с тем, что о ней говорили. Я думал о ней как о «приземленной». Стыдно, стыдно вспоминать сейчас об этом! В конце концов, я и сам немногим отличался от нее в некоторых вещах.
Но тогда я думал: «Мой интеллектуальный уровень выше ее! Да что там говорить – я для нее слишком хорош! Вспомни ее произношение и ударения в „умных“ словах!» Даже духовно я причислял себя к более высокому кругу, потому что был идеалистом и либералом. Сейчас я, разумеется, антикоммунист, но все еще ношу в голове очень прогрессивные задумки. А тогда я обладал весом в обществе, философски выражаясь, был поборником гуманизма, безграничным оптимистом. А кто была Гвен? Обыкновенное дерьмо, отрыжка, звереныш с защитной маскировкой, с хронической неосознанной разрушительной силой. (Я – строитель, она – разрушитель!) «Гвен заслуживает презрения, она – полная противоположность мне, полная! Другими словами, Гвен – монстр, выдающий себя за прекрасную молодую женщину».
И всего лишь несколько минут назад я всей душой хотел одного – любить ее! Я ужаснулся. Ну как, как я мог ее жалеть? Что же со мной происходило???
* * *
Спустя пару часов, внутренне вернувшись в лоно «двойника», внешне я вернулся домой. Лег на свою половину супружеской кровати, слушая ворчание Флоренс про Билтмор. Я извинился, попросив ее смолкнуть, чтобы я мог поспать. Гвен и эмоции вымотали меня. Но Флоренс не унималась – «Камелот», искусство Алана Лернера, в сопоставлении с искусством мистера Уайта, который написал первую по этой теме книгу и которую она считает лучшей. Бедняжка, думал я, засыпая, бедняжка! Последнее, что слышал, было: «Эв, ты спишь?» Я не ответил, потому что спал.
На следующее утро, по дороге на работу, я издевался над собой за экскурс в дебри эмоций. Все завершилось, сказал я себе, следующим: отныне Гвен является твоей официальной любовницей. Ты должен организовать ей дом, должен заботиться о ней. Но в будущем, кто знает, чем все обернется? Посему снова – держи ушки на макушке!
Она стала моей содержанкой. Я не верил, что за этим последует нечто большее в случае ее настойчивости, хотя сказано было по максимуму. «Всегда» и «навсегда», тщательно избегаемые мной даже с Флоренс, были произнесены. И не раз. Девочки – мои бывшие любовницы – все как одна знали, что в этой жизни все временно, я всегда держал дверь черного входа нараспашку, чтобы в случае, если дома или еще где-нибудь ситуация становилась опасной, иметь запасной выход. А если быть предельно откровенным, то в ящике моего бюро лежал запечатанный конверт с пятьюстами долларами. На случай внезапного исчезновения под рукой имелась приличная сумма. Свобода была моим фетишем.
Для Гвен необходимо было изобрести новый вид взаимоотношений. Новый договор, не касающийся остатка моей личной свободы и одновременно удовлетворяющий ее. Я нес полную ответственность за слова, сказанные в пылу страсти: «Ты – моя женщина, и я не хочу жить без тебя!» Черт возьми, но в самый пик в постели я сказал гораздо больше. «Здесь ты был опрометчив! – произнес я вслух, поворачивая „Триумф“ на стоянку офиса. – Ты даже наплел ей, что хочешь видеть ее своей женой. Чего ты никак не хочешь. И никогда не хотел!»
И ведь это была сущая правда! Никогда я этого не хотел, даже мысли такой не возникало. Потому что, о Боже, мне нравилась Флоренс. Я, по сути дела, любил ее, и договор между нами был крепок. Кроме того, ставка была очень велика. Я имею в виду финансы. Если дойдет до этого… «Смотри в оба!» – сказал я себе. Многие меня поймут, эмоции – опасная штука! А я-то думал, что с ними, с чувствами, уже покончено!
За ланчем я встретил Гвен. Она была серьезна и спокойна. Такая сосредоточенная, такая уравновешенная, такая моя… Удивительно! Я даже забеспокоился. Но потом мы заговорили, и она сказала мне то, что я давно в глубине души хотел услышать.
Она любит меня. Но презирает мою работу. Мою профессию. Мое занятие достойно отвращения. Она слишком любит меня, чтобы спокойно смотреть, как я это делаю. Слишком сильно любит, чтобы безучастно наблюдать, как я веду себя, подобно остальным в агентстве. Потому что я другой, сказала она. Я не должен прожить жизнь, занимаясь враньем о качестве какой-то, не имеющей ко мне никакого отношения, продукции.
Тем более работать на людей, которых я презираю. Неужели я презирал свою работу?
– Да, – подтвердил я. И сразу же стал презирать ее. И почувствовал накопленную за многие годы ненависть к ней.
Гвен продолжала говорить. А моя гордость, долго спавшая, очнулась от летаргического сна. Как же долго она пребывала в коме? Я взглянул на Гвен, на любимую женщину, и почувствовал восхищение и даже благодарность.
А потом я рассказал ей о своей второй жизни: о журналах, о статьях и о том, как много они значили для меня. Гвен странно посмотрела на меня и задалась вопросом, как это так, при нашей с ней близости, я успешно хранил в тайне немаловажную часть своего «я». Ту часть, которая так много значила для меня. (Единственная деятельность, где я честен перед миром и собой, сказал я.) Как это так, подняла она брови, она даже не догадывалась? Я ответил ей, что статьи публиковались под псевдонимом и что даже Эдди Андерсон, под которым она меня знала, тоже – псевдоним. Я поведал ей об Эвансе Арнессе, Эвангеле Топозоглу и об остальных. Но она не слушала. Она в изумлении рассматривала меня – в который раз удивляясь, как я мог сохранить вторую жизнь, второе имя в полном секрете?
Я был польщен и объяснил ей, что анатолийские греки, как, впрочем, и другие национальные меньшинства, в силу своего положения на родине, всегда были вынуждены вести себя скрытно. В моем случае к прирожденной скрытности добавлялось действие Большого Закона Торговли: а именно, никогда не оглашай без нужды более того, чем надо, чтобы бизнес шел без помех. Играй в покер во всем!
Я сказал ей, что недавно получил задание от постоянного заказчика на приличную статью о новой фигуре, выходящей на национальную сцену. Мою новую цель звали Чет Колье, и, как предполагалось, статья должна была убить его, желательно, чтобы он даже не успел осознать этого. Такова моя специальность: заводить с объектом атаки дружбу, завоевывать его расположение, узнавать его слабые стороны, затем писать статью. Несколько недель спустя объект, к своему полному изумлению, обнаруживал залп по себе в прессе. Но ответить на огонь ему уже нечем; каждая цитата проверялась им лично и была точна до запятой. Что-что, а уж это я проверял особенно тщательно!
Вместе с заданием пришли два толстых конверта с отобранной информацией по «предмету». Я всегда настаивал на личном изучении объекта, и поэтому мне предоставляли деньги на ассистента и командировочные на двоих. На командировках я настаивал особенно, так как в трудовой договор с агентством они входили особой, удобной для меня статьей. Временами жизнь давала трещину – опостылевший Лос-Анджелес и затхлость существования требовали отдушину, – я ненадолго менял географию. Это служило достаточным основанием, чтобы не разбираться с проблемами напрямую. Иногда Флоренс напрашивалась в попутчицы, особенно если командировка была в Нью-Йорк (магазины, театры, культура), и я был вынужден идти на хитрости, изобретая предлоги, чтобы отправиться одному. Теперь снова мне предстояло, не вызывая подозрений у жены, исхитриться и улизнуть на берег Атлантики с помощницей, мисс Гвендолен Хант.
Я сказал Флоренс, что направляюсь прямиком к некоему мистеру Колье, в его резиденцию около Уэстона, Коннектикут, и что, поскольку он представляет из себя особый тип мужлана-супермена, я проведу массу времени за столом, заставленным отнюдь не соками, и наверняка разговор наш будет принимать грубоватые формы. Присутствие женщины наложит свой отпечаток, а это нежелательно для дела. Флоренс согласилась с моими доводами. Затем я обманул ее в другом. Ее естественное предположение, что я полечу в Нью-Йорк, было ошибочным. Я намеревался проехаться поездом и провести с Гвен два дня и три ночи в отдельном купе. Билеты пришлось приобретать лично, а секретаршу (Флоренс имела с ней ежедневные контакты) озадачить с самолетом.
Задумка удалась. Два дня и три ночи мы с Гвен наслаждались столь продолжительной близостью. Охранял и лелеял ее старый милый негр-проводник, которому я дал двадцать долларов в начале поездки, а не в конце. Он все понял правильно – мы ни в чем не нуждались, ничего не просили и даже не вылезали из купе. Время, проведенное в затворничестве, пошло нам на пользу в чисто житейском плане. Мы ведь ни разу не проводили ночь целиком вместе и не знали привычек друг друга. Да, собственно, и окно-то мы расшторивали всего два раза за весь долгий путь. Оба раза снаружи было темно – ночь длиной в шестьдесят часов.
Помнится, как мы подняли шторку первый раз. Поезд сделал остановку, мы проснулись в объятиях друг друга и решили, после обсуждения, рискнуть бросить взгляд на внешний мир. Выглянув, обнаружили, что находимся где-то в Колорадо. Старик, путевой рабочий, шел вдоль состава, проверяя молоточком буксы, в вагон-ресторан грузили горную форель, ту самую, как выяснилось на следующий день, которую нам подали на завтрак. Когда подняли шторку во второй раз, мы ехали мимо озера Эри, Пенсильвания.
В Нью-Йорке, в отеле «Алгонкин» нас ожидал номер для мистера Эванса Арнесса, прибывшего по делу, о котором никто ничего не знал. Даже оператор лифта, знающий абсолютно все! Горничные сообщили ему, что мистер Арнесс работает не покладая рук, а его ассистентка, занявшая маленькую комнату, примыкавшую к люксу, ночь провела с ним. Новость распространилась по персоналу. Но никто не придал ей особого значения, так как ничего необычного в том не было. Мистер Арнесс и раньше приезжал с ассистентками и тоже спал с ними. Было вполне понятно, что такая шишка, как мистер Арнесс, требовала обслуживания по высшему классу.
Первые дни в гостинице мы посвятили исследованию. По его данным, республиканская партия прочесывала страну в поисках подающих надежды политиков. Таких, на которых она могла рассчитывать. Чет Колье был надеждой «слонов» Западного Коннектикута. Я читал и перечитывал его публичные выступления, делая пометки на полях для обозначения нужных цитат. Трудно было поверить, что на суждения, изрекаемые Колье, кто-то возлагал надежды. Но ведь в нашей стране был и Голдуотер! И я вскоре начал верить, что этот нонсенс действительно был произнесен. Затем я почувствовал, что могу хорошенько размять мозги в ходе обработки этого малого. Редакторы журнала соображали, что делают, предлагая Колье именно мне. Нет, они ни на чем не настаивали и ничего не советовали: зачем? Они заранее знали, что мой ответ фигуре Колье будет броском ястреба на разъевшегося голубя.
По пути к Колье я рассказал Гвен, что знал сам. Мы ведь учились с ним в одном колледже. Я был пешка, один из многих, а Чет представлял фамилию, широко известную по всей Новой Англии. Его сразу же воткнули – я помню тот июньский день – в почетное общество старшекурсников, к тому же он принадлежал к братству Дельта Каппа Эпсилон, был «Деке». А я был мойщиком посуды в кампусе Зета Пси. Эра моечных машин еще не пришла, и моя одежда источала ароматы мойки все четыре года обучения. По этой причине и по многим другим я все еще горел желанием отомстить.
Увидев Чета, я сразу понял, что он ни капли не изменился. Сомнений по поводу своей персоны у него не возникало и раньше. Он относился ко всем остальным людишкам со снисходительностью человека, раз и навсегда уверовавшего в свое превосходство. Он ни перед кем не распинался, его существованию ничего не угрожало, достойных соперников ему не встречалось, и поэтому он ни к кому не испытывал неприязни. С румяными щеками, подвижный и легкий на подъем, он, казалось, только что прибежал с разминки. Пил он умопомрачительные дозы, но, по-моему, ни разу не заплатил цену хорошего похмелья. Таких мартини, какие делал Чет, я не пил никогда – они были сухие до горечи. Он водил английскую машину с двумя сиденьями (как я) и говорил в своих речах, что предпочитает автомобили британского производства. Более того, он утверждал, что они являются лучшими, потому что в Англии все еще крепки традиции истинного мастерства, а крепки они потому, что на островах профсоюзы не так сильны (что, разумеется, далеко от истины) и что руководят ими, не в пример нашим, не гангстеры, а вполне порядочные люди. (Нонсенс!) И добавлял, что у англичан прочные религиозные устои. Как соотнести религию с производством автомобилей, я не уразумел. Чет еще и играл в гольф по воскресеньям.
Он называл Америку «избалованным дитятей мира».
Рассуждал о затягивании поясов. В то же время сам весил за центнер, хотя, должен признать, основная масса тела приходилась на верхнюю часть. Он много высказывался о Второй мировой войне, повторяя, что только раз за всю историю страна ожила, объединившись под знамена одной духовной цели. И никогда не забывал коснуться своей службы, красочно освещая узлы речей символическими сценами окопной жизни. Он говорил, что неотъемлемую сущность жизни составляет жестокость, что человек – кровожадный зверь, грубый от природы, и что современное общество до конца обнажило свои пороки, но ничуть не изменило свою суть. Он говорил, что человеку следует время от времени ставить на карту свою жизнь… он не имел в виду буквально, ведь ему приходилось возвращаться к повседневному порядку вещей. Его рыжая шевелюра истончилась от времени, а борода стала еще гуще. Вещая, он держал руки в карманах и шевелил пальцами, почесываясь, даже если Гвен была рядом. От ее острых глаз ничего не укрывалось, а острый карандаш педантично заносил в блокнот все, включая и это, чисто мужское, занятие.
Чтобы поддаться его обаянию, его надо было видеть. Я думал, что выпуск таких политиков прекращен – он просто насыщал атмосферу всем этим романтическим бредом, густо сдобренным его личной убежденностью и великолепной чувственностью. А мы, избиратели, слепли и не видели его подлинного лица.
Конек Чета – либеральный интеллектуал. Я немедленно обзавелся ярлыком оного. Воображаю, как он расстроился, узнав, что я к тому же и не еврей. Он спросил меня об этом в самом начале беседы и затем переспросил через несколько часов, якобы забыв. Я зацепился за вопрос и поинтересовался, так ли это важно для него. Он начал хохотать, долго и заразительно. Потом повернулся к Гвен и поведал ей, что ее шеф достаточно дипломатичен, не так ли? Почему бы не спросить прямо, является ли он – Чет Колье, антисемитом? Оба вопроса он обратил лично к ней, как бы удивляясь, что, мол, она связалась с таким типом, как я? Талантливо, по-мужски он принялся охмурять ее прямо при мне. Получилось так, что он польстил и ей, и мне, и это было отмечено. Но если он хотел смутить ее, то вовсе не преуспел в этом. На его заигрывания и ухаживания в лоб она оставалась холодна. После нескольких минут кавалерийской атаки я почувствовал слабое раздражение. Он быстро смекнул, что к чему, и время от времени возвращался к такому способу разговора – обращался только к ней, меня не замечая в упор. И я почувствовал себя идиотом. Должен признаться, сукин сын прямо-таки наслаждался игрой.
Интервью я задумал лишь как попытку рассмотреть, как далеко я могу помочь ему зайти в фантазиях на тему морали и политики. У меня есть дар обработки таких штампованных созданий. Невзначай задеваю проблему неестественным образом и жду, когда в объекте проснется или отрицание, или одобрение. Обычно человек, у которого берешь интервью, так заинтересован, чтобы его описали в выгодном для него свете, что спустя какое-то время его можно раскрутить на полный оборот. Протягиваешь ему руку дружбы, затем задаешь тот самый незатейливый вопрос, потом смотришь, как он склоняет голову и колеблется, ищешь тропку к его сердцу, завоевываешь его расположение, и он твой – идиот. Вскоре он отпускает тормоза, надеясь, что ты считаешь его неплохим парней, и дает информацию.
Но с Четом Колье обкатанный прием не сработал. Он обожал быть разным – причем взрываясь. Даже если я не соглашался с чем-то, он тут же находил другую сторону обсуждаемого предмета. После полутора часов скачков от белого к черному, когда я устал уже его слушать, Гвен неожиданно задала ему вопрос:
– Мистер Колье, неужели вам все равно, что мы о вас думаем?
– Абсолютно! – сказал он и сразу захохотал.
Вообще-то я ожидал услышать в его смехе какую-то тревожную нотку, но смех был естественен на сто процентов. Гвен тоже начала смеяться, а он начал строить ей глазки, опять наплевав на мое присутствие.
– Я знал, что ожидать от нашей с ним встречи. И не хочу, чтобы он хвалил меня, – могу недосчитаться на выборах многих голосов…
Ерунда, которую он нес, была далеко не смешна.
– А теперь, – продолжил он, взяв Гвен под локоть, – пройдемте на солнышко и поглядим на моих зверушек.
Мне осталось только идти следом за ними.
В душе шевельнулось что-то вроде зависти. Не в пример ему, я никогда не мог вот так ни с того ни с сего рассмеяться. Хотя всегда желал. Усилием воли я запрятал это возникшее чувство – зависть? или даже обожание – вглубь. Оно не отражает истинного положения вещей: этим типом я восхищаться не буду.
Мы шли по его владениям. Недалеко от разворота для машин, у входа, стоял трактор. Лужайки как таковой не имелось – обычная трава. И грязь. Он был обут в какие-то грубые ботинки, я – в обычные городские, Гвен – в итальянские туфельки с тонкой подошвой. Колье послал слугу в дом за галошами и лично опустил в них Гвен. Они были гигантского размера, и она выглядела в них очень пикантно. Меня он такой чести не удостоил.
Древние дубы и окружающие их строения были ровесниками времен если не первопроходцев, то уж Гражданской войны точно. Внутри дома сквозило – он поддерживал традиции английских провинциальных джентльменов, – с моей точки зрения, было очень холодно. Моя кровь порядком разжижела. А на улице пригревало солнце. Домашние животные бегали на воле. Гвен записала в блокнотик восемь котов и шесть собак разных пород. У Колье были и породистые, и дворняги. Все они бегали друг за дружкой, переступая через лежащих на земле, что-то ели, грызлись, размножались, рожали и нянчились. Меж взрослых особей ползали щенки и котята. Сцена кисти Брейгеля. Здесь они были дома, как и сам Колье.
Сзади стояли клетки с дикими животными. В одной была ласка, пойманная им в силки. Для лучшего обзора Колье при нас перегнал ее в клетку побольше. Еще имелось: дикая кошка с раненой ногой, хозяин извлек как-то ее из капкана во владениях соседа-фермера; котенок ягуара, присланный из Каракаса другом, и огромный грязный ястреб преклонного возраста (так сказал Колье). Наверно, смирился со своей участью, бедняга, подумал я.
И снова, должен признаться, я поймал себя на мысли, что завидую ему. В глубине души я тоже хотел иметь много животных, но Флоренс совершенно справедливо заметила, что их присутствие ограничит нашу свободу. «Сам подумай, – сказала она, – а если мы соберемся попутешествовать? С ними что будем делать?» А что делает с ними Колье? Бросает, наверно, и зверье пожирает друг дружку. Я уже собирался спросить его об этом, но заметил, как он снял свою куртку лесоруба (солнце спряталось за тучи, и резко похолодало) и набросил ее на плечи Гвен. Сукин сын вовсю приударял за моей девчонкой!
Мне показалось, что его пора убивать. Но это было лишь начало.
Разговор, по его инициативе, перешел на вещи, бесившие меня. Он, разумеется, вычислил их. И я окончательно решил, что в статье не оставлю от него камня на камне.
Первая тема – евреи. Он находит, что большинство американских евреев стыдится своего происхождения. А что я думаю об этом?