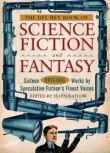Текст книги "Сделка"
Автор книги: Элиа Казан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Он сшиб полицейского с ног? – спросил судья.
– Да, сэр.
– Тсс! – зашипел я.
Ирландец покосился на меня и продолжил:
– Я подумал, что вам не помешает взглянуть. Задержанный придавал значение содержимому пакета. Вы понимаете, судья? По-моему, это – важная улика.
– Спасибо, сержант! Вы правы, это – важная улика.
Шпик кивнул и вышел.
Судья посмотрел ни меня. В его облике снова появилось что-то судейское.
– Эдди! – сказал он. – Зачем ты таскаешь с собой дерьмо?
– Это противозаконно?
– Прекрати огрызаться. Я просто спросил, зачем тебе мусор.
Я долго думал, как бы получше ответить. Принятое раньше решение быть всегда искренним налагало обязательства: я собрался с мыслями и приготовил правдивый отчет о пакете. Я думал, неужели я снова должен подетально описать появление на сцене коричневого пакета с мусором? Если и объясню что и как, то прояснит ли это обстоятельство что-нибудь вообще? Мое резюме прозвучало следующим образом: «Я, наверно, не смогу объяснить, ваша честь, почему я таскаю с собой пакет».
Повисла пауза. Затем он обнял меня и сказал:
– Далось же тебе это «ваша честь»! Одна поэзия. Слушай, может, тебе отдохнуть. А завтра – утро вечера мудренее – все и решишь. И про две работы, и про все остальное.
Я встал.
– Жук! – объявил я. – Спасибо. Я первый раз в жизни ощущаю себя самим собой. Со мной абсолютно все в порядке. С ума сошел весь остальной мир, а я – здоров. А теперь, обращаюсь как задержанный к судье, – ты арестуешь меня?
Его глаза опечалились. В них мелькнула забота обо мне.
– Нет, – сказал он. – Зачем? Ты свободен.
– А как мне отсюда выбраться?
– Я провожу тебя к черному входу.
Он потянулся в шкаф за мантией.
– Боюсь, что без мантии они просто не впустят меня обратно.
Он рассмеялся. Я тоже. Он посерьезнел и предложил:
– Одну на дорожку?
– Мне хватит, – ответил я. – Я – в норме.
– Ну тогда за старые, добрые времена!
– Вот за старые выпью!
Он разлил виски.
Десять быстро пробежавших месяцев я был членом коммунистической партии США. Когда я приходил в их штаб на 12-й улице с отчетом о работе моей группы (состоящей из партийцев-газетчиков, писавших речи в духе Народного фронта и статьи для партийной прессы), человеком, контактирующим со мной по этим вопросам, был Бенни Уайнштейн. Его кабинет был на девятом этаже. В нем было что-то ущербное для истинного борца; даже тогда это было заметно. Поэтому меня не удивил тот факт, что Бенни так и не поднялся в своей коммунистической карьере выше того места. Для дней Народного Фронта он подходил – все еще были дружелюбны. После войны, когда атмосфера сгустилась и налилась ненавистью, он выпал из роли.
Для меня, фронтовика, после разгрома фашистов компартия значила ноль. Я хотел наверстать упущенное, хотел жить для себя. Я так и жил; с этой точки зрения, он, видимо, тоже времени не терял.
– За старые времена! – поднял он тост. – За настоящее время!
Мы выпили. Он поставил бутылку за своды юриспруденции и показал, куда идти. Мы прошли по коридорам, мимо каких-то людей. Черную мантию уважали. Судья только кивал и хмыкал, никого не удостаивая полноценным ответом. Маска властности на его лице читалась четко.
Проходы через подвал были достойны кисти Хоппера. Лампы без абажуров еле светили. Обитатели подвала, все каким-то образом связанные с отправлением правосудия, казались наркоманами. Они стояли через интервалы, не поддающиеся ни логике, ни фантазии. Источник отопления здания, наверно, был еще ниже, под землей, потому что подвал напоминал баню. Комнаты для полицейских были не лучше камер для задержанных. И те, и другие были одинаковыми.
Судья открыл дверь черного входа. На улице еще моросило.
– Паршивая ночка! – процедил он.
Затем обеспокоенно взглянул на меня.
– В семье нелады? Вспоминаешь старые деньки, а-а? Правильно?
Он не спрашивал, он вымаливал ответ. Как же неустойчиво он ощущает себя в шкуре судьи, подумал я.
– Ты ведь знаешь, – продолжил он, – как нас мало осталось.
– Кого нас?
– Нас – старых бунтовщиков.
Мы постояли, глядя на сито дождя. Он, наверно, думал: а что я думаю о нем? Но когда я посмотрел на него с опаской, он неожиданно улыбнулся:
– Куда направишься, старик?
– Приткнусь куда-нибудь! – сказал я. – Если хватит сил.
– Каждый год все хуже и хуже? – хохотнул он и добавил: – Жаль, не могу пойти с тобой – нет, не напиться, хотя и хочется, знаешь, чтоб все в тартарары! Я имею в виду, что вот, мы встретились и столько старого вспомнили!
Я вспомнил его жену. Она была костром его семьи. Дважды была на Кубе, первый раз с Клиффордом Одетсом, в тот месяц – его боевая подруга, второй раз одна, на свой страх и риск. Там, на острове, она и собиралась остаться и даже стала soldadera одному из парней, воевавшему в горах, – это было еще задолго до Кастро. Парня поймали и расстреляли батистовские ублюдки… Или я напутал? Расстреляли ли его вообще? Я не помнил.
– Где Элизабет? – спросил я.
– Ого! – воскликнул он. – Ты ее помнишь?
– Когда она умерла?
– Она жива. Мы все еще вместе. Как поженились тридцать лет назад, так и живем. – Он понизил голос. – А ты знал, что она была любовницей Клиффорда Одетса? – Хвастался ли Жук? – А после него она жила с одним из настоящих campesinos, с настоящим крутым парнем, старик. Его потом расстрелял Батиста. Американская пуля меж глаз. Стыд и позор! Сукины дети! Но ее не поймали. Как она снова вернулась в Штаты, и не спрашивай! Да и прошло уже тридцать лет! Ты нипочем не догадаешься, чем она сейчас занимается!
– Чем же?
– Аналитик биржи на Уолл-стрит. Расчеты по вложению банковского капитала. Знает все свежие новости по бизнесу, как там у них… «свои своих кормят». Знает положение на рынке последние десять лет и, не забудь, знает Маркса – о, это очень пригодилось, – она даже сколотила нам приличное состояние. Я могу уволиться в любое время.
– А почему еще в мантии?
– Уйти можно. А потом?
– Есть еще масса несправедливостей, против которых можно бороться, не так ли?
– Сейчас ты бессилен, старик, и ты знаешь это. Потому что наступило, как говорят сведущие люди, Время Подхалимов. Где вчерашние возмутители? Где-то в Мексике. В подполье, как ты и я. В этой стране все ушли в подполье. Только никто не знает, куда и зачем. Как вот ты. В рекламу. Профессия шлюхи. Налакаешься – вроде невтерпеж уволиться, протрезвеешь – страшновато. Что? Не так? Потому что все мы одним миром мазаны – сидим, ждем, когда рак на горе свистнет… И ты сидишь, и я сижу. Иногда шевелимся… Готов поспорить, что ты доволен, что судья – я, твой старый товарищ, а не кто другой?
Я не ответил.
В туннеле, высвеченном фонарями, дождь сыпал алмазами.
– Хорошо, – сказал я. – Не буду задерживать тебя.
– Перестань, – сказал он. – Не каждый день такая встреча. – Он затянул пояс. – Сидя каждый день на судейской лавке, не замечаешь, как начинаешь толстеть. Поглядишь на мятежников от общества, на продаваемых и продающихся, и подумаешь – а ведь можно написать книгу. Как-нибудь напишу, обещаю, Эдди. Можешь потом проверить. Проверишь, Эдди?
Затем он сделал то, что вконец удивило меня. Его рука вытянулась и нежно дотронулась до моей щеки. Необъяснимо!
– Ты ведь пойдешь спать, Эдди? Прямо сейчас, сукин ты сын.
– Посмотрим.
– Ты чудом сохранился. Наверно, спасает частая смена девок. Черт побери, ты выглядишь… – он помедлил, – все таким же непредсказуемым и бешеным, таким же диким и скупым на эмоции, как и двадцать лет назад. Это – комплимент!
Затем он продекламировал стихотворение:
Любовь, осиянная похотью злой,
Как лампа в могиле…
– …Помнишь откуда? Хэнлей!
– Неужели Хэнлей? – спросил я. – Тот самый?
– Да, мой мальчик, это старина Invictus. И не дано нам предсказать… Помнишь, что сказал Марк Лоуренс Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности? Они его спросили, почему он вступил в компартию, а Марк ответил: «Там столько хорошеньких девчонок!» – Он расхохотался. – Ты тоже мог бы. В парткомитете я встретил Элизабет. Помню, тогда они собирали деньги для забастовщиков в Скотсборо. Она была такая лапка! Слюнки текли! О, Элизабет! Поглядел бы на нее сейчас. Аналитик биржи! В тридцать седьмом Одетс рассказывал мне, что ее груди просто божественны… А ты спал с ней? Ну тогда, еще до войны? Можешь признаться, сейчас это не имеет значения.
– Да. Как-то было дело. Только один раз.
– Не смущайся. Мне уже плевать, – сказал он.
– В общем… – произнес я и повернулся, чтобы уйти.
– Мне иногда приходит на ум, что такая жизнь, как тогда, существует и сейчас.
– Да, такая же игра. Игроки другие.
– Тебе нужны галоши. Посмотри на лужи. Простудишься.
– Да ничего! – сказал я. – Пока!
– Ты помог мне сегодня, Эдди. Развеял тоску. Сижу тут как проклятый и начинаю ощущать себя клопом в стакане. И, Эдди… она ведь ничего была девчонка? Элизабет? В постели?
– Восхитительна, – ответил я. – Но, знаешь, мы с ней больше не встречались. Это было случайно, и только один раз.
– Разумеется. Ты не переживай. Я все понимаю… Но она была…
– Восхитительна, – отрезал я и снова повернулся.
– Да не принимай ты близко к сердцу! – сказал он. – И будь осторожен!
– Ты о чем?
– Лично я вишу здесь на волоске. Никто и понятия не имеет, кто я такой на самом деле. А ты знаешь?
– Знаю.
– Все уходит в семью? Правильно?
Я заверил его, что все к лучшему, махнул на прощание рукой и пошел прочь. Оглянувшись через десяток шагов, я увидел, что он все еще стоит в дверях. Он глядел вниз, забыв про меня. Затем, так же задумчиво, он открыл тяжелую металлическую дверь в здание с забранными решетками окнами и зашел внутрь.
А я пошел в холод ночи.
– А-а-а!!! – закричал я громко-громко, прочищая душу. – А-а-а!!! – заорал я, выдувая из себя мутность и безнадежность, оставленные Жуком.
Все вокруг меня в масках, в масках! И умирают в этих же масках. Но сегодня, переполненный теплотой виски, вздрагивая от освежающих уколов дождинок, я почувствовал облегчение. Я выжил, я остался живым после гигантского кораблекрушения, я избег участи других. Или, по крайней мере, отсрочил неминуемое. Я был сыт по горло процессом разложения, медленно и ядовито растекавшимся вокруг меня. За спиной ничего не осталось. Насколько же далеко я смог уйти от Жука Уайнштейна!
– Я тоже был таким же, как он! – крикнул я. – Неужели все должно быть именно так, а не иначе?
Я орал в пустоту, потому что был сыт по горло своими собственными секретами и своим собственным положением, своими масками на любой случай жизни и своим притворством. Меня тошнило от Брукса Аткинсона. Дождь затуманил мои очки. Я снял их и стал выглядеть чуточку непохоже на него. Неожиданно, без всякой к тому причины, я преисполнился отвращением к «Нью-Йорк Таймс», ко всему «лучшему» в нашей цивилизации, как, впрочем, и ко всему худшему. Я почувствовал выпадение из этого общества, я больше не вписывался в него ни одной чертой.
– Я исключен из него! – сказал я. – Я не принадлежу ему!
Затем я подумал: а куда я могу пойти? А что смогу делать?
Начну от обратного. По крайней мере знаю, чего я не хочу, знаю, что я делать не могу. Потому что то, что я делал, едва не свело меня в могилу. Я едва ускользнул от лап смерти.
Любовь, осиянная похотью злой,
Как лампа в могиле…
Не знаю, так ли это, возможно, и так. «Могила». Да, эта часть верна. Я был внутри, сейчас – снаружи. А большинство осталось там – внутри. И «такая же жизнь» все еще идет где-то, как спрашивал Жук, или нет? Идет или нет? Должна идти. Ведь во мне она продолжается.
А похоть? Да. Моя личная похоть – единственное, что сумело удержать меня от неизбежной гибели. Мое лицемерие в годы успеха. Моя неверность. Моя аморальность, мое плотское бешенство! Мое же благородство, верность, вера, вся строгая и приличная часть моего «я» были маской, и эта маска, как в одной старой-престарой сказке, въелась в мою кожу, стянула рот и едва не удушила меня. Когда я лгал, подличал и изворачивался – это было бегство от заведенного порядка вещей, от порядка, убивающего меня. Этот порядок чуть меня не доконал.
Шагая по Бродвею, заполненному толпами «продаваемых и продающихся», по словам Жука, я поклялся, что отныне буду делать только то, что не идет вразрез с моим мироощущением, и плевать на последствия, даже если это поставит меня перед фактом собственной ничтожности и перед презрением всего мира. Может, сия крамола подстегнет своим бичом рост моей личности. Более не буду переодеваться ни в кого и не буду прятаться от самого себя, не буду законопослушным по отношению к людским договорам и договорчикам, в составлении которых я не принимал участия и с положениями которых я не согласен.
Я поимел предчувствие прямо перед «Астор-отелем», что я вполне созрел, чтобы вырвать из стены все крюки, на которых подвешена моя жизнь. Я возвращаюсь к морали тянущихся друг к другу женского сосца и похотливого рта. И да падет на меня порицание и осуждение ханжей! И все-таки я перехожу Рубикон. С той жизнью покончено. Навсегда.
Меня спасет неприятие самого себя, подумал я.
Мое достоинство – ненависть к себе.
Я вспомнил строчку, наверно из Библии: «Чтобы спасти свою жизнь, ты должен потерять ее!» Кто бы ни был автор – он прав. Чтобы жить по-новому – надо умереть.
Чудовищнее Парамаунт-Билдинга зданий нет! Часы на его башне показывали без десяти час. Я остановил такси.
Предполагать, что Гвен все еще ждет меня, было нелогично в последней степени. И все-таки я надеялся, что ждет. Ведь она, думал я, такая же, как и я! Мы различны в частностях, в основном же – как одно целое. Она такая же неприкаянная самопожирательница, затерянная на улицах нации одинаковых улиц. Она будет дома и будет ждать меня.
Так оно и было. Автомат двери в подъезде открылся через секунду после того, как я нажал кнопку ее квартиры. Дверь самой квартиры тоже была открыта для меня. Гвен сидела в кресле и вязала. А на софе лежал и читал «Спорт Иллюстрейтейд» мужчина, которого она представила мне как Чарльза.
Глава пятнадцатая
– Я получил образование инженера, – говорил Чарльз. – И, соответственно, это – большая подмога. Как вот сейчас. Я занимаюсь созданием сети маленьких сухих химчисток, по типу прачечных самообслуживания. По-моему, дело стоящее, а, Гвен?
Гвен никак не отреагировала, будто и не слышала. Он повернулся ко мне.
– Мне хотелось бы показать вам одну, если найдете время.
Я сидел одеревеневшим истуканом. Выражение лица – сплошная загадка.
– Я в Нью-Йорке ненадолго, – сказал я.
– В этой области химчистки – следующий шаг. Вы так не думаете? – Он повернулся к Гвен. – А твое мнение? Нет?
Сосредоточенность Гвен над процессом вязания была достаточна, чтобы создать напряжение для освещения всей комнаты.
– Ответа не последовало, – подытожил Чарльз и рассмеялся. – Я страшно рад, что мы наконец встретились. Гвен молчит про вас. Но я люблю держать карты открытыми. Знаю, что вы были когда-то близки… – Его голос затих.
– Как-то… – сказал я, ожидая, что он закончит.
– Но вы ведь знаете Гвен. Видите – все молча. Гвен!
Спицы раздраженно звякнули.
Чарльз обернулся ко мне.
– Иногда кажется, что она не слушает, – сказал он. – Но проходит время и выясняется, что она помнит каждое слово, даже то, что уж и сам забыл.
Я изучал Гвен. На лице появились легкие тени напряженных морщин. Глаза напоминали глаза ребенка, который отчаянно хочет получить что-то запрещенное и не намерен отступать от задуманного. Она взглянула на меня из-под ресниц и снова опустила глаза на вязание.
– Эй, Гвен! – сказал Чарльз. – А выпить-то гостю? Забыла?
Гвен молча встала.
Я присмотрелся к Чарльзу. Хорошо сложен, косая сажень в плечах, объемен в груди, мускулы слегка оплыли – так бывает, когда атлеты бросают спорт. Он напоминал – мог даже сойти при случае – Хаггерти, атташе Эйзенхауэра по вопросам печати. Пиджак он снял, а галстук оставил. В нагрудном кармане рубашки торчал пенал с разноцветными карандашами и миниатюрная линейка. Зажим из золотой цепочки крепил галстук к рубашке.
Гвен не забыла, что и из каких бокалов я пью. Она протянула мне, не глядя, напиток и вернулась к вязанию. С близкого расстояния я увидел, что линия от ее носа ко рту и линия ото рта к подбородку соединились. Она изменилась в худшую сторону. Морщины.
– …Но я уже перебрал лимит времени. – Чарльз рассуждал о чем-то другом, я не слышал начала. – Точный расчет по времени – это все. Впрочем, вы лучше меня знаете эти тонкости, поскольку кое-чего достигли. А мне на помощь пришла Гвен и подбросила идею о химчистках самообслуживания. Гвен, помнишь?
Молчание. Три машины, застрявшие в снежной буре.
– По правде говоря, – снова завел бодягу Чарльз, – я думал, что если мне посчастливится встретиться с вами, то я попытаюсь получить бесплатный совет. Мне необходим фирменный знак и девиз для сети моих будущих химчисток. Надеюсь, что это будет именно сеть. На большее или другое я вряд ли способен.
– Были ли наметки?
– Несколько. Но Гвен не одобрила – сейчас мне даже неудобно вспоминать их.
– Ну почему же? Пользуйся случаем.
– Чего ты хочешь, Эдди? – вступила в разговор Гвен.
Наступило молчание. На этот раз невыносимо гнетущее.
Я не ответил.
– Эдди, какого дьявола тебе здесь надо?
– Хотел видеть тебя.
– А я не хочу. Если честно, то… Убирайтесь оба!
Сначала мне не пришло в голову, что этот звук донесся из соседней комнаты. Мало ли квартир в доме? Гвен встала, открыла дверь, которую я поначалу и не приметил, и закрыла ее за собой. Из той комнаты раздавался плач ребенка.
Неужто про этот сюрприз намекал Чет?
Я взглянул на Чарльза. Здоровяк улыбнулся и пожал плечами.
Дверь открылась. На руках Гвен был малютка.
– Как насчет того, что я сказала?
Чарльз встал.
– По-моему, лучше нам…
Появление на сцене ребенка меня шокировало. Я сидел не двигаясь, потягивая бурбон, и думал – чей же он?
– Я остаюсь, – сказал я.
– Чарльз!
– Да, дорогая.
– Ты проводишь гостя?
– Да, провожу.
Она закрыла дверь. Чарльз подошел ко мне. Он был очень силен.
– По-моему, нам лучше… – сказал он очень мягко.
– Я бы хотел сначала допить бокал.
Гвен снова вышла из-за двери. Она пересекла комнату, взяла из пакета синюю стопку пеленок, надорвала бумагу, выхватила одну и обернулась к нам.
– Чарльз! – строго произнесла она. – Сегодня я хочу остаться одна. Назад не приходи. – Затем повернулась ко мне: – Извини, если мои слова прозвучали грубо, Эдди, но сегодня иначе не получается. До свидания.
Она закрылась в соседней комнате.
Последние ее слова, обращенные к Чарльзу, – «Назад не приходи», давным-давно могли бы послужить мне сигналом – мол, «потеряв» Чарльза, возвращайся. Но сегодня я в этом сомневался.
Чарльз надел пиджак и шляпу.
– Теплоход отплывает, – сказал он.
Он подошел ко мне, мягко взял бокал из руки и осторожно поставил его на стол. Чарльз был крупнее, чем его брат Чет.
– Напротив дома есть шикарный бар, – сказал он. – Я куплю вам выпить. Там и поговорим.
– Не знаю, что за собака ее укусила! – сказал он мне в баре, заказав выпивку. – Правда, она очень чувственная девчонка. Я имею в виду, что ее периоды очень коротки – 28 дней. Да вы знаете!
– В таком случае она должна быть как раскаленная сковородка!
– Хм! – потупился он. – Вам лучше знать!
Мне показалось, он покраснел.
И ребенок у Гвен от этого типа? Ну не странно ли?
Пришел официант с двумя бокалами. Чарльз пил «Александере».
– За встречу! – сказал он. – И чтобы не покидала нас удача.
– Ага, – поддакнул я, – ты имеешь в виду неудачу?
Мы рассмеялись.
– Нет, – ответил он. – Я не имел это в виду. – Он оглядел меня. – Извините, что так гляжу на вас. Я много о вас думал. Когда встречаю удачливых в делах людей, всегда стараюсь понять, как им это удалось. Вы платите налог по высшим категориям, я знаю, и работаете вы там, где сами выбрали, – вот что самое важное. Всегда уважал пишущих людей! Особенно тех, кто пишет тексты песен.
Он парень не дурак – тоже вогнал меня в лужу.
– Любишь ходить на танцульки? – спросил я.
– Еще как! А как вы догадались? Попадание в десятку! И все же? Интуиция? Обостренная чувствительность? Гвен говорила мне, что вы – медиум.
– Она имела в виду – психопат.
– Нет, она так не говорила. А вы, гляжу, еще и шутник.
– Почему ты так на меня глядишь?
– Инстинктивно вы мне нравитесь. Странно, не так ли? При всем при том, что мы оба завязаны на Гвен, я восхищаюсь вами!
– Восхищайся лучше кем-нибудь другим.
– И снова вы правы. Из-за легко возникающего восхищения у меня было много неприятностей. Я подвержен дружбе. Думаю о людях всегда хорошо. И люди этим пользуются. А вы знаете, что очень долго я думал, что любой, кто улыбнется мне и пожмет руку, – мой друг. Но я перестал быть «легковерным американцем». Так меня называл Чет. Я научил себя быть подозрительным. Это не в моей натуре, но что поделать. Здесь сложности – не начать подозревать слишком рано… в общем, моя точка зрения следующая: в жизни надо разрешить одну проблему – внутри себя попробовать стать чувствительным, снаружи – жестким. Чтобы быть самим собой.
– Чей ребенок?
– Ее.
– Да, но чей?
– Я не знаю.
– И никогда не спрашивал?
– Если захочет – расскажет.
– Тебе что, даже неинтересно?
– Гвен не любит болтать языком.
– Может, он – твой?
– Вы не поверите, но до сих пор у меня с Гвен не было сексуальных отношений.
– Но ты же ночуешь у нее.
– Иногда ей не хочется быть ночью одной.
– Ты спишь в той же комнате, что и она?
– Иногда. Я сплю на раскладушке. Той, что в углу стоит. А теперь угадаем, как вы об этом узнали?
– Я – медиум.
– И снова шутите.
– Ты не возражаешь, что я задаю такие вопросы?
– Пока нет.
– А как ты умудряешься обходиться без?..
– Обходиться без чего? Вы не поняли меня. А-а, вы это имели в виду! Она – необычный человек. Ни на кого не похожий. Я, в свою очередь, тоже. И нам наши отношения нравятся именно такими.
– Ты хотел рассказать мне про это?
– А вот сейчас вопросов довольно.
– О’кей.
– Я надеюсь, что однажды я останусь с ней навсегда. А что до остального… Пока очень запутанно. Но эта девчонка – для меня.
– Удачи тебе.
– Я не верю в удачу. Я верю в терпение.
– Вижу.
– И в понимание людей. Хотя я и скучен, если сравнить с кем-нибудь. С братом, к примеру. Я не могу много дать. Но одного у меня не отнять. Я решил взять Гвен под защиту. Ей нужен кто-то типа меня. А что до меня самого – я уже был женат, поэтому не тороплюсь. Ей необходимо время на утряску и притирку. И она старается. Вы заметили, как она изменилась?
– Да, что-то есть.
– Это заняло долгое время. Разумеется, и сейчас она иногда становится опасной. Для себя. Я слежу за окнами и ножами. Какое отличие от тех дней, когда я только встретил ее! Отныне моя цель жизни – помочь ей обрести себя.
– Это нелегкая задача.
– Но я верю, что справлюсь. Терпение и труд – все перетрут. Верь – и произойдет чудо. Эта девчонка – настоящий клад, а с первого взгляда не разберешь. Умна как дьявол, впрочем, вы это и так знаете. Буду откровенен. Сначала – вы ее мучили, потом – мой брат Чет. И ни один из вас не сделал ей ничего хорошего. Я пришел к нему как-то. Он кричал на меня… переступая границы приличий… пришлось мне подучить его кулаком…
– Ты его избил?
– Пришлось. Я не хотел, чтобы их отношения продолжались.
– И?..
– И они прекратились.
– Может, Чет и прав, может, она сама…
– Мне плевать, чем она там ему не угодила! Больше ее никто не обидит. – Он мягко улыбнулся, глядя на меня.
– Чей ребенок?
– Я уже сказал, что не знаю.
– И тебя не?..
– Абсолютно. Он – ваш?
– Я тоже не знаю.
– Он – ее ребенок. Остальное не имеет значения.
– Может, она тоже не знает. – Я рассмеялся.
Он нахмурился.
– Смешно? – сказал он. – Но такие вещи разрывают девчонок ка куски. Пожалуйста, не приходите к ней больше.
Я взглянул на него. Лицо Чарльза выражало решительность.
– Будет очень жаль, если вы к ней придете, – сказал он.
– Обещать не могу.
Он допил свой «Александерс», нахмурился, уставившись на стол.
– О’кей, – наконец произнес он.
– Что о’кей?
– Это значит, чему быть – того не миновать.
Он еще раз изучающе посмотрел на меня, повернулся и позвал официанта.
– Тебе никто не говорил, – сказал я, когда он надел пиджак, – что ты – вылитый Хаггерти, атташе по делам Эйзенхауэра?
– Я похож на Оскара Хаммерштайна. Вы знаете, кто он?
– «Оклахома».
– Правильно. И другие мюзиклы. – Он замолк. – Не думаю, что Гвен полюбила бы такого бессовестного негодяя, каким вы прикидываетесь. Я не слишком прямолинеен?
Подошел официант.
– Еще минуту? – спросил меня Чарльз.
Когда я кивнул, он, вместо того чтобы расплатиться, заказал еще пару.
– Оскар Хаммерштайн – мой идеал.
– Мне как-то не пришло в голову, что ты можешь быть с ним знаком.
– Я был вторым помощником электрика на первой записи «Король и я».
– Хм, вот как! Я и не знал.
– Не надо делать из меня идиота, мистер Арнесс! Я вовсе не дурак. – Он быстро оправился от вспышки гнева, но я заметил, что ему не хотелось выдавать свои эмоции. Когда он заговорил, голос его вновь был мягок. – До встречи с мистером Хаммерштайном я всегда представлял текстовиков песен эдакими перекати-поле с парой мексиканских бобов меж ног. Но во время работы, понаблюдав за ним, я понял, что он и мистер Ричард Роджерс во всех случаях оказывались самыми толковыми и деловыми людьми в театре. И все же они – как Ките и Шелли наших дней! Вы понимаете?
– Не совсем.
– Они написали о любви лучше всех в наше время. Они к тому же хорошие бизнесмены – никто не сумел взять с них больше налога, чем надо. Их зубы остры и крепки. Теперь понятно?
– Уже теплее.
– Опасность с таким парнем, как я, состоит в том, что такой парень, как вы, может с чего-то решить, что ему удастся перехитрить меня.
– Вот теперь яснее некуда!
– Мой мягкий тон и прямота, я честно сказал, что вы мне нравитесь, можно подумать, что… Но это ничего не значит. Вот почему я смотрел в оба глаза на мистера Хаммерштайна. Он ничего не имеет против соседа, он ему – брат, но можно ли представить, чтобы он позволил ему завести шашни с его женой? Можете ли вы себе представить, что было бы с соседом, вздумай он попробовать?
– Другими словами, ты мне угрожаешь.
– Я рассказал вам про мистера Хаммерштайна.
– У меня глаза слипаются.
– Я люблю Гвен, мистер Арнесс. И никому не позволю ее обидеть. Я избрал сам себя в комитет, состоящий из одного человека, и Гвен – единственная повестка дня.
– Я понял.
– Отлично. На улице – моя машина. Вы ничего не имеете против, если я отвезу вас в отель?
Хотел убедиться, что я уйду. Высадил меня прямо перед отелем и изобразил церемонию проводов согласно этикету. Его все еще смущало, что я ему нравлюсь.
Перед тем как он собрался отъезжать, я спросил его:
– Тебе не станет легче, если я скажу, что я нищ как церковная крыса?
– В чем-то, конечно, легче, – ответил он.
Он должен ощущать своим подсознанием, думал я, шагая к лифту, что он на пути к тому пределу, за которым вообще ничего не сможет понять. Молоко на губах не обсохло. Вся его короткая жизнь еще не подготовила его к встрече с таким явлением, как Гвен.
Эллен отсутствовала. На кровати лежала записка: «Дорогой папка, никак не удается встретиться? Целую. Эллен. Будь осторожен, как я».
Внизу наискосок я приписал: «Завтра. Это уж точно».
Я прошел в ванную, почистил зубы, сполоснул рот. Затем отправился вниз.
Там царил хаос какого-то открывающегося праздника.
А перед отелем на другой стороне улицы в своей машине меня сторожил Чарльз. Я первым увидел его и быстро вернулся в отель. Расположение черного входа я прекрасно знал и, бывало, не раз им пользовался.
Когда я позвонил в квартиру Гвен, автомат открытия двери подъезда сработал моментально. Дверь квартиры открыла сама Гвен. Ее серьезность можно было расценить двояко: или она ждала меня, или ей было наплевать, приду я или нет.
– Ты ждала меня? – спросил я.
– Нет, почему? – ответила она.
Эти ее «нет, почему» были обычной уловкой. Это была ее тактика: податься назад, заставить противника открыть план сражения и уже по известному определять меру и способы обороны.
– «Нет, почему» что?
– Ничего, а почему ты спрашиваешь?
Противники стоили друг друга. Ни один своих секретов другому не выдал.
– Вообще-то, я думала, что ты можешь прийти.
– А что это значит?
– Это значит, моя ошибка заключалась в том, что я позволила тебе узнать об отсутствии сегодня ночью Чарльза.
– И ты не хотела видеть меня?
– Конечно, не хотела. С чего тебе взбрело в голову, что я могла хотеть?
Мне как-то и не пришло в голову, что она говорит правду.
– А Чарльз всегда такой послушный?
– Не всегда. Налей себе, ты плохо выглядишь.
Она ушла в детскую.
– Чей ребенок? – спросил я.
– Мой.
– Что это значит?
– Это значит, что от его отца мне ничего не надо.
– Кто отец?
– Ему не требуется признание отцовства. Ему ничего не потребуется. Фактически это не его отец. Разве что биологически. А биология – дело прошлое.
Я подумал, что ребенок похож на меня.
Она включила радио. Передавали музыку для полуночников. Неужто мы собирались вечерять?
Существовал один способ узнать ответ не только на вопрос, но и вообще на все, что она скрывала.
Я подошел к ней, согнувшейся над кроваткой. Мне показалось, что груди ее стали меньше. Но талия и бедра остались прежними. Я помнил ее ягодицы. И ноги. У меня к ногам влечение гангстера. Я люблю только совершенные формы. Ее ноги – сказка. Выточенная из слоновой кости, каждая состоит из лощин, впадин, закруглений, и каждая нога идеально прямая.
Теперь я жаждал ее. Мой голод женщины не был влечением вообще. Я не касался тела женщины долгие месяцы, но не чувствовал себя ни ущемленным, ни изнывающим. Но сейчас я задрожал от желания.
Не оборачиваясь, она сказала:
– Как он тебе?
Она меняла пеленки. Крошечный розовый птенчик открылся моему взору. Мешочек под ним уже горделиво свисал, тугой, настоящий. Отверстие уретры было темнее, чем остальное. Цвет был знаком мне. Мой, подумал я.
Я прижался к ней сзади. Она выпрямилась и сказала: «Извини!» Ее голос потеплел. Гвен взяла ребенка на руки, отнесла его в кроватку. Пока она укладывала его, он махал ручонками и пускал пузыри. Рука Гвен протянулась к мальчишке, будто приглашая его познакомиться со мной. Она отодвинулась в сторону, за металлическую перегородку, – я увидел всего пацана и познакомился с ним.
– У него бровь аристократа, – заметил я.
– При рождении ее не было.
Мы перебрасывались фразами, а малыш запутался в пеленке и начал возмущаться, больше сердясь, чем испытывая боль. Он уставился на меня, а я не знал, что делать. Гвен молча распутала его, молча и серьезно. Она помогла ему с каким-то уважением, как женщина помогает мужчине, испытывающему затруднения. Распутав, она перевернула его на живот. Он тут же поднял голову и посмотрел прямо перед собой, как рассерженная черепашка.