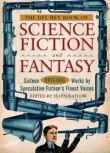Текст книги "Сделка"
Автор книги: Элиа Казан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
Разумеется, они выдержали паузу делового этикета – неделю и пригласили к себе в офис. После ритуальных шуток и сплетен их шеф прочистил горло и сказал, что они подвергли мой доклад самому внимательному изучению, потому что испытывают глубочайшее уважение к моей дальновидности и очень ценят прямоту, а время для подобной прямоты действительно настало, стоит только взглянуть на цифры продаж… И тем не менее они решили продолжить выпуск «Зефира»!
Мы застыли в креслах, устремив взгляды друг на друга. Я знал, как можно увильнуть от ответа, сказав, что самый лучший человек, которого можно назначить для продвижения дела, это тот, кто не верит в перспективы этого дела. Но к тому времени я уже вошел в колею и осознавал, сколь серьезна ситуация. Поэтому я сухо кивнул и сказал, что вернусь к «Зефиру». Затем поспешил к мистеру Финнегану.
Он уже был в курсе новостей и чуть не избил меня. «Вильямс и Мак-Элрой» на грани потери счета в пять миллионов ежегодно! Набрав номер «Зефира», он доложил им, что точка зрения фирмы, которую он представляет, в данном случае вовсе не совпадает с точкой зрения одного из ее ответственных сотрудников, в данном случае мистера Андерсона. Более того, мистер Андерсон уже не ведет дело «Зефира», и он, Финнеган, настаивает на немедленной встрече для обсуждения возникшей проблемы. Они ответили, что, разумеется, конечно, хорошо, согласны, но они уже давно начали обсуждать кое-какие идеи относительно кое-чего с кое-какими другими людьми… Как супермен, мистер Финнеган выпрыгнул из кресла и закричал в телефон, что на предстоящей встрече эти вопросы обязательно будут обсуждены, но что, черт возьми, он хочет изложить сейчас же по телефону, это то, что он забирает всю тематику по «Зефиру» в свои руки и с этой секунды он будет лично вникать во все детали, связанные с… он лично будет следить… Катастрофа, шумно врывавшаяся мне в уши, казалось, происходит с кем-то другим в каком-то другом месте. Отстраненно я слышал земные толчки и грохот рассыпающихся зданий. Внезапно я снова превратился в Никто, и в голове раздался тот самый «ничейный» мотивчик – насвистывание. Даже когда мистер Финнеган рычал в трубку, я отсутствовал. Я думал о том, о другом и о массе разных приятных вещей, но только не о «Зефире». В Сиэтле «Зефир» не продают.
– С какой стати ухмыляешься? – положив трубку, прогрохотал мистер Финнеган.
– Ни с какой, – ответил Никто.
– Ухмыляться действительно нечему! – сказал он и, повернувшись к пульту, нажал кнопку. – Никто, пошел прочь!
Как медленно люди поднимаются, как быстро они падают! И хотя встреча команды «Зефира» и мистера Финнегана состоялась, было уже поздно. Моя докладная записка прикончила весь счет. Обе стороны были вежливы, но конец был неотвратим. В свете изменяющейся ситуации, сказали они, их охватывает беспокойство по поводу негибкой политики «Вильямса и МакЭлроя» в деле с «Зефиром». И хотя они, как никто другой, все понимают и по-настоящему озабочены моей болезнью (взгляните на подарки, присланные мне от их фирмы), тем не менее они вынуждены возложить вину за посредственный спрос «Зефира» и бесславный конец рекламной кампании на меня, на мою неспособность приноровиться к постоянно меняющемуся рынку. Другими словами, на мне выжгли тавро козла отпущения. А как же иначе в этом мире! Вскоре и мое положение в агентстве стало двусмысленным. Все задавались вопросом, каков ныне его, то есть мой, статус? Вновь всплыла пресловутая «травма черепа».
Господи, скольких людишек волновало то, что я все еще получал зарплату. Усугубляющим дело обстоятельством, сбивавшим с толку поголовно весь офис, было мое благодушие. Всем казалось, что я даже не отдаю себе отчета, в какую бездну себя ввергнул. Кончилось тем, что один из моих доброжелателей поинтересовался у мистера Финнегана о необходимости моего присутствия на Обзорных собраниях директората. Как держатель акций, я являюсь членом Директората, принимавшего все решения фирмы и следившего за ситуацией. До аварии я был одним из наиболее почитаемых членов, возможно, с самым критически заостренным умом и с самым злым языком. Теперь же отпускаемые мной на Собраниях шуточки свидетельствовали, что я витаю в облаках. Должен признаться – мистер Финнеган был терпелив. Но и он не выдержал и предложил мне не посещать Собрания. С того момента дни пребывания в «Вильямсе и Мак-Элрое» можно было считать по пальцам.
Флоренс заявила, что я жажду разгрома. Она не понимает этого, просто не может взять в толк, к чему все это?
На следующий день, после того как мистер Финнеган взял «Зефир» в свои руки, я показал класс, явившись в западный отдел сотрудничавшего со мной журнала и пообедав там с парнями. Они искренне были рады видеть меня. Стонали от восторга по поводу статьи против Чета Колье. Разумеется, тот пригрозил судебным иском и даже кое-чем похуже, добавили они, смеясь. Если мне доведется встретиться с ним, то лучше, если я буду не один. Но именно это и ожидалось от такой восхитительной статьи. Эванс Арнесс укрепил свою репутацию ведущего борца за справедливость с пером в руке.
Меня ждала другая папка, разбухшая от исследований и цитатных подборок. Мишенью снова являлся некто, подающий надежды в политике, на этот раз уроженец Калифорнии. Можно было сразу же браться за этого малого и поступать с ним так же, как с Колье. А я почему-то ощутил поднимавшегося внутри меня Никто, И запихал его поглубже. Я ведь обещал Флоренс.
Ребята заметили, что я не в себе. Вместо «весь слух и внимание», с которыми я обычно начинал знакомиться с досье, я небрежно пролистал страницы и с отсутствующим видом даже не отметил их усердия, с которым они пытались вдуть в меня энтузиазм. Казалось, я был увлечен чем-то другим. Неожиданно я заявил, что желаю встретиться с девчонкой, сработавшей исследование.
Они тут же доставили ее в комнату. Это была девчушка двадцати с лишком лет от роду, глядевшая на меня с нескрываемым восхищением. Она села, а я как идиот уставился на нее и не отводил взгляд, пока она не покраснела… Гвен тоже сидела в этом кресле… Как много воды утекло с тех пор… Как много произошло всего с тех пор, как мы расстались… Я сидел, перебирая пальцами папку с досье, и размышлял: как там Гвен, все ли у нее в порядке, не слушая, что говорится вокруг… Интересно, а вспоминает ли Гвен обо мне?.. Ребята из журнала что-то втолковывали мне издалека, чего-то от меня хотели, какое-то подобие статьи о Колье. Помню фразы типа «Как ты его разделал!» и «Вспомни автомашины Колье. А у этого – моторные лодки, катамараны, яхты. Детали обсосешь сам!».
Я продолжал разглядывать девчушку и думать о Гвен. Неожиданно на моих глазах выступили слезы. По-моему, их заметила только девчонка. А дистанция между мной и говорящими все увеличивалась и увеличивалась. Я думал: сколько же в ней всего, вспомнил: ее ладно скроенная фигурка тоже когда-то мелькала здесь, пожалел, что ее сейчас нет… ее круглые коленки… И тут я услышал голос Гвен, обращенный ко мне: «Займись парнем сам. Не полагайся всецело на мнение других», – и сказал собравшимся: «Ребята, я бы хотел знать, могу ли я сам разнюхать о нем все сначала – извините, мисс, ценю ваш тяжкий труд, но…» Все заулыбались, довольные. Вот, оказывается, в чем единственное затруднение, и закивали, конечно, конечно, как же иначе, разумеется, и остальную галиматью. Девчонка испуганно предложила посмотреть мне другие вырезки у нее дома.
Почему бы нет, ответил я.
Она была уроженкой Нью-Йорка, а в Лос-Анджелесе поселилась в жилом доме с названием «Оазис», в неуютной полуторакомнатной квартирке. Стол, два кресла, студия были завалены стопками книг с закладками из бумаги, журналами, всунутыми в другие журналы, блокнотами, стенографическими тетрадями, карандашами, ручками; скрепкопрокалыватель, помнится, валялся на одеяле. Девчонка не зря получала зарплату! Места для совместной работы нам не находилось. Только на кровати, куда мы и легли. По мне, так это обычное начало плодотворной деятельности. Девчонка уже заглазно обожала меня, читала все, что я написал. Она несколько высокопарно зачитала любимые куски, и оказалось, что ей нравилось все. Вот уж не знаю, как я должен был отплатить ей за хорошие слова, но с помощью постели попытался.
Происходящее было до боли знакомо. Мы уже занимались подобным с Гвен. Любовь в дебрях исследовательской макулатуры. В какой-то момент я даже раскалился. Но потом вся пылкость испарилась, я стал как заезженная пластинка: качал, качал, а конца-края видно не было. Бедняжка окончательно растерялась. Через какое-то время я просто остановился, мы посмотрели друг на друга. Эрекция оказалась бесплодной. Мне пришлось извиниться и встать. Продолжать не было смысла. Наш акт не был следствием ни любви, ни привязанности, ни даже внезапного желания. Я обознался.
Спускаясь вниз по ступеням ее дома, я насвистывал через передние зубы «Большой шум из уинетки» и удивлялся, что тяга к Гвен после стольких месяцев была еще так сильна. А что касается статьи, то себя не одурачить – я не только не хотел писать ее, я бы не написал ее, даже приложив все свои усилия, чтобы доказать самому себе, что хочу. Я перешел в стадию размыкания со всем на свете.
Поэтому позвонил в журнал и сообщил, что статью писать неинтересно.
Новость их парализовала. Они начали протестовать, мол, я оставляю их в тяжелый момент, мол, это задание лежало у них в столе ради меня и ждало только меня.
Я сказал, что статья, по сути, уже готова, надо лишь использовать в ней другие имена. Поменять Колье на Блантона, а автомобили – на моторные лодки.
Прекрати дурить, сказали они, ты обязан написать ее, никто, кроме тебя, на такое не способен. Промелькнул слабый намек, что я, судя по затратам на предыдущем задании, у них немного в долгу. Пришлось сослаться на аварию, выразить удивление, мол, еще неизвестно, кто у кого в долгу. Я сказал, что хожу сам не свой (я даже услышал жалобную нотку в своем голосе), подташнивает и мутит. Неужели они не заметили, что сквозь загар проступает обыкновенная бледность?
Им пришлось признаться, что я действительно выгляжу плоховато. А потом все-таки заставили меня пообещать не браться за работу до тех пор, пока я полностью не войду в форму. Обещание прозвучало могильно.
Я вышел из телефонной будки. Был полдень, я был свободный человек. Как поется в песне: «Не знал я, куда иду, но шел».
Верно лишь одно – выздоровление закончилось.
Глава седьмая
Я очутился на какой-то улице. Где точно, не имел понятия. Было жарко. Сверху палило солнце. В облаке смога это место было ярче, чем другие. Мои глаза обожгло. Нос учуял индустриальные отходы. Я их чувствовал даже на губах. В воздухе разливалась ядовитость. Мне нужно было укрытие. Я подумал о маленьком подвальчике в Индио. Там, наверно, прохладно и безопасно. Но так далеко отсюда. И я туда не хотел.
В некоторых городах вы идете в бар и принимаете рюмочку, чтобы согреться. В Лос-Анджелесе вы идете в бар, чтобы избавиться от сального смога.
Внутри заведения было темно и прохладно. Я с облегчением вздохнул. Первая рюмка водки с тоником очутилась во мне еще до того, как глаза привыкли к полумраку и оказались способны различать окружающих. По бокам стояли люди. Интересно, а что они здесь делают в середине рабочего дня, глядя перед собой, отстраняясь от соседей? Все как один респектабельны, похожи на представителей процветающих компаний. Неужели тоже, как и я, бросили работу?
Домой идти не хотелось. Как и остальные в баре, я желал только одного – стоять и ощущать себя бочкой с порохом, к которой подведен короткий шнур. Оброни кто-нибудь сердито подожженную спичку, и бочка взорвется.
Я подошел к музыкальному автомату, нашел Эла Хирта. При звуках «Явы» никто не зааплодировал выбору. Но никто и не возразил.
Интерьер бара был выполнен в стиле а-ля Гавайи. Но самих гавайцев видно не было. Я выпил еще водки и ушел.
Только четыре часа. Если идти домой, придется объяснять Флоренс массу вещей.
Снаружи было еще жарче. На глазах выступила влага. Я ощутил пыль в воздухе. Куда же скрыться от смрада?
Я проходил мимо отеля. Зашел внутрь. Название его было «Пальмы». Но пальм не было. Комната с кондиционером. Я упал на кровать. Окна закрыты. Потолок – белая, без пятнышка, плоскость. Нет даже мух. Комнату только что привели в порядок. Я встал и включил телевизор. Потом встал и выключил телевизор. Вспомнил, что по пути в комнату видел бассейн. Пошел к бассейну. Вода мерцала прохладным аквамарином. Я нагнулся и окунул в нее палец. Вода тяжело пахла хлоркой и дезинфекцией. Я вернулся в комнату и вымыл руки. Наискосок по унитазу тянулась бумажная лента, надпись на которой утверждала, что судно стерилизовано для моего пользования. Полотенце источало запахи дезинфектантов. Этим же пахли простыни. Я включил кондиционер, чтобы выветрить все запахи. Струи толчками пошли над кроватью. Я продрог за минуту.
Я встал и вышел на улицу. Подъехало такси. Я остановил его и поехал на аэродром, где стояла моя «Сессна-172».
Увидев меня, механики обрадовались. Они еще не знали, что с «Зефиром» покончено. Для них я был собственник «Сессны». Пока шло мое выздоровление, единственное место, где я не позволял себе хохмить, это в конторе по обслуживанию «Сессны». Плата поступала исправно. Поэтому когда я попросил выкатить голубушку, ее выкатили без задержек.
Вынырнув из смога, я оказался на высоте семь сотен футов и парил над пляжем Санта-Моника. Повернул на север, шлейфы зловония ушли назад. Четко различались желтоватые дымы. Сера.
Севернее Малибу желтизна уменьшилась. Я клюнул вниз и пронесся над пляжем Зума на двухстах футах. Затем решил проведать Каньоны. Воздух там был чище. Солнце било в лоб. С одного боку горы темнели, с другого – отливали серебром. Я засек стадо оленей, сонное царство. Они обычно пасутся по ночам, а днем отсыпаются в кустарниках. Я застрекотал прямо над ними и перебудил все сборище. Они побежали. Картина получилась красивая, они бежали по лощине, куда солнце не доставало, и я видел лишь их несущиеся тени. Стадо убежало в сторону, обогнуло холм и исчезло.
Я повернул на юг. Над деловым центром Лос-Анджелеса смог напоминал облако газа времен первой мировой войны, убивший все живое, но не растаявший в массе города. Несколько зданий, включая башню «Вильямса и Мак-Элроя» – западное отделение агентства, протыкали ядовитое марево. Я начал описывать круги вокруг башни на скорости, близкой к эффекту «обратного управления», когда самолет может не послушаться летчика. Круг за кругом. Я вновь задался вопросом: а была ли эта рука ниоткуда, повернувшая мою машину в бок грузовика, на самом деле? Смешно! Тогда почему я долдонил всем, что была? Потому что была не была, но не хотел же я убить себя? Тот, кто вывернул руль, определенно был не я. Открыв дверь кабины, я наклонился наружу, едва не вываливаясь. Я ждал. Самолет кружился вокруг башни. Я позвал: «Эй! Рука друга, рука врага, явись!»
По полицейской частоте радио шел сплошной поток ругательств в мой адрес. Я похерил «копов», мне надо было обязательно выяснить, появится ли «рука», коли я предоставил ей такую возможность. Ну что ей стоит заклинить стабилизатор или просто вытолкнуть меня, я уже почти вываливался и так.
Ситуация идиотская. Я описывал круги вокруг башни, ожидая развития событий. Я орал в белый свет: «Эванге-ле-е (так звал меня отец)! Эвангеле! Зачем ты хочешь себя убить? Скажи, Эвангеле! Где ты предал себя?» Ответа не последовало. Ни знака, ни руки, ничего! Сверху подлетел полицейский вертолет. Я видел их перекошенные физиономии, слышал их рев по радио. В тот день невменяемое состояние Эдди Андерсона не помогло отыскать ответ на жгучий вопрос. Даже усугубленное его животным криком, напоминающим рык блаженного пророка в наиболее известных библейских хрониках. Она, рука, придет – если придет – неожиданно.
Стражи порядка ждали меня у полосы. Ради моей персоны забросили все дела и приехали. Обещали, что устроят головомойку, каких свет не видывал. Я подарил им свою лучшую «ничейную» улыбку и отбыл в машине домой.
Дома меня тоже ждали – Флоренс и доктор Лейбман. Их лица выражали убийственное спокойствие; такую мину они всегда корчили в ситуациях, близких к истерике. Вежливо привстали, увидев меня. Доктор Лейбман ухмыльнулся, такой, знаете, очаровашка. Но и я, и они знали, каково было веление времени. Я должен был немедленно сгинуть прямо на месте. Что же они скрывали за своими масками спокойствия, черт возьми? Что я полоумный, свихнутый?
Появились «копы» в гражданских костюмах. Шли от стоянки, оставив на ней полицейский фургон с радиоантенной-перехватчиком. Флоренс вовремя засекла их и побежала навстречу, расплываясь в любезности. Мне же крикнула, чтобы я оставался на месте – дорогой, мол, она все сделает сама. А я остался наедине с доктором Лейбманом.
Он подарил мне свою изысканнейшую улыбку – «распахнутое настежь сердце»! И получил в ответ мою «ничегошную», тоже не из худших. О, как мы оба были уравновешенны. Он сказал, садитесь, не хотите ли по глоточку: будто был у себя дома. Я сказал, с удовольствием, а что у вас есть, будто это был его бар. Он рассмеялся. Зубы у него были тонкие, с щелями меж ними. Я засвистел «Большой шум из уинетки». Он слушал меня, будто находился на конкурсе композиторов среди состава жюри. Затем повисла долгая пауза.
Он продолжал рассматривать меня. Когда мне стало невмоготу, я направился к бассейну. Лейбман пошел по пятам.
– Куда бы деть этого типа? – вопросил я громко, в расчете, что он поймет намек.
Я сел. Он тоже. Намеки на типа не действовали. Затем он повернул лицо и снова уставился на меня. Казалось, он ждал, когда я заговорю.
Мне стало неуютно. Кроме всего прочего, было страшно жарко. Я потел. Я снял рубашку. Он все ждал, когда я открою рот. Но я переждал его.
– Флоренс говорила, что я вам нужен, – солгал он. Затем осклабился.
Я спустил с себя брюки, скинул ботинки и прыгнул в воду.
– Итак, – сказал доктор Лейбман, когда я вынырнул. – Я весь внимание.
– Вы еще здесь? – спросил я.
– Да. Я жду.
– Ждать не надо. Мне сказать нечего.
– Скажите что-нибудь, – сказал он, улыбаясь.
Мне показалось, что щели меж его зубами разошлись еще больше. Кого-то, я точно не помнил, он мне напоминал.
– Начните с чего угодно. К примеру, какие у вас проблемы сейчас?
– Одна-единственная. Как избавиться от вашего присутствия.
На этой фразе я нырнул. Когда же выплыл, то обнаружил, что он смеется. И тут я вспомнил: он похож на маленького еврейского мальчика, из тех, что играют на улице где-нибудь в Нью-Йорке. И я больше не мог воспринимать его серьезно.
– Скажите, о чем вы сейчас думаете? – не унимался он.
– Ни о чем.
– Ни о чем? Но это невозможно – думать ни о чем!
Я держался за край бассейна. Он придвинулся с креслом поближе.
Внезапно он воскликнул: «Что? Что?»
Я молчал.
– Вы хотели что-то сказать?
– Чтоб ты провалился! – прорычал я.
– Ого! – сделал он открытие. – Итак. Ответьте мне, мой друг, почему вы так враждебно настроены по отношению ко мне? Хотелось бы слышать…
Я спрятался от него на дне бассейна. Малый загнал меня в угол, думал я. Долго ведь под водой не продержишься, а наверху – он. Они достали меня в последнем убежище, под водой.
Едва появившись над поверхностью, я завопил: «Флоренс!» – и продолжал вопить, пока она не прибежала и не увела его.
Пока они поднимались вверх, он что-то усиленно втолковывал ей. Я не вылезал из бассейна до тех пор, пока не услышал шум отъезжающей машины. Потом появилась Флоренс, и я вылез.
– Ну! – сказал я. – Каков же диагноз?
– Диагноз! – фыркнула она и захохотала, будто более уклончивого синонима для столь очевидного состояния я не мог придумать.
– Как ты отшила «копов»?
– Я пообещала им, что ты никогда больше не сядешь за штурвал.
– ТЫ пообещала?
– Да, я. – Когда ей возражали, в голосе Флоренс начинала проступать абсолютная непререкаемость. – Твоя воздушная эквилибристика ферботен. Это уже не я, а люди из гражданской авиации. Они звонили сюда еще до твоего приезда. Им не терпелось сообщить тебе лично, что тебя уже ждет следствие. И что оно будет иметь далеко идущие последствия.
Пришлось вновь прыгать в бассейн.
Обычно долго держаться под водой я не могу. Но тут я начал описывать круги по дну, как тюлень. Вынырнув, я увидел спину Флоренс. Она шагала в дом. Я посмотрел ей вслед и спросил себя: «Зачем ты измываешься над женщиной? Ради Бога, оставь ее. Езжай в Сиэтл. Ведь она же в душе убить тебя готова. А исчезнешь, она поплачет пару дней, и на этом все кончится».
Страданий Флоренс я больше выносить не мог. Поэтому опять ушел на дно. Оно привлекало меня все больше и больше.
«Бедняжка, – думал я, – мешки под глазами сегодня утром были такими большими». Она уже называла их «твои мешки». Вытирая по ночам слезы, она ругала меня на чем свет стоит. И я не могу сказать, что она не права. Если бы я был моей женой, я тоже ходил бы с мешками под глазами.
Я плыл по дну бассейна медленно и легко. Ко мне пришло «второе дыхание».
Я вспомнил тот день, когда решил поехать к Чету Колье с Гвен. Перед самым отъездом Флоренс сказала, что, пока меня не будет, она ляжет на операцию по снятию морщин.
– Зачем тебе это? – спросил я.
– Для тебя я и так хороша?
– Вполне.
– Угу. Как жена. Эванс, все это в конце концов будет напоминать медленную смерть. Я не заслуживаю того, чтобы меня игнорировали как женщину. Ночь за ночью. Поэтому я решила сделать хоть что-нибудь. Даже если ты и не заметишь, морщины я все равно уберу.
Вернувшись, я заметил. Косметическая операция имела место. Они стянули кожу за ушами, две маленьких складки. Я сказал ей, что перемена разительная. Так оно и было. Но на моем к ней отношении это не отразилось. И новый облик долго новизной не блещет. Шмерц вскоре поражает что-то другое. У нее это стало «мешками».
Я вынырнул. Флоренс спускалась от дома, на лице – маска львицы. Она решительно уселась в одно из складных кресел и обратилась ко мне:
– Эванс, я хочу поговорить с тобой!
Когда она произносила ЭТУ фразу ЭТИМ тоном, я чувствовал себя слугой, которого вот-вот выгонят. Она сидела в кресле, курила, дымок выползал из уголка рта, а я не мог не думать. Боже, лишь бы она не сломала мои планы.
Затем я взглянул в ее глаза и понял, насколько я несправедлив к ней. Потому что женщина была напугана. Она собиралась поговорить с мужем, который снова хотел убить себя. На этот раз в самолете. Она – достойна уважения, но и у нее есть нервы.
– Прости меня, Флоренс, – сказал я.
– О, дорогой, не в этом дело, мне бы…
Она не смогла договорить.
– Что, дорогая?
– Мне бы хотелось, чтобы ты подумал обо мне хоть раз как о друге. Я ведь не враг тебе. Все, что я хочу, – это помочь тебе.
– Я знаю.
– Поднимись и сядь рядом.
Я вылез и присел рядом.
– Эванс, дорогой! Как-то ты говорил мне, что тебе ничего не надо. Ни меня, ни этого дома, ни этой жизни. Я не забыла тот разговор. Но, пожалуйста, подумай обо мне как о друге и скажи, чего тебе надо?
– Я не знаю.
– Ее?
– Кого?
– Кого!
Я смолк. Молчание – сфера, где я силен.
– Эванс, я – твой друг. Если тебе нужна она, если тебе это принесет счастье, – что ж, иди. Не бойся правды.
– Дело не в ней…
– Эванс, я твой друг.
Мне захотелось в бассейн. Флоренс поняла это. (Сужу по ее следующей фразе.)
– В бассейн больше не лезь. Какой же ты испорченный мальчишка!
И я сел на сухую землю, выпадая из своего времени, молча, сорока четырех лет от роду, выжатый как лимон, не знающий, чего же я хочу. Неужели это состояние называется крахом? Ведь во мне рухнул основной столп жизни. Я не мог ни делать что-либо, ни не делать, ни идти и ни не идти. Я едва мог шевелить губами. Я скорее снова ушел бы на дно бассейна, и все. Но совсем уж разбитым я себя не ощущал – если это и был крах. Я существовал без воли, без желания или сопротивления, даже без веса. Я плавал.
– Флоренс! – позвал я.
– Да, Эванс.
– Ничего, – сказал я.
Говорят, что у жирафа, когда вокруг его шеи смыкаются челюсти льва, нет выбора и смерти ему не избежать.
– Почему ты не хочешь поговорить с доктором Лейбманом еще раз?
– Говорил. Никакого толка.
– Он очень чуткий, отзывчивый и честный человек. Он – сама доброта.
– Хотелось бы иного. Яростного, уничтожающего, немилосердного и готового убить.
Я поглядел на нее и улыбнулся.
«Ну зачем, зачем я мучаю ее? Мне надо просто исчезнуть. Да, да, уехать в Сиэтл. Разве жизнь этой достойной женщины нуждается во всех хитросплетениях твоей жизни? Освободи ее! Иначе она медленно умрет!»
– Я бы поспал сейчас, – сказал я.
– Буду следить, чтобы тебе не мешали. Может, принести раскладушку? Может, выпить? Сок? Или чего еще? Скажи, Эванс.
– Нет, спасибо. Я ложусь и сплю. Устал. Говорить больше не могу.
Я поцеловал ее в щеку.
– Извини, что я такой. Это не твоя вина. И не думай, что ты во все замешана. Ты – превосходная женщина.
Она всхлипнула, рывком притянула меня к себе и поцеловала, метя в губы. Но я не мог, просто не мог ответить тем же. Я обнял ее и сказал:
– Спасибо, спасибо. Такой девчонки, как ты, нигде в мире нет. А со мной… тут только я, и никто другой.
– Видишь ли, Эванс, я не могу бросить тебя и уйти. Я сделана из другого теста. А теперь спи.
Она развернулась и пошла вверх. Ей стало лучше.
А я ощутил выпирающий животик. Отец и все дядья, насколько я помнил, гордились своими животами. Толстое брюхо в среде торговцев восточными коврами значило только одно: процветание. И в зависимости от величины протуберанца – насколько. Живот был индексом их банковского счета. А что же я? Лишний вес смущал меня. И я принялся отжиматься. Затем, не отрывая себя от земли, плюхнулся на живот и тут же заснул.
У меня – редкий дар. Я везде и всегда могу спать. В те дни, когда мы с Флоренс еще придавали значение ссорам, в те первые месяцы у нас случались довольно резкие стычки, заставляющие ее порой просто трястись, иногда всю ночь, от злости. Моя же злость сменялась на сон. Она садилась на кровать, заведенная к следующему раунду, а воевать было не с кем. Однажды она раскалилась добела и даже убежала на кухню за ножом, собираясь зарезать меня. Но, примчавшись обратно в спальню, обнаружила, что я сплю. А пустить кровь спящему нелегко. Когда мы спим, лица у нас, слава Богу, такие невинные! И особенно хорошо иметь такого ценного союзника – сон, когда ты неправ.
Меня пробовали разбудить к ужину. Но я не просыпался, так как знал, что, бодрствуя, ни на что не способен.
Меня увели вверх в спальню. На ходу я разделся и упал в огромную, шикарную супружескую постель, забыв про пижаму и чистку зубов на ночь.
Я хотел длительного прекращения огня!
Но перемирия не вышло.
В эту ночь наше с Флоренс супружество окончательно развалилось.
Уже не вспомнить, в каком часу это произошло. Где-то в середине ночи, темной и бессознательной, я проснулся. Флоренс, тяжело дыша, сопела под боком. Я слушал звуки дома: все эти щелчки, жужжания, стуки – такие родные, милые звуки. Работяги-моторчики, машинки, созданные для выполнения своих маленьких работ, пока мы спим, несли службу. Помню, я долго вслушивался в них и незаметно для себя снова провалился в сон, а проснулся второй раз, осознав, что пытаюсь заняться любовью с Флоренс. Получалось. Я даже почти вошел в нее. И на этом – проснулся окончательно. Она – тоже. Мы посмотрели друг на друга. И я, не понимая, какую ужасную штуку проделываю, брезгливо оттолкнулся от нее, поняв, что со мной Флоренс – моя жена, а не Гвен. Я перевернулся на живот, яростно шипя, и затих.
Она смотрела в потолок. Я едва мог дышать и более не спал. Самая длинная ночь в моей жизни. Все разрешилось само собой!
На следующее утро видимых изменений в ритуале поглощения завтрака не произошло. За кофе мы оба любили читать новости; мы оба любили читать свежие, не мятые газеты, поэтому выписывали два номера «Лос-Анджелес Таймс». Как всегда, мы сели друг против друга, за садовый столик, со стеклянной поверхностью, оба в халатах, оба безопасны до момента, следующего за газетами.
Из Флоренс, казалось, вытекла вся кровь. На ней был розовый халатик, который смотрелся, когда она выглядела хорошо. Но роза – предательский цвет, и этим утром он лишь подчеркивал ее бледность.
Завтрак прошел в гробовой тишине. По-моему, Флоренс была напрочь вышиблена из седла и совершенно не знала, какой стать после ночного случая. Ей срочно нужен был доктор Лейбман – по расписанию в 9.20 этим утром. В 8.30 она ушла наверх переодеваться. Я остался сидеть. Мы были на грани пропасти.
Наступил очередной яркий серый день. Я пошел вверх за темными очками. Флоренс не слышала моего приближения, потому что я был босиком. Повернув голову, она разглядывала свои ноги в зеркало. Ее бедра сморщились, кожа на них висела складками. Я почувствовал угрызения совести, будто мог остановить ее старение или по крайней мере успокоить ее, мол, мне это не важно. Но я не сделал ни того, ни другого, потому что для меня разница все-таки была.
Улизнуть незамеченным не удалось, она поймала мое изображение в зеркале и быстро опустила юбку, как перед незнакомцем. Я попятился назад, но Флоренс окликнула меня:
– Вечеринка сегодня.
– О Боже, что еще за вечеринка?
– Напрягись и вспомни, что сегодня Беннеты дают ответную вечеринку по случаю твоего выздоровления.
– Вспомнил. Мы пойдем или как?
Она не ответила.
Еще бы – смертельно обидеть человека.
Я подошел к двери спальни.
– Флоренс! – позвал я. – Я очень виноват.
Она накладывала губную помаду.
– Эванс, – ответила она, – если бы ты действительно чувствовал себя виноватым, то постарался загладить вину. Но ты не делаешь этого. Поэтому, пожалуйста, не думай, что я тебе верю. Ты уже не отвечаешь ни за свои слова, ни за свои чувства, ни за поступки.
Она ушла.
Я спустился к бассейну, но и там для меня не было спокойствия. Ну сколько я смогу выдержать под водой? Хорошо бы пойти в турецкую баню! Я как-то провел в «Лакшаре» три дня. Но собраться туда сейчас?.. Я разделся догола, улегся на трамплин для ныряния и стал ждать. Чего-нибудь, чего-нибудь… Со мной можно было делать что угодно. Надежда осталась лишь на чудо. А может, произойдет катастрофа и именно она спасет меня? Может, меня убьют, может, убьют Флоренс, может, начнется землетрясение или война? Я понял, почему война так притягательна для людей. Она избавляет их от безнадежных личных невзгод. Война даже лучше турецкой бани. На нее можно свалить все что угодно, и ей можно все объяснить. Ну хоть бы кто-нибудь догадался кинуть атомную бомбу! Тогда я бы мог использовать подвальчик в Индио по назначению.
Я провалился в сон.