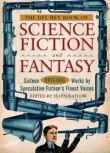Текст книги "Сделка"
Автор книги: Элиа Казан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Я выпил свой максимум и перестал бороться с опьянением – просто шагал, отпустив галстук, ослабив ремень на плаще. Проходя мимо другого пьяницы, дремавшего на тротуаре у входа в винный магазин, я снял с себя шляпу и водрузил ее ему на голову. Чем он там занимался: протестовал против закрытия или дожидался открытия, сказать не могу. Затем я нашел последний до сих пор открытый магазин и купил сигару за 85 центов.
А вот что случилось со мной на отрезке между 101-й и 16-й улицами и Лексингтон-авеню и 96-й улицей.
Я решил никому больше не угождать, кроме себя, поскольку всем, кому мог, я уже угодил. Я принес жертвы обществу, друзьям и сослуживцам, морали и нынешней семье. Я решил, что потратил слишком много своей жизни, служа другим, убеждая их, переигрывая их, обманывая их (для их же пользы), продавая товары, сделанные ими, продавая идеи, выставляемые ими на продажу. И, говоря понятнее, поддерживая их в стремлении жить, как хотят они, а не я. Я даже позволил подставить себя под пули громадному числу анонимных японских парней, и все это «ради нашего образа жизни»! Дудки! Теперь я погружаюсь в святость здорового эгоизма. Отныне я становлюсь симпатичным, спокойным, эгоистичным неудачником, антисоциальным, независимым выродком, невменяемым, скользким, недоступным и необщительным ублюдком. И если им это не понравится – Andale burro!
Я пересек 5-ю и 96-ю улицы и углубился в парк.
Что еще? У Флоренс для жизни есть все. Ко всему прочему, у нее есть и дорогой ей доктор Лейбман, дорогой натурально, посему плюнь и разотри! И Эллен, прямо радость берет, насколько она равнодушна к проблемам, не касающимся ее самой, вся так и светится от наполняющего ее душевного здоровья. Мои родители? Где я откопал идею, будто я – всеобщий опекун? Я любил их, и черт с ними. Что такого святого в родителях? С ними я выучился жить так, как живут звери, – рядом, но ни во что не вмешиваясь и ни за что не отвечая. Подводя итоги, – я просто не буду ничего делать из того, что должен или мне следует. Должен! Следует! Andale burro!
Если конкретней, пожалуйста! Мне не нужны дома, сады, плавательные бассейны, офис, секретарша, «Тсс, телефон!», три машины, миллион пластинок и книг. Мне не нужна одежда. В ту ночь я ощущал себя свободным даже от чувства голода. Мне было ясно, что я могу пить влагу воздуха и закусывать ночными видами. Тело было легким, тонким, упругим и не поддающимся никаким невзгодам.
На теннисных кортах, в самой темной части парка, я тридцать раз отжался.
На меня глазели бойницы укрепрайона восточной части Центрального парка – «Империал», «Бэрсефорд», «Дакота», «Мажестик» – череда мощных башен-небоскребов. Едва набирается с десяток горящих окон. Лучший в мире средний класс прожил еще один день. Мои поздравления, эй, вы! Надежно запертые в свои боксы с забитыми тряпьем полками, спаянные договорами, они спали сном королей. Все вокруг них в порядке. Или, по крайней мере, с их точки зрения, в порядке. Ни из одного окна, ни с восточной террасы, ни с западной никто не бросился вниз головой, пока я оглядывал панораму. Они все там, как диктует им их образ жизни, заперты, защищены, чисты перед Богом и друг другом, и до утра их ничего не касается. Когда солнце выглянет из-за «Карлайла» и будильники протрезвонят «Подъем», они вскочат, почистят зубы и будут готовы идти на службу, тащить груз забот, выполнять порученное и помогать миру одолеть еще один день.
Прощайте, эй, вы!
Andale burro!
Перед фасадом «Мажестика» я подумал о Флоренс. Она, наверно, проснулась после часового «нормального» сна, проглотила две таблетки снотворного для погружения во второй сон, не такой хороший, как первый, естественный, но все же. И я сказал ей: прощай, детка!
Перед Центром этики и культуры я, будто поминая умершую супругу, начал вспоминать славные денечки нашей совместной жизни. Вспомнил, где и когда мы встретились. Проходя через Вест-Сайд, 5, я вспомнил нашу первую близость. Это было на берегу озера, под неумолчное кваканье лягушек. И я вновь сказал: прощай, детка! Затем я миновал Национальный городской банк, банк, отнявший в 1929 году у моего отца все сбережения, и я сказал: прощайте, старые добрые годы! Перед старым Гарденом я уже ни к кому не испытывал злобы, потому что ненавидят тюрьму, а я из нее сбежал.
На углу 572-й улицы и 8-й авеню я покинул прекрасную моросящую улицу и зашел в бар, где пропустил рюмку. Я нуждался в прополаскивании горла, потому что вымок до нитки, и я насладился выпивкой, потому что простыл. Бар был уныл, полон вздорных актеров и процветающих, но тоже вздорных рабочих сцены. Они бранились, дразнились и спорили. Я послушал перебранки, оскорбления, споры и почувствовал, как меня согревает эта перебродившая изнанка жизни. Где это я шляюсь, так далеко от дома? В этом баре все были невежливы, некультурны, невыдержанны, неуступчивы и злобны. На что я променял эту чудную изнанку?
Перед платформой Пенн, разрушенной в тот год, я дотронулся до мысков при прямых ногах 23 раза в память о старом, здании, которое сломали, как сломали мою старую суть.
Andale burro!
Я выпил еще рюмку в «Порт-Саиде», что на 28-й улице. Будь я трезвым, разве я бы сделал то, что собирался! Без столь обильного возлияния я бы ни за что на свете не отправился на 12-ю улицу, чтобы отодрать задницу моей подружки от блока льда, который держал ее стерильной и нетронутой в течение полутора лет! (Нетронутой ли?) Без мощной поддержки последней рюмки я наверняка мог свернуть с пути и вскоре благоразумно спать в маленьком номере «Алгонкина».
У меня была бумажка Чета. Когда я пришел на место, я позвонил в ее квартиру. Никто не взял трубку. Я прочитал номер квартиры еще раз – 3F. F – означает фасад (Мозги еще шевелились!). Я вышел на улицу и поднял глаза вверх. Окна ее квартиры были темны, шторы подняты. Я решил ждать. Пересек улицу и сел на гидрант. В Нью-Йорке негде сидеть. Я встал, потому что готов был немедленно заснуть. Постоял, сел и, рискуя свалиться, все-таки заснул.
Я всегда дремлю вполглаза и вполуха. Неожиданно проснувшись, я увидел Гвен и молодого человека массивной комплекции. Я вскочил и встал на изготовку. Мои движения были резки, и странно, что они ничего не заметили. Тем не менее они свернули в подъезд дома Гвен и остановились в проеме, обсуждая что-то серьезное. Иногда мне казалось, что они смотрят прямо на меня. Но я был в темноте, и они, конечно, ничего не видели.
Между ними шел классический разговор на тему: идет ли мужчина к ней или идет к себе домой. Они еще не достигли той стадии, когда мужчина идет к женщине домой как само собой разумеющееся. Парень был неопытный, сообразил я, потому что опытный сразу пошел бы с ней наверх.
– И не спрашивай, дружище! – крикнул я. – Топай наверх. И ей ничего не останется делать, как идти за тобой.
Совершенно очевидно, что она еще не воспринимала парня мужчиной, потому что если бы дело обстояло наоборот, то она, будучи Гвен, сама потащила бы его наверх. Большинство девчонок сдаются, потому что так легче, потому что не хотят разочаровывать, потому что делать больше нечего, потому что мужчина настаивает, потому что по его глазам видно, как он хочет, да для них это не так уж и важно – с кем, что и как. Только Гвен не сдается. Она решает, как мужчина, и выполняет.
– Тогда, – добавил я громко, – ее сила удесятеряется!
Машин на улице не было, и они услышали, как пьяница на другой стороне толкует сам с собой. Но не обратили внимания. Этот увалень, двухсотфунтовый (по крайней мере!), крупнее, чем его брат Чет (если он был его братом), казалось, уперся и решил медленно, но верно добиться своего. Он стоял, мерцая очками инженера, корректно хмурился и двигал челюстью. Судя по лицу Гвен, ей было наплевать, пускать его в дом или нет.
– По-моему, ты ей не по душе, парнище! – крикнул я.
Они услышали мои слова. Обернулись и с минуту смотрели на пьяницу. Затем Гвен взяла руку Чарльза – ей надоело переливать из пустого в порожнее – и повела его наверх. «А теперь любуйся, что ты наделал! – сказал я себе. – И к чему это привело!»
Но я приободрился. Не тем, что она сделала, а тем, что не сделала. Она не пустила его к себе как «само собой разумеющееся».
А теперь, сукин ты сын, возвращайся в «Алгонкин», в свою конуру и читай «Сидхартру» или другое подобное издание, прославляющее прелести внутренней жизни!
В квартире Гвен погасили свет. Сначала в комнате с двумя окнами (наверно, жилая), а затем – с одним.
(Наверно, спальня. Я еще соображаю!) Я шагнул на проезжую часть, чтобы поближе рассмотреть, что же там происходит, и проходящий грузовик с надписью «Дейли Ньюс», развозивший газеты, чуть не сделал меня персонажем утренних новостей о дорожных происшествиях.
– Будь осторожней, с них не убудет, собьют, и крышка! – предупредил я себя.
Когда грузовик скрылся из виду, я увидел, как штора в окне спальни поползла вниз. Вот и все, подумал я, ступай в отель.
Я был пьян и пятился назад, пока не зашиб пятки. Тогда и сел. Рядом стояла телефонная будка, и, сев на тротуар или на водосточный желоб, я привалился к этой будке. Вот он я – владелец акций и вице-президент «Вильямса и Мак-Элроя», беспристрастный муж – только во время женатой жизни? – в роскошном доме Лос-Анджелеса, в доме с бассейном, мужская половина прославленной «Золотой пары», сижу на водостоке, предаваясь невеселым размышлениям на тему, как же мало, в конце концов, расстояние между вершиной и подножием. Во время акта мысли великий человек уснул.
И снова восьмое чувство разбудило меня. В квартире только что погасили свет. Затем штора спальни поднялась, и окно открылось. Не помню, чтобы Гвен была любительницей свежего воздуха.
– Ему надо восстановить силы! – заявил я. – Такой туше требуется много кислорода только на пыхтенье и сопенье, не говоря о прочем!
Слава Богу, я держу себя в форме. А эта туша так, наверно, потеет, подумал я.
Мое сидение на тротуаре становилось совсем смешным, и я решил отправляться в гостиницу. Я встал. Моросящий дождь перешел в нормальный. Я зашел в будку, прислонился к стенке и стал смотреть на здание напротив. Тут я заметил полицейского. Ни одного нью-йоркского номера я не помнил, поэтому вытащил клочок бумажки с телефоном Гвен, сунул никель в щель автомата и набрал номер Гвен. Я и так собирался позвонить ей. Из будки я расслышал звонок телефона в ее квартире. И когда полицейский подошел, штора в окне опустилась, свет убрался, Гвен ответила.
– Алло, – сказала она. – Алло!
Я долго молчал.
– Кто звонит? – спросила она.
Я ждал, пока пройдет полицейский, но не вешал трубку. И потом, уж не знаю, вслух ли, мысленно – я уже не различал – сказал:
– Какой у нее чудный голос!
Она, видимо, приняла меня за одного из тех шутников, что звонят людям посреди ночи и замолкают, дыша в трубку. Но ко мне вернулся ее голос, все тот же чудный голос, такой девчоночий. Это был девчоночий голос моей девчонки. Она повесила трубку.
Я почувствовал себя пацаном, робким, несмышленым и решил уйти. Я выпрямился и уже собирался толкнуть дверь будки, взглянув на прощание на ее окно, но конец шторы поднялся над подоконником дюймов на пять и заколыхался на сквозняке. В комнате опять была жизнь. Я спросил себя, а снял ли он свои очки?
Нарушу-ка я их уединение, подумал я, набирая ее номер. Прерву их любовную игру, и, может, после этого он уже не будет способен на активность.
Меня, конечно, надо было убрать оттуда.
Никто не отвечал. Я не опускал трубку и чувствовал, с немалой толикой удовлетворения, что я и вправду чему-то мешаю. Когда она наконец взяла трубку, ее голос звучал по-другому. Я изобразил нечто вроде: «Пожалуйста, мистер Андерсон, соединяю». Какой неумелый розыгрыш, подумал я, секретарь, да еще мужского пола, в час ночи. Нет, это официант в «Литл Клаб», мелькнуло в голове. Ого, давно я уже не пользовался таким грязно пахнущим методом общения.
– Хелло, Гвен! – сказал я самым приятным голосом, какой мог выдать. – Хелло, Гвен! Это – Эдди!
Еще с тех пор, как я был мальчишкой, я всегда объявлял свое имя как событие. Несмотря на это, возникла длинная пауза.
– Я помешал? – спросил я.
– Нет, – ответила она. – Все в порядке.
Штора опустилась вниз до конца, и свет исчез.
– Как твои дела? – спросила она.
– О, прекрасно.
– Ты где?
– Здесь, в Нью-Йорке. В ресторане «Литл Клаб». Приехал на восток писать статью.
– А-а, – сказала она.
Что «а-а», подумал я, что «а-а», детка?
– Извини, кажется, время позднее для звонка, – сказал я. – Но я названиваю целый вечер, а тебя нет и нет.
– Да, меня не было. Уже поздно, конечно. А почему бы тебе не позвонить завтра?
Ого, а ты еще хочешь поговорить со мной, подумал я. О’кей, это-то я и хотел выяснить.
– Позвоню завтра, – сказал я.
– О’кей, завтра.
А ты не хочешь говорить при нем, да?
– Ты не против, что я звоню тебе? – спросил я.
– Нет. Почему?
Одно из ее «Нет. Почему?». Знакомый уход от ответа.
– Потому что, – сказал я. – Мне надо спросить тебя кое о чем. Это срочно.
Отлично! Срочно нуждаюсь в помощи! На это они всегда откликаются.
Затем, как пишется в книгах, микрофон промурлыкал что-то не касающееся меня. Чарльз, наверно, встал и ушел в другую комнату. Потому что, заговорив снова, она будто ушла от всевидящего ока стражи. Если за ней наблюдают, подумал я, значит, она чувствует себя не в своей тарелке и не хочет говорить при посторонних.
– Теперь говори, – сказала она, – как ты жил?
Нуждался в тебе, сказал я себе, как жил – вот так и жил!
– Даже не знаю, – сказал я. – Ты ведь меня знаешь. Только спустя год могу сказать, как. Или пока кто-нибудь мне об этом сам не скажет.
– Эдди, прекрати баловаться, ты ведь знаешь, как ты жил. Отвечай.
Фраза рассмешила меня. Гвен говорила уже не как девчонка, а как Гвен. Тут я посмотрел на окна жилой комнаты. Там шторы не опускались, и в проеме был виден Чарльз. Он был в трусах и майке. Атлет, гора мускулов. О Боже, подумал я, неужели в этих трусах он ложится к ней в постель?
– Эдди?
– Что?
– Ты молчишь. Я думала, ты повесил трубку.
– Я думал, что поднял тебя с постели. Извини, если это так.
– Да, я уже спала.
В окне появился Чарльз, держа в руках банку пива.
– Тогда извини, – сказал я. – Иди спать. Мне просто была нужна твоя помощь.
– А-а.
– В одном щекотливом вопросе.
– Она залетела?
Ревнует? Чарльз хлебал свое пиво. Надо закинуть еще один крючок, детка, подумал я, поговорим еще. Я положил в телефон второй никель.
– Эдди?
– Да.
– Ты исчезаешь.
– Нет, я здесь. Ты знаешь, воспоминания… Извини, моя дочь Эллен в опасности, а совсем не то, что ты думаешь. Ты помнишь Эллен?
– Да, помню.
– Она совсем взрослая.
Гвен молчала. Я видел, как Чарльз что-то сказал ей из другой комнаты. Что – я не слышал. Но зато я услышал другое. Хоть Гвен и зажала трубку ладонью, прошло это знаменитое повторение: «Это просто один старый знакомый!» Он еще что-то сказал, а я подумал: возьми-ка, дружище-скуловорот еще баночку, потому что «просто старый знакомый» будет на линии, возможно, еще долго.
– Эдди, – сказала Гвен, – я, наверное, пойду. Уже поздно.
– Хорошо, – сказал я. – Я расскажу тебе все, когда увидимся.
– А когда? – спросила она.
О Боже, подумал я, какой странный договор у них там наверху!
– А когда для тебя лучше? – спросил я.
– После полудня будет поздно.
– Утром я не смогу. Эллен придется ждать еще день.
– Она больна или?.. – спросила она. – И вообще, почему именно я?
Англичане говорят в таких случаях «погода ушла».
– Позвоню завтра. Во сколько?
– В шесть, – сказала она. – Спокойной ночи.
– Подожди, подожди, – сказал я.
– Эдди, – сказала она. – Мне только сейчас пришло в голову, что ты пьян.
Я увидел, что Чарльз начал как-то странно вести себя в соседней комнате. Будто разыгрывал пантомиму, напоминая мне котенка, играющего с фантиком.
– Эдди!
– Что? О-о! Извини, здесь назревает потасовка. Рядом со мной, за будкой. Ты слышишь? В баре полно футболистов. Сегодня в Нью-Йорке был большой матч!
– Не знаю, – ответила она. – Мне не нравится футбол. Кстати, Эдди, а где ты взял мой номер телефона?
– В самолете встретил Чета Колье. Он дал.
– Значит, ты знаешь и мой адрес?
– 116, Восток, 12. Так в записке.
– Тогда увидимся завтра.
Она повесила трубку, выключила свет и подняла штору. Я постоял, наблюдая за Чарльзом. Затем прошел до угла и остановил такси.
В «Алгонкине» для меня лежали три записки. С одним и тем же содержанием: звонил мистер Штерн.
Эллен наверху не было. Но она оставила листок бумаги со словами: «Звонил твой друг, мистер Колье, и, поскольку тебя не было, он сказал, что подойду я. Он решил показать мне „его“ Нью-Йорк». Затем шла приписка другой рукой: «Можем вернуться поздно. Не волнуйся, я позабочусь о ней. Искренне ваш, Чет». Было три часа ночи. Я слишком устал, чтобы гадать, где они.
Глава двенадцатая
Я висел на стене, подвешенный за рубашку на крюк. Висел вверх ногами, одежда сползала вниз. Висел как олицетворение отчаяния. Но чье? В длинной, прямоугольной комнате никого, кроме меня, не было. Только на противоположной стене расплылся огромный глаз. Бровь, неодобрительно изогнутая, была до боли знакома. Глаз чего-то ждал от меня, а я бездействовал. Да и что я мог поделать, висящий вверх ногами, беспомощный, как спеленатое дитя! А неодобрительно всматривающийся глаз совсем парализовал меня. Смилуйся, взмолился я, прекрати ТАК смотреть! Дай мне шанс! Но глаз знал, что он прав. Мое нутро было сломано, и никто ничего не смог бы с этим поделать.
Я был готов начать хныкать. В детстве я часто ревел, но ничего хорошего из этого не получалось. Глаз не смягчался. Одеяло, из-под простыни, полезло на голову – что ж в этом хорошего? Мой совет: заткнись и прими как должное. Лично для тебя это вышло глазом. Попробуй просто пережить это.
И я попробовал. И почувствовал, что огонь глаза угас, я вспомнил, что лежу на кровати, а кровать – в номере отеля «Алгонкин». Меня тряс озноб. Я укутался в одеяло как в кокон, но меня трясло от холода. Дергалась голова, выворачивался желудок. Но я уже был в безопасности. Из старых, сломанных ходиков, беспомощно висящих на стене, я вновь превратился в человека. Кошмарный сон кончился.
Черт возьми, что со мной происходит?
Впервые этот кошмар посетил меня во время эпидемии гриппа. Неделю не спадала высокая температура. Каждую ночь, лишь только мать выключала свет в моей комнате и выходила, я кутался в одеяло и ждал. Кошмар приходил и доставал меня, как бы глубоко я ни зарывался в постель. Он приходил каждую ночь и каждую ночь покидал меня: опустошенного, рыдающего, запуганного пережитым ужасом. Даже не могу объяснить, чего я тогда боялся. Затем грипп прошел, температура вернулась к нормальной, и я засыпал без страха. Но лишь только в течение последующих лет температура поднималась, кошмар был тут как тут. Я вновь повисал на стене вверх ногами, висел как объект ужасного, но заслуженного неодобрения.
Я вырос, пошел в колледж, затем на войну, пришел с войны, поругался с отцом, на свой страх и риск избрал другой жизненный путь, отличный от отцовского, торгового; кошмар не приходил. До сегодняшней ночи. Что же случилось?
В животе начала подниматься тошнотворная волна. Я поспешил в туалет.
После рвоты я всегда изучаю себя в зеркале. В такие моменты моя физиономия, как мне кажется, максимально приближена к тому, как бы она выглядела в гробу. Вполне, кстати, понятное любопытство. Я долго глядел на серую скульптуру, над изваянием которой я трудился всю жизнь. Гримаса в зеркале все еще испрашивала милости, все еще молила: «Смягчись. Не суди меня строго. Дай мне еще шанс!»
– К дьяволу! – произнес я вслух, скорчил целеустремленную физиономию и, раздвинув занавески, прошел в спальню.
Эллен спала. На полу у софы, на которой она свернулась, лежала записка, исчерканная крупными буквами: «Не буди. Привет. P.S. Твой друг тебе не друг. Берегись».
За окном было еще темно. Без пяти шесть утра. Улицы отдыхали. Последние минуты тишины. Я вспомнил одну деталь кошмара: глаз. И понял, откуда у него такая неумолимость. От отца. Его горящий взгляд преследовал меня все детство.
Пойду проведаю старика сейчас же. К черту Глорию и ее «Приходи после полудня!». Я начал одеваться.
Стенные часы… Я вспомнил их. Они висели на стене в столовой. Часы были узкие и висели на крюке, вбитом в стену. Помнится, мне довольно часто приходилось залезать на стул под руководством отца и снимать этот старый, разучившийся ходить механизм с крюка, потом осторожно нести его и класть на заднее сиденье машины для доставки в часовой госпиталь. Часы постоянно нуждались в ремонте. Когда я приподнимал их над крюком, музыкальные трубки и пластинки внутри сдвигались и часы издавали перезвон. Музыкальные части никогда не подчинялись строгой отмеренности собственно часов. Иногда, оставаясь один дома, я залезал на стул, трогал корпус и слушал, как они поют. Но даже лучшие врачи часового госпиталя не могли заставить музыку звучать, когда ей положено. Старые часы были на редкость своенравны, а для механизма подобное качество вовсе не является достоинством.
Отец был привязан к часам, хотя и не доверял их показаниям. Когда ему требовалось точное время, он звонил в «Информейшн». В те добрые, наивные времена телефонный узел в Уэстчестере выдавал информацию о времени бесплатно. Потом они поняли ошибку и стали запрашивать за услугу десятицентовик. (Отец платил бы, он любил точное время!) Узнав время, отец вставал на стул и собственноручно передвигал минутную стрелку, бурча про себя ругательства на анатолийском арго.
Никому, кроме него, не разрешалось подводить или заводить их. Иногда я делал это тайком. Звонил в «Информейшн» и подводил их до прихода отца. Однажды Майкл, будучи еще сопляком и не желая мне вреда, настучал отцу. Помню, как он нахмурился, как брови его жестко выгнулись, как он посмотрел на меня и предупредил первый и последний раз, чтобы больше я часов не касался. Он хочет выяснить, на сколько они отстают в день, а как он сможет это сделать, если я сую нос не в свои дела? Я больше не притрагивался к ним. В те годы слова отца были законом!
В «Гранд Централе» поезд ожидал меня на верхней платформе. Я взял билет до Стамфорда. Вскоре мы, скрипя, тронулись: 125-я улица, Маунт-Вернон, Колумбус-авеню, Пэлхам, Нью-Рошелл – тропка, до блеска натертая ногами моего отца и миллионами пассажиров. И по пути я вспомнил, как я жил тогда, жил с отцом…
Впрочем, жизнью это назвать трудно: я видел его не более часа в день. Утром я оставался в своей комнате на втором этаже до тех пор, пока не слышал, как он садился в такси, которое везло его до станции. Затем я сбегал вниз, глотал завтрак и мчался в школу. В школу, кстати, часто опаздывал, но это было лучше, чем попадаться отцу на глаза.
Вечером же избежать встречи с ним я не мог. Самое важное событие для матери, Майкла и меня было прибытие отца с работы. По мере приближения той минуты, когда он входил в дверь, мы трое становились все тише и собраннее. Два фактора определяли его настроение: как прошло утро, каковы были его покупатели в его магазине «Сэм Арнесс. Восточные ковры и подстилки» и как прошел послеобеденный час с букмекерами в Акуэдасте или Бельмонте. Лишь только он переступал порог, мы уже все знали. Если день был удачен, он нес фрукты. Он любил персики, груши, сливы, абрикосы и любой сорт дыни. Но больше всего он любил белый виноград без косточек.
Придя домой, он обзванивал постоянных игроков в бридж, созывая всех на вечернюю игру. Только побеседовав с каждым, он усаживался в кресло во главе обеденного стола и продолжал наш вечер. Он наливал себе «Узу», анисовой настойки, добавлял воды, по стакану расползались шлейфы дыма, и просил чего-нибудь слабого, аперитива. Мать держала все наготове и быстро приносила закуску: сардины, всегда фисташки, сочные греческие оливы, мягкие, как сливы, и немного кисло-соленого жесткого сыра, который делали в той части турецкого высокогорья, откуда был родом мой отец.
Заморив червячка, он поворачивался ко мне. К тому времени он наливал себе второй стакан «Узу», и огонь его глаз разгорался, обжигая меня. Он оценивающе хмурил брови и спрашивал:
– Чем сегодня занимался, мой мальчик?
Никогда не забуду, какую бурю страха поднимал во мне этот простой вопрос! В одну секунду губы становились сухими и сжимались, не расцепишь. Когда я, причиняя себе боль, расцеплял их, то отвечал: «Ничем».
– Ничем?! – переспрашивал он, своим горящим взором пронизывая меня и посылая в полную прострацию. – Ничем?
Затем он ждал объяснений. И колол фисташки. Я молчал, парализованный.
– Каким же торговцем ты будешь? – говорил он. Причем слово «торговец» он произносил так, будто в нем заложен величайший смысл, будто само слово «торговец» идентично слову «мужчина».
С меня будто сдирали кожу. Я понимал, что он расположен шутить, но для меня его слова не были шуткой. Основное чувство, оставшееся в памяти об отце, – его постоянная разочарованность во мне.
А он продолжал насмехаться, цепко держа меня злорадными глазищами с окостьем застывших дугой бровей, и уже требовал:
– Сколько денег ты заработал сегодня?
Скажите на милость, как отнестись к такому вопросу, если его задают мальчику, только начавшему ходить в школу? Он тяжело смотрел на меня, и я молчал, физически не способный произнести ни слова. А он выпивал второй стакан, вгрызался в черствый сыр из козьего молока и ждал.
– Бездельник! – укоряюще восклицал он спустя минуту, пробуя расшевелить мою оцепеневшую гордость.
– Сколько денег? – наконец говорил я.
– Да, – кивал он. – Денег. Ты не ослышался. Так сколько?
– Ни цента.
– Ну и что с этого получится? – Он грыз фисташки.
– Когда? – спрашивал я, вымучивая улыбку, потому что он вроде бы шутил; вчера такой же вечерний разговор оказался на поверку шуткой.
– Когда?! Когда я состарюсь! Надеюсь, кто-то будет заботиться обо мне. Но вот вопрос, кто?
– Я! – восклицал я, отчаянно пытаясь изобразить энтузиазм. – Когда ты состаришься, я буду заботиться о тебе! Не волнуйся, папа!
– Ты, мой мальчик? – говорил он. – Ты???
Он наклонялся вперед, щипком брал кожу моей щеки и крутил ее, оставляя полоски алого стыда. Затем он защипывал щеку еще сильнее и тряс мою голову, пока она не начинала болтаться, как у куклы. Я стоял и глупо улыбался, чтобы в конце концов все обратить в шутку.
– Хорошо! – говорил он. – Хорошо! А теперь объясни мне, мой мальчик, такую вещь – почему, когда я велел тебе учиться печатать на машинке, ты не стал учиться? Почему я сказал тебе – учись стенографии, ты не учишься? В этом доме все говорят о Шекспире, а не о стенографии, но когда я состарюсь, кормить меня будет Шекспир? Я вижу, у вас собрано много книг. (Зашла мать.) Томна, я говорю, что у нас много книг в доме, но нет пособий по стенографии. Я говорил тебе, Томна, тысячу раз, мальчику нужны книги по коммерции. Ответа нет. Линия занята. Но я знаю, какими вы тут делишками занимаетесь!
Он долго-долго смотрел на мать и говорил:
– Томна, в этих вещах ты должна слушаться меня. Ты поймешь, что я был прав, но будет поздно!
Мать, разумеется, отработала тактику своего поведения еще с ранних пор замужества. Она молчала. Она не отвечала. Едва заметно улыбаясь, она ставила пищу на стол. Еда отвлекала его, и потом мы вместе кое-как тянули время до ежедневной карточной игры.
Но отец обрушивал на меня еще один удар. Он сам обслуживал всех за столом – сначала мать, затем младшего сына, затем меня. Когда он протягивал тарелку мне, то его взгляд выражал такое разочарование, такой полный крах его надежд… О Боже, как это убивало! Затем он говорил: «Не волнуйся, мой мальчик! От тебя, Шекспир, я ничего не жду! Бездельник! Туда-сюда! Ничего не жду и ни в чем не нуждаюсь!»
Затем он изрекал последний приговор, обращаясь к своим предкам, традициям и богам, ко всем, кто разделял его боль по поводу рождения столь бестолкового старшего сына, всем объявляя свой вердикт: «Безнадежно!» – и принимался за еду.
Может, и не стоило ожидать от отца другого ко мне отношения. В конце концов из меня получилось совсем не то, что ожидают среди его народа от старших сыновей.
Как же я ухитрился избежать судьбы, уготованной мне отцом? Где я черпал силы? Теперь-то я знал, что спустя три десятка лет наступило время, когда я смогу оправдать себя в его глазах. Наверно, мне помогла материнская тактика ухода от вопросов в лоб. Но при тех обстоятельствах, вспоминал я, для ребенка я вел себя исключительно мудро. Я даже не ходил на курс коммерции в колледже! И это учитывая ежедневный надзор и прессинг и укоризну отцовских глаз, от которых я страдал физически! Как же я жил-то день за днем, избегая разговоров о колледже, уходя в сторону от его вопросов, исхитряясь делать то, что хотел… и в итоге все-таки закончить колледж по курсу, прямо противоположному тому, что он готовил для меня?
Я вышел в Стамфорде, спустился с платформы станции и перешел широкий проспект. На нем со мной произошло ЭТО – я будто подзадоривал идущую по пятам смерть и не глядел по сторонам. Машина остановилась в сантиметре от бедра. Мускулы мои напряглись, как у борца, делающего «мост». На тротуаре сердце екнуло, будто не сработали вовремя клапаны перекачки крови. Я вспотел, будто таскал мешки, даже в нос ударил запах пота.
Стоя в безопасности, я сказал вслух:
– Кто-то все еще хочет покончить с тобой!
Пройдя дверь госпиталя, я прямиком направился в мужской туалет. После вспышки страха мне требуется слить. В войну я летал на самолетах, приземлялся и взлетал с аэродромов, у которых на одном конце высилась стена джунглей, а на другом – пыхтел бульдозер, сгребавший остатки сбитых самолетов или выравнивающий еще несколько ярдов вспаханной бомбами полосы; мои бриджи частенько оказывались мокрыми.
Я склонился над умывальником и всмотрелся в свою физиономию.
– Лицо моего врага! – сказал я ей.
Еще недавно я портил себе настроение, посмотрев в зеркало. Волей собранное лицо выглядит нормально, глаза немного тревожны, да, все стянуто, черты лица угрюмы, даже чем-то облагорожены, трагичны. Но когда лицо в движении, я его пугаюсь. Оно распадается на кусочки. Я теперь понимаю кубистов.
На пятом этаже, за углом, сидели они. Племя собралось для свидетельства кончины или выздоровления вождя. Я подал назад и, как вор, из-за угла, осторожно пригляделся, кто конкретно сидит там и кого мне предстоит встретить. Майкл что-то говорил матери, кажется, утешал ее. Глории не было видно. Вдоль стены, как четыре чурбачка, сидели четверо моих дядьев – младших братьев отца. Старик и вправду плох, если уж и они приперлись, подумал я.
Великая депрессия подкосила не только отца, она разрушила связи между братьями. С тех пор вот уже более тридцати лет их не сводил вместе ни один случай. Да, свести их могла только чья-то смерть!