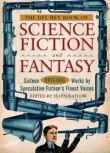Текст книги "Сделка"
Автор книги: Элиа Казан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Я запел свои любимые: «Я и моя тень», «Со мной все в порядке», «Прощай, дрозд!» и песню, занимающую первое место в моем собственном хит-параде (всех так волнует личность Эдди, и все же!), – «Эдди, не живи здесь больше!»
Как это мерзко – сидеть и самоуничижаться под дождем. Ну и что, подумал я?
Мне пришло в голову, что единственное свидетельство о существовании Эдди, – это дом. Я выбросил весь хлам, но остался сам дом. Я ударил по крыльцу. Краска отстала перьями. Вот и все, что осталось от Эдди. Дом – его последний след на земле.
В душе поднялось чувство праздника – некое яростное желание отметить смерть и возрождение. Захотелось смыть или сжечь старое и отметить приход нового. Всякое изменение совершается при кровопускании, даже самое первое – рождение. Огонь и вода иногда необходимы. Иегова не был жестоким. Он знал истину.
Мне показалось, что человеческую расу, судя по преданиям, время от времени обуревало чувство обновления, как и меня сейчас, – заявить, что что-то плохо, уничтожить это плохое и тем самым расчистить место для подрастания нового.
Меня всегда потрясало, как быстро прорастает свежее. Я вспомнил то время, когда в попытке сделать жизнь на западном побережье сносной, я купил ранчо в Охайе, сотня с лишним акров земли, москиты, заросли шалфея, кусты с шипами и змеи. Пару лет я ковырялся в земле, так и не приблизившись к искомому, и по ходу дела сжег массу кустов. Делалось это так: несколько старых автошин, заправленных керосином, раскладывались меж кустов и поджигались. Не знаю, из каких химических компонентов состояла резина, но горела она превосходно. Пламя пожирало все: сухое и мокрое, цветущее и засохшее. К следующему дню от мощных кустов ничего не оставалось, кроме нескольких железных колец, составлявших каркас шин. И пепла, несколько дюймов глубиной. И этот пепел даже не успевал до конца остыть, когда сквозь него пролезали к свету маленькие зеленые ростки. Корни не выгорали.
Я встал и снова ударил по крыльцу. Лепестки краски отслоились, и обнажилось дерево. Добыча для огня, подумал я.
Внутри дома я прислушался. Сверху, заглушая дождь, слышался перестук капель о дно металлических кастрюль. Я пошел наверх, туда, куда мать перекрыла доступ для воды и отопления. Ступени привели меня на третий этаж, в небольшой холл, освещаемый лишь светом из окна. Вокруг были три комнаты для слуг, и одна дверь вела на чердак, на наш огромный чердак. Открыв туда дверь, я увидел, что под щелями и дырами под крышей стоят горшки и кастрюли из кухни. Когда мы с Гвен готовили, то заметили, что из утвари осталось всего-навсего пара тарелок и кастрюль. Все остальное было здесь: на столах, стульях, на полу. В некоторых местах через дыры в крыше виднелось небо.
Там же, наверху, я нашел чемодан отца, ветеран его 49 путешествий за океан. Мягкая коричневая кожа съежилась, как высохший пергамент, пряжка и перевязь сломаны. Но по наклейкам на чемодане четко прослеживались славные годы отца: отели «Кларидж» в Лондоне, «Ритц» в Париже, «Гранд» в Вене, «Гранд Бретань» в Афинах, «Шепхерд» в Каире, «Токатлиан» в Константинополе.
Рядом стоял материнский сундучок. Я снял с него кастрюльку с водой, поставил на сухое место и открыл. Мать ездила очень редко и для этих целей у нее был свой багаж: сделанный в Лондоне саквояж с деревянной рамой внутри. На случай выезда лежала ее одежда: яркое платье, она носила его до замужества, ее праздничный наряд, одежда ее счастливых дней. Я никогда не видел ее в нем. Она всегда носила скромные незаметные платья по традиции ее народа. Даже не могу представить ее в чем-нибудь ином.
Но все это она когда-то носила. Потому что в сундучке имелись фотографии ее отца. Тех времен, когда я ходил под стол пешком. А засунули их сюда, чтобы забыть и не тревожить память. И вот сейчас ко мне явилась мама в веселом платье 10-х годов этого века, в шляпке на взбитом коконе волос. Под шляпкой виднелось ее лицо, лицо мамы, сияющее молодостью и надеждой. Она была красивой девушкой. Среди фотографий была одна, где они с отцом переглядывались тем особым тайным любовным взглядом, которым обладают только любовники. Куда исчез этот взгляд? Сколько времени потребовалось, чтобы вытравить его навсегда?
На одной фотографии виднелись мы с отцом под акацией. Лето его успеха было в зените. Он сидел, а я стоял рядом, положив ему руку на коленку, мое лицо повернуто в его сторону, во взгляде – поклонение. Куда делось обожание? Что убило его?
В саквояже лежало еще несколько свидетельств, дорогих сердцу вещей, тех, что так и не вернулись на положенное им место, – книги матери. Ее школьные учебники, несколько стихотворных сборников на греческом. Они тоже ждали того дня, когда жизнь будет похожа на жизнь и этими книгами можно будет наслаждаться? Или она спрятала их, чтобы они никогда не напоминали ей о том, что было и прошло?
Я достал свой подарок маме, купленный после войны отрез сари из Нью-Дели. Золотые нити, пронизавшие ткань, еще не потеряли блеска. Я узнал этот отрез из бирюзово-изумрудного материала. Подарив ей его, я сказал тогда, что из материи можно сшить шикарное платье для вечеринок! Так и сказал. Она поцеловала меня и улыбнулась, и выражение ее лица четко ответило мне: какие вечеринки? А ответила она, что отрез чудесный и что она наймет швею, достанет выкройку и сошьет платье, да, оно будет восхитительным. И положила отрез в сундучок.
Мама поступала со всеми хорошими вещами, будто вся ее жизнь состояла из одних невзгод, и если она положит на алтарь многие годы, то, возможно, наступит тот день, когда из забытья они выйдут на свет, она снова наденет веселое платье, будет читать поэзию и фотографироваться. Сколько я помнил, мама избегала наведенного на нее объектива, но, судя по стопке снимков, было время, когда все было не так.
Я аккуратно перекинул через руку сари и закрыл сундучок. Пусть его содержимое покроется прахом забвения. Как теннисный корт. Как та жизнерадостность, царившая некогда в душе матери. Отброшенная за ненадобностью, как ее женственность, оставшаяся неиспользованной, как ее человечность.
Ради чего такое богатство отставили в сторону? Где свидетельства прожитой жизни? Где отпечатки следов победителя?
Я спустился на два этажа ниже. Четыре комнаты. В комнате отца (они спали раздельно, сколько я себя помнил) на столе лежал поднос, на нем – пузырьки с таблетками. Все! Очень аккуратная комната, без следов жизни в ней.
А где отец прожил жизнь? Где следы вещей, которые он ценил?
Затем я увидел ту фотографию.
Ту самую. Их делали в то время серо-коричневыми.
Дагерротип с мягко очерченными линиями. Единственный снимок на стене. Ни сыновей, ни жены на этом снимке не было. Не было ни его магазина, ни складов, ни Национального городского банка, ни его восточных ковров и подстилок. Ни его закадычных друзей по покеру. И мы, и они так мало значили для него. Была лишь эта фотография.
Гора Аргус: высокая, со снежной шапкой, гора, что возвышалась над городом отца в Анатолии. Аргус – величественная, чистая, совершенная в пропорциях гора. Бабушка, когда жила, не уставала рассказывать про нее: как потоки воды стекали с вершины все лето, как цвели сады, где были места для пикников и где на склонах стояли летние домики. Вот она – предмет незатухающей тоски и боли моего отца, единственный драгоценный для него снимок.
Гора с фотографии, казалось, требовала у меня подвести черту под жизнью, казалось, требовала вынести вердикт. Что ты думаешь, говорила она, каковы твои настоящие мысли? И если бы меня заставили дать ответ и вынести вердикт, я бы сказал, что вся жизнь моей семьи, отданная этой стране, оказалась неудачей. Страна сама, может, и не виновата в этом, но роковое влияние времени и настроение людей в те дни – вот в чем надо искать причину случившегося. Символы достигнутого богатства оказались ничего не стоящими даже с позиций рынка. Заработанные деньги превратились в ничто. Они выяснили это в 1929 году. А что же остальные приобретения – дома, мебель, машины, рояль, одежда, земля? Они тоже ничего не значили. Эти люди, восторженно испускавшие крики радости – «Америка, Америка!» – на стыке веков, приехали сюда в поисках свободы и прав личности, и все, что они нашли здесь, было свободой делать столько денег, сколько сможешь.
Я взглянул на Аргус. Бабушка утверждала, что именно к ней, а не к Арарату, причалил свой ковчег библейский Ной. Он сам, его родственники и скот спустились вниз по склонам Аргуса. Легенда была красивая, если представить картину.
Зачем моя семья покинула такую красоту? Какие-то причины, конечно, были, но этот вопрос точил сердце отца: что же он приобрел, иммигрировав сюда, такого, ради чего стоило приезжать через океан? Он задавал себе этот вопрос, я уверен. Иначе не только эта фотография украшала бы стены его комнаты. Снимок жил в его душе. Они оставили страну с потоками воды, текущими с гор, с фруктовыми садами и прочим, всем, о чем не переставая говорила бабушка, они уехали, чтобы найти лучшее место для жизни, а нашли лишь место, где лучше делать деньги.
Огонь и вода! Я подумал, а может, отец жил надеждой на еще один всемирный потоп, который заставил бы его уплыть обратно и, как Ной, пристать к склону горы Аргус. К фруктовому саду, к виду водопадов…
Уходя, я взял из комнаты отца только эту фотографию. Вот и все, что я захотел взять из этого дома.
Спускаясь по ступеням в столовую, я заметил на полу коврики. Они годами лежали в магазине у отца, не находя покупателей. Потом он сдался и принес их домой. Я помнил и обстоятельства приобретения мебели. Магазин в Толедо задолжал отцу крупную сумму денег. После разорения магазин расплатился с отцом этими деревянными чудищами.
Таким же образом нам достался рояль, инкрустированный, с завитушками рококо по бокам и углам, с ножками в виде геральдических животных. Он выглядел как прихоть нувориша, но был моим старым другом.
Играя на нем, я вспоминал одно жаркое воскресенье в Нью-Дели, когда от безделья я выбрался из гостиницы и через старую часть города отправился на природу. Там, вдоль невысокого кряжа, толпились люди. Я пошел к ним, потому что, казалось, они что-то празднуют, так счастливы были их лица. Подойдя ближе, я увидел, что они складывают хворост и ветки деревьев вокруг тела мертвеца. Труп сидел в кресле, голова немного склонена набок. Это была старая женщина, и по тому, как она сидела, было видно, что кресло – ее любимое! Я спросил, кто она, и люди охотно и радостно ответили, что она была святой. Под этим они имели в виду ее доброту. Женщина сделала им много хорошего, и всем им она была другом. Она только что умерла от болезни, «пожирающей внутренности», – от рака. Все это они рассказали без горечи и печали, даже без сожаления. Они воспринимали смерть как естественный конец жизни и ничего более. Почему ее друзья должны грустить? Женщина прожила долгую жизнь, и сейчас пришло время отпраздновать это. И еще, добавил один мужчина, мы празднуем то, что живы сами и что нам еще далеко до смерти. И хотя их жизнь изменится, станет хуже без такой замечательной женщины, они считают, она сама желала бы, чтобы ее смерть отпраздновали весело, чтобы возрадовались тому, что они сами живы. Он дал мне кусок дерева и предложил возложить его на кучу хвороста. Что я и сделал, думая, что здесь это одобряется и это празднуется, а одобрение и праздник – одно и то же. Мы еще живы – вот и празднуем.
Тут я вспомнил еще про одно место, где я не был двадцать лет, с тех пор как вернулся с войны. Про подвал!
Там я получил ответ на вопрос: где следы жизни, прожитой отцом?
Просторное пространство подвала было забито ящиками и ящичками из-под отцовского товара – ковров и ковриков. Теперь в них лежали отцовские записи. В некоторых виднелись стопки газет, некоторые были прикрыты досками, другие, из ранних, богатых дней, надежно забиты гвоздями. Я приподнял газеты в одном ящике и увидел – вот они, приходно-расходные книги, памятки, долговые книги, банковские расчеты. Здесь же лежали все погашенные счета. И стопки корреспонденции: приказы, счета, расходы, письма, требующие оплаты, и письма, лживо уведомляющие, что оплата произведена. Вот они – даты жизни, история жизни моего отца. Все, что он платил, все, что был должен, все, что ему были должны, все, что купил, все, что продал, выплаченная работникам зарплата, премии и подсчитанная прибыль. Все бумаги описывали только одно – движение денег, ссоры вокруг денег, переговоры о деньгах и жажду денег. Вот и все. Больше ничего.
В бумагах были гнезда крыс. Деловые бумаги послужили и крысам.
Я сел и почитал бумаги. Какой страстью дышали некоторые страницы! Я всегда думал о такого рода корреспонденции как о чем-то холодном и формальном. Но там и сям были рассыпаны упреки, просьбы, угрозы, ругательства, разочарования, презрение и почти истерический гнев. Были и счастливые строчки – подведение итогов и расчет прибыли. Ожидание больших продаж. Это была жизнь! Настоящая! Я слышал голоса отца, дяди и всех его друзей – Нассиба, Войяджяна, Токатляна, Хоури и всех остальных торговцев города, кричащих друг на друга в гневе, упрекающих друг друга, радующихся, льстящих, угрожающих… весь спектр человеческих эмоций.
Вот где прошла жизнь моего отца. Вот – его страсть, выжатая, дистиллированная и очищенная кровь его жизни. Вот – субстанция, в которой я вырос.
Неужели я мог стать другим, а не таким, какой есть?
Ерунда, подумал я. Я стал тем, кем захотел стать.
Мир, где время жестко разделено на часы, отступил. Я сидел в подвале и перечитывал сотни писем.
Затем, к немалому изумлению, я нашел похороненные в стопках деловых бумаг два моих собственных письма к отцу, написанных зимой второго года в колледже.
«Дорогой отец! (начиналось первое)
Спасибо за подарок. Должен признаться, был им удивлен. Но все равно рад получить его. По-моему, тебе повезло на скачках. Пять долларов мне пригодятся. И обещаю, по твоему совету, купить что-нибудь полезное.
По поводу операции не волнуйся. Аппендикс вырезали и показали мне. Да и по нынешним временам операция – пустяковая. А сестры были очень добры ко мне. Жаль только, что они страшноваты, ха-ха!
Прекрасно понимаю, почему ты не можешь приехать. Бизнес прежде всего, да? Но даже если бы приехал, вряд ли смог помочь!
Всегда хотел поговорить с тобой, может, сейчас стоит. Знаю, ты невысоко меня ценишь. И не говори, что высоко, знаю твое разочарование во мне. Но я не обращаю на это внимание по одной простой причине – однажды ты будешь гордиться мной. Ты имеешь право ожидать от меня заботы и денег за все, что ты сделал для меня, когда состаришься. Просто я никогда не понимал твой бизнес. Пробовал, но цифирь о коврах не лезет в голову. Хотя самое смешное, единственный предмет, по которому у меня все нормально, – математика. Но мне кажется, что я не торговец. Все, что я могу придумать по этому поводу, – это: „Каковы причины того, что людям следует покупать вещи?“ Ха-ха!
Но не волнуйся, учителем и т. п. я не собираюсь становиться. Я должен найти свой путь. Дай время, и я найду. Благодарю за терпение в денежных вопросах. Теперь я работаю в Зэтхаусе, официантом, там у меня комнатушка в подвале, посему мне остается только наскрести деньжат на нашего преподавателя группы: понимаю, как тяжело тебе тратить „зеленые“ на сына, который до сих пор не имеет понятия, кем он хочет стать или почему он учит тот или иной предмет, но летом я подработаю и сделаю кое-какие выводы. И останется еще два года. И в один прекрасный день я все-таки вырвусь, вот увидишь! Ты будешь гордиться мной. Я найду что-нибудь по душе и сделаю на этом состояние. В этом-то, по моему разумению, и состоит проблема жизни – зарабатывать любимой работой. Знаю, надо быть практичным и все такое и, как ты говоришь, надо платить долги, но это не по мне. Но я заплачу! Верь! Извини за все.
Твой любящий сын, Шекспир, ха-ха!»
Прочитав письмо, я залился краской стыда, но все-таки заставил себя открыть второе.
«Дорогой отец,
Получив твой ответ, я сделал то, что ты велел, – пошел в ванную и глянул на себя в зеркало. И, должен признаться, нашел зрелище кошмарным. Прыщи, к примеру, и т. д. Хоть бы они поскорее исчезли! Как выражается твой друг, мистер Клипштейн, пора! Я пробовал препараты, присланные тобой. Три ночи кряду спал, намазавшись этой мазью. Но – тщетно. Прыщи не исчезают. Еще я заметил, что лысею. Сомнений в этом не осталось. Перепробовал все, что можно, но, проведя расческой по голове, снимаю с себя пучок волос.
В одном ты абсолютно не прав. Я не собираюсь стать актером. Еще чего, я пока в своем уме. И глядеть на себя в зеркало, как ты советуешь, мне поэтому не надо. А в ту пьесу меня завлек один соблазн. Вообще-то, я не хотел писать об этом, но ладно. В пьесе играет одна девчонка, на которую я положил глаз. Но она – подружка моего лучшего друга Арчи, ты знаешь его, и в этом вся загвоздка. Нет, я не лезу на рожон при таких обстоятельствах. Но выкинуть ее из головы мне пока трудновато. Допускаю, что это от возраста! Пройдет вместе с прыщами. Правильно думаю? Ха-ха! В общем, играть в пьесе мне предложила она. Роль маленькая, но лишь только я выхожу на сцену – все ржут. Тем и развлекаюсь. Но не волнуйся, серьезно я актерство не воспринимаю. Ты думаешь, я кто – Шекспир? Ха-ха!
А если серьезно, то я знаю, какого ты обо мне мнения. Но, как я тебе говорил раньше, не все то золото, что блестит, и наоборот. И придет день, когда ты с гордостью скажешь: „Это – мой сын!“ Я обещаю.
Твой любящий сын, Эвангелос, экс-Шекспир, ха-ха!»
Наискосок письма почерком отца было написано: «БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЛУЧАЙ».
Почему меня так взбесили письма, я не пойму до сих пор. Трудно объяснить, но я начал швырять эту бумагу, рвать ее, топтать. Я немного сошел с ума, без сомнений. А по правде говоря, закончив читать свои письма, я рычал и плакал, как ребенок, впервые увидевший смерть.
В углу подвала я нашел еще одну вещь – игрушечный банк, подаренный мне в детстве отцом. Это была маленькая касса: кладешь монетку на пластинку и нажимаешь на рычаг, наверху появляется сумма. Наверно, эта игрушка и подлила масла в огонь. Я уже забыл к тому времени про этот злополучный «банк».
И от злости раскроил старую канистру с маслом топором. Масло растеклось по всему подвалу.
Отвечая на громовые раскаты мира, готовящегося к самоуничтожению, я пошел ему навстречу. Я нуждался в очистительном огне. Я думал о нем весь день.
И вот, лежа в густой траве теннисного корта и наслаждаясь зрелищем от собственной попытки показать миру горящее свидетельство навсегда покинутой одной жизни и в добром здравии и со всем возможным усердием приступившего к строительству другой, я чувствовал себя легким и счастливым. Языки пламени доставляли мне удовлетворение, глубокое и спокойное. Я отмечал смерть близкого мне. Парень, о котором я много думал и беспокоился, более не существовал. Эдди вздымался вверх по праздничному столпу огня верхом на искрах, рассекая сумерки и уходя пеплом в ночное небо.
Я встал, больше не прячась, и прошел через толпу, глазеющую на пожар. Я заметил их возбужденность – огонь поглощал старый монстр-дом. Казалось, у них такая же огромная нужда в чем-то страшном и разрушительном, что выжжет до основания самоомерзение, наполняющее их души. Их лица были мрачны, но благодарны, сосредоточенны и довольны. Никто не обратил на меня внимание.
Я ушел, сжимая в руках снимок горы Аргус. Я хотел отдать фото отцу. Может, это облегчит ему жизнь.
Кто-то так стремился увидеть огонь вблизи, что приехал на такси. Я сказал таксисту подвезти меня к госпиталю в Стамфорде. Когда мы поехали, он произнес: «Старые болячки должны исчезнуть. Пришло время других!»
Глава двадцать четвертая
Я ощутил себя юным, как будто снова стал студентом колледжа. Как легко, не напрягаясь, я мог тогда бегать! Как свободно перепрыгивал зеленый забор напротив Братства весной, когда подснежники ломают хрупкий ледок. Я прыгал с камня на камень и ощущал себя частью сезона. Я становился другом собак, охранявших фермы, и мы бегали по полям вместе. Точно такое же чувство общности охватило меня и сейчас. Машина дергалась из стороны в сторону, как мячик, подпрыгивая на рытвинах. Я постукивал по дверце, глядя наружу. Водитель удивленно обернулся, но понял, в чем дело, и понимающе улыбнулся. О, думал я, где же вы, бутылочки, распитые в одиночестве на схваченных морозцем холмах Новой Англии? Где вы, пробежки под дождем? Где вы, лунные ночи в лесу?
Я снова влюбился в просто жизнь. Как прекрасно ощущать свои 135 фунтов веса и перекатываться на сиденье такси как крепкий кусок высушенного дерева.
– Я никому больше не желаю зла! – крикнул я.
Таксист не услышал.
Я не мог представить, что и мне кто-то может желать зла.
Даже Чарльз! Даже Чет! Я почувствовал, что, попроси я у них прощения за боль, причиненную им, мои слова убедили бы их. Они бы просто не смогли продолжать ненавидеть и презирать меня.
Я стал братом всех живущих.
Как просто, к примеру, снова стать другом Чарльза. Гвен я больше не хотел. Никакого влечения, бремя любви сброшено с плеч.
Я захотел обойти всех, кому я нанес обиду, и попросить у них прощения. Я захотел сказать людям, очень кратко, потому что они не поймут обилия словес, что Эдди умер, что он больше не будет их беспокоить.
Я даже обещаю заплатить долги Эдди.
Я решил встретиться с каждым из моего маленького круга друзей, партнеров, соседей, бывших жертв, антагонистов, любовниц и клиентов и сделать им что-нибудь приятное, что, может быть, хоть ненамного облегчит мою вину перед ними. И самое главное, я заставлю их понять, что я больше у них ничего не прошу, и тем самым освобожу от всего лишнего и их, и себя. Я захотел подвести счет подо всем и разрешить все, чтобы позади меня не осталось ничего, кроме дружбы и братской любви.
Чтобы Чарльз почувствовал, что от меня не исходит угроза его счастью!
Чтобы Чет знал, что я каюсь за причиненное ему зло и что ему выбирать, как после этого вести себя со мной.
Помимо всего прочего, я хотел, чтобы Флоренс знала – я уже не тот, за кого она вышла замуж, я постараюсь сделать все, чтобы сгладить то, что ей нанес Эдди, но сам Эдди уже не существует.
Я торжественно поклялся отвести неделю на раздачу долгов, на прощения, избегая нанесения ран, не отрицая вины и делая все, что меня просят.
Затем я исчезну. Навсегда.
Но прежде – долги. Зачем оставлять ненависть в мире?
У меня получится задуманное, потому во мне самом ненависти не осталось. Ничего моего никто не хотел у меня забрать. Я ни с кем не соревновался. Я никого не хотел победить. Я ничего ни от кого не прятал. Да и прятать было нечего.
Я ощущал себя ребенком, играющим в школьной постановке, способным на широкие дружеские жесты, готовым на экстравагантную игру в дружбу.
Поэтому прощайте все! Прощайте навсегда. Желаю счастья. Простите за причиненное вам зло. Больше этого не повторится.
– О, Боже! – сказал я громко. – Как хорошо!
– Что вы сказали? – спросил таксист.
– Как хорошо!
– Я тоже люблю смотреть на огонь, – сказал он.
Счетчик показывал три доллара двадцать центов.
Пора начинать вести учет своих денег. Но и это просто! Что мне нужно? Понятия не имею. Пара ботинок, удобных и носких, у меня есть, и этого достаточно.
Где я буду сегодня спать?
А какая разница? Меня никто не ждет. Я могу пойти куда угодно.
И даже несмотря на свою старую привычку постоянно быть в мятежном состоянии духа, я внезапно осознал, насколько ограничен был мой круг физических возможностей. Как часовой, охраняющий огромную территорию, я каждый день был вынужден проходить контролируемые зоны и на каждой волевым усилием заставлять себя работать на полную: делать свою часть, подписывать контракт, писать статью, держать речь, кого – успокаивать, кого – продавать, кому-то платить, кого-то исправлять, кого-то увольнять, кому-то помогать, кому-то угрожать, кого-то убивать, что-то подгонять, приводить в порядок, совершенствовать. Я должен был быть в назначенном месте, в назначенное время, оставлять метку на территории, затем следовать в другую зону. Я часто повторял, что использование денег означает свободу их траты, но те же деньги заставляли меня бывать и в определенных местах в определенное время с определенными людьми и очень часто с теми, кого я не хотел видеть. И в местах, вызывающих у меня отвращение. Какое такое возможное объяснение может быть дано, если придется отвечать, почему человек живет в Нью-Йорке? Или в Лос-Анджелесе?
Для человека нет раз и навсегда удобных ему привычек.
Я снова перестал делить мир.
Теперь я могу жить там, где мир наиболее прекрасен, наиболее естественен и наиболее предназначен для человеческих существ.
Я стал думать о Вольфгангзее и Серенгети, о Коста-Браве и Вирджин-Горде, о Барселоне и Зальцбурге, о Цикладах Греции! И никаких альтернатив! Никаких или-или! Нет никаких причин жить где-то в одном месте. Теперь я могу жить везде и всюду.
Мы приехали в госпиталь.
Я походил по парку вокруг здания. В руках большое фото горы Аргус. Я еще не был готов войти внутрь. Еще несколько минут, чтобы собраться и что-то придумать. Моя эйфория остальным миром могла быть воспринята как сумасшествие, и к тому же опасное.
Персонал, надо думать, предупрежден о моей личности.
Но я был готов к этому. Я буду объяснять. Я буду терпелив. Отвечу добром на зло, мягкостью на неистовство. Если не удастся, развлекусь отправлением телеграмм. А потом буду писать очерки для журналов из стран, где я побываю.
Единственное, в чем я хочу до конца убедиться, – в том, что об отце заботятся.
Я подошел к служебному входу. Вахтер, казалось, только меня и поджидал, потому что сразу взял трубку телефона. Я ощутил сильнейшее чувство опасности, но решил, что убегать не буду. Надо заплатить долги Эдди. Если мой «новый путь» чем-то ценен, пусть это подтвердит практика. Я был готов встретить полицию.
Но вышел доктор Левин. Он отвел меня на стоянку автомашин.
– Сколько у вас денег? – спросил он.
– Очень мало, – ответил я. – А сколько вам надо?
– Вам хватит, чтобы уехать в другой город и пожить там?
Глазами он показал на машину «скорой помощи», стоящую рядом. Она освещалась пульсирующими бликами «мигалки» полицейского автомобиля, что стоял напротив.
– Вы сегодня – ночной приз. Все службы выходят на дежурство в надежде заполучить вас в руки.
На дверце «скорой помощи» я прочитал: «Гринмидоу».
– Что это? – спросил я.
– Наша местная психушка, – сказал он. – А напротив – полиция. Тоже местная.
– А откуда они знают, что я приду?
– Это легко вычислить. Вы обязательно придете навестить отца, перенесшего операцию на бедре. Он ведь потерял много крови. Ну, а теперь ступайте! Идите, пока они не вышли.
– Я не хочу, – сказал я. – Попробую объяснить.
– Им это ни к чему. Ничего выслушивать они не будут. Затащат в машину и отвезут. Торопитесь!
Я ушел.
Перед тем как сесть на поезд, я позвонил Гвен. Сказал, что есть новости, что не хочу сильно беспокоить ее, просто хочу увидеть ее еще раз. Она ответила: «Приходи». Я спросил, одна ли она. Да, ответила она. Итак, я намеревался поехать к ней и с ней первой окончательно объясниться.
Но в тот день у меня было такое состояние, что, даже если бы она сказала, что у нее сидят Чет с Чарльзом, я бы все равно поехал. С ними я тоже хотел поговорить.
Мое подсознательное желание исполнилось.
В доме Гвен проходил семейный разговор. Очень жесткий, судя по всему. Мой приход прервал что-то серьезное, никто не знал, с чего начать.
Я сел, положив гору Аргус под себя на стул. Все молчали.
Было заметно, что Чет и Чарльз не ожидали меня, и хотя Чет из-за своих личных резонов был рад неожиданности, Чарльз хотел, чтобы я исчез.
– Чарльз! – обратился я. – Меня больше не надо опасаться. Я уезжаю, и надолго. А сюда пришел попрощаться и пожелать вам с Гвен счастливой жизни.
Я замолк. Мое заявление должно было успокоить его или хотя бы чем-нибудь удовлетворить. Но он, казалось, не верил моим словам.
Некоторые люди, когда попадают в стрессовую ситуацию, начинают думать по-черепашьи. Все ждали, что ответит Чарльз, а он сидел и смотрел перед собой. Спустя долгую минуту он повернулся к Гвен и спросил ее:
– Ты ждала его?
– Нет, – солгала Гвен.
Чарльз снова глядел в одну точку. Он был настолько сосредоточен, что никто не осмеливался открыть рта.
Наконец он подвел черту:
– Хотелось бы верить…
Чет расхохотался.
– Я лично не верю, – сказал Чарльз брату.
– Я тоже, – откликнулся Чет.
– Тогда при чем тут твой хохот? – потребовал Чарльз.
– Удивляюсь уклончивости женщин и наивности мужчин.
Чарльз осмыслил ремарку. На это потребовалось время. Казалось, его ударили подушкой. Я почувствовал вину перед ним, здоровым мужчиной, совершенно безоружным и неопытным для ситуации, в которой он оказался.
– Чарльз, – сказал я, – пожалуйста, верь мне. От Гвен мне больше ничего не надо. Извини, что я причина твоих страданий. – Я молил его, он понял. – Прости меня и знай, что я не желаю тебе зла.
– Скажи ему, – вставил Чет, – скажи ему, Чарльз, что ты тоже не желаешь ему зла.
– Почему я должен это говорить?
– Потому что это – ложь, но люди так мирятся.
– Чет, – сказал я ему, – я знаю, что ты думаешь обо мне. Вот у тебя есть все причины желать мне всего самого наихудшего…
– Мне нравятся твои «зло» и «наихудшее», – ответил он. – Кстати, а где ты словечки-то такие выкопал?
– Дело не в словах, как ни называй зло, но я хочу, чтобы и ты знал, что, если хочешь, – скажи мне, в чем я должен тебе…
– Ты хочешь замять и со мной?
– Да. Скажи, если знаешь, что мне сделать, чтобы между нами не осталось…
– У тебя много времени? – перебил меня Чет.
– Где-то неделя или две. Потом я покину город и эту часть мира.
– Не так уж и много, а-а?
– У меня еще нет билетов.
– Рад, рад слышать.
Опять он издевался надо мной, но я верил, что, прими я на себя определенное бремя унижений, придет время, когда искреннее чувство раскаяния будет воспринято как надо.
– Итак, – сказал Чет, – первое, что ты должен сделать…
Чарльз продолжал самым странным образом разглядывать меня.
– В чем дело, Чарльз? – спросил я.
– Не обращай внимания, – сказал Чет. – Сначала разберемся со мной. Я тебя правильно понял?
– Да. Я хочу сделать для тебя, что смогу.
– Тогда слушай. Ты отправишься к людям из журнала и попросишь у них то же самое количество страниц. Затем ты напишешь статью, в которой покаешься перед всеми читателями за то, что написал заведомо предвзято обо мне, что ты написал в пику мне, потому что я спал с твоей девчонкой или собирался спать, что ты фактически солгал и полностью исказил меня как личность. Короче говоря, признаешься, что ты продажный, коррумпированный писака!