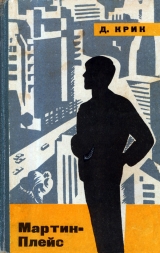
Текст книги "Мартин-Плейс"
Автор книги: Дональд Крик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
44
Рокуэлл глядел в развернутую утреннюю газету и предавался угрюмым размышлениям. Насколько можно доверять нынешней сенсационной прессе? Ему больше всего хотелось отмахнуться и забыть, но если взглянуть на это как на прелюдию катастрофы, то можно было подметить какой-то оттенок, напоминавший историю убийства эрцгерцога Фердинанда в 1914 году. Но только на этот раз ни злодеев из плоти и крови, ни героической музыки, которая спаяла бы умы и сердца людей, подняла бы их на защиту общего дела, – ничего, кроме ползучего паралича, который лишает политический аппарат страны воли к действию в его же собственных интересах.
Он сложил газету и отбросил ее в сторону. Мир словно оказался в петле всеобъемлющей кампании шепотов и слухов, а общество, подобно пьяному, утратило власть над собственными ногами. Если бы правление могло полгода назад предвидеть такую ситуацию, оно никогда не утвердило бы эти новые ссуды на жилищное строительство. Ход событий давал возможность пророку Льюкасу торжествовать! Рокуэлл забарабанил пальцами по столу. Какое облегчение, что Льюкас больше не сидит в его кабинете и можно спокойно думать, а не стараться скрыть свои затруднения! Теперь Льюкас стал угрозой, которую посылал ему мир, ждущий за порогом.
Заставив себя сосредоточиться, он просмотрел остальную почту, а потом позвонил, вызывая Льюкаса. Когда его помощник вошел, он сказал:
– Вот почта, Мервин. Я пометил для вас просьбы об отсрочке платежей.
– Не проще ли будет выработать стандартный ответ? – предложил Льюкас. – Это сэкономило бы время на повторные диктовки одного и того же.
Сердце Рокуэлла учащенно забилось.
– В настоящее время – ни в коем случае. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто мы имеем дело с явлением массового характера. Будьте добры показать мне черновик вашего первого ответа.
– Хорошо, мистер Рокуэлл.
Как всегда, почтителен, подумал Рокуэлл, когда Льюкас вышел из кабинета, и, как всегда, не согласен. Он раздраженно переменил позу. Стандартный ответ! Как будто они ведут войну с обществом и требуют безоговорочной капитуляции. Он встал и подошел к окну. Он поглядел вниз, на улицу, чувствуя робость, словно вступал в чужую страну, и тоску, потому что люди там говорили на незнакомом ему языке.
Льюкас сортировал письма у себя на столе, откладывая те, которыми должен был заняться лично. Он увидел, как из своего кабинета со шляпой в руке вышел Рокуэлл, задержался на минуту у стола секретарши, а затем исчез в коридоре. Он улыбнулся письму, которое держал в руке, и содержание этого письма ушло куда-то в небытие. Потом он перестал улыбаться и вновь принялся плести в уме сложные и опасные узоры. Все упирается в Рокуэлла – в Рокуэлла Всемогущего. Будет ли он и дальше разыгрывать из себя Наполеона, или втянет рожки, пока еще не поздно? Однако, судя по некоторым признакам, гордость не позволит ему пойти на попятный, раз уж он открыто выбрал свой путь. Во всяком случае, до тех пор, пока ему не прикажут. А «Национальное страхование» тем временем будет по-прежнему швырять деньги в бездонную бочку. В какой мере Рокуэлл еще сохраняет доверие правления и в какой утратил его? Можно ли сделать ход теперь или безопаснее подождать того момента, когда политика Рокуэлла приведет к неизбежному краху? Нет, старый сэр Бенедикт достаточно проницателен, чтобы понять, насколько опасно позволить управляющему продолжать действовать в том же духе. Он вспомнил письмо, лежащее в письменном столе у него дома, – анализ ситуации с чисто экономической точки зрения. Будет ли сэр Бенедикт благодарен за то, что его ознакомят с фактами? Или письмо просто повторит то, что ему давно известно? Быть может, его симпатия к Рокуэллу окажется сильнее и он сочтет письмо предательством? Этого Льюкас опасался больше всего. Надвигаются времена, когда возможность получить действительно завидную должность будет ничтожной. Если бы только Рокуэлл умер или ушел на покой, разрешив таким образом стоящую перед ним дилемму! Льюкас отогнал от себя эти глупые, расслабляющие мысли. Нужно приготовить черновик ответа. Он должен создать впечатление, будто это явление вовсе не массового характера! Вот где самая суть всей позиции Рокуэлла. Он не может вынести мысли, что ему придется узаконить национальную катастрофу. Это вдребезги разнесет его напыщенные идейки, и из мессии собственной милости он станет упирающейся марионеткой.
Войдя в здание банка, Рокуэлл поднялся на лифте до этажа, где находился кабинет Берни Риверса, и секретарь сразу же пригласил его войти.
– Доброе утро, Арнольд! – Риверс пошел к нему навстречу. – Какая приятная неожиданность! – он взглянул на часы. – Скоро должны подать чай. Выпьете чашечку?
– Спасибо, Берни.
Риверс отдал распоряжение по внутреннему телефону и опустился в свое кресло.
– Ну, так в чем же дело? – спросил он с любезной улыбкой.
Скрывая свою неуверенность, Рокуэлл ответил:
– Во всяком случае, я убежден, что это не та карта, на которую захочет ставить банк.
Риверс поморщился.
– Банк никогда ничего не ставит на карту, Арнольд. Это один из тех моральных принципов, соблюдения которых мы требуем неукоснительно. И как доказывает опыт, это весьма выгодно.
Типичный иронический выпад, подумал Рокуэлл и оставил его без внимания, так как ему меньше всего хотелось заниматься словесным фехтованием.
Он пошел напролом:
– Почему крах американской биржи должен повлиять на стабильность экономики нашей страны?
Риверсу эта фраза показалась вымученной и несколько воинственной – порождение ума, способного оценивать факты только сквозь призму личной досады. Он хорошо знал этот ум. И ответил на основную мысль:
– Другими словами, почему мы должны страдать за чужие ошибки?
Рокуэлл молча ждал. Нет, он не даст вовлечь себя в теоретические рассуждения. Сюда он пришел узнать факты, и он их узнает. Догадавшись, о чем он думает, Риверс сказал:
– Только по той причине, что крах американской биржи означает сокращение мирового рынка сбыта. Основа нашей экономики – сельское хозяйство, и она может устоять, только если устоит наша шерсть. Беру на себя смелость предсказать, что по мере сокращения наших ресурсов покупательная способность будет падать и дальше, а с ней уменьшатся и те возможности производства, которые у нас есть. – Он пожал плечами. – Это порочный круг.
– Но это в той же мере и порочное пораженчество, Берни, то есть, конечно, я имею в виду не ваши слова. Ведь должен же быть какой-нибудь выход. Неужели мы настолько разобщены, что не можем объединиться даже в такую минуту?
Банкир закурил и пододвинул папиросницу к Рокуэллу. Слава богу, он вовсе не чувствует себя обязанным взваливать на себя подобную ношу.
– Я не способен, как вы, превращать это в личную проблему, – сказал он. – Я вижу только конкретную сегодняшнюю реальность. Она помогает мне смотреть фактам в лицо. И один из этих фактов таков: мы вынуждены будем проводить политику, которая потребует, чтобы мы сохраняли то, что имеем. Ни с чем не считаясь.
– То есть, Берни?
– Ни с чьими интересами, кроме наших собственных, – невозмутимо ответил Риверс. Он наблюдал, как лицо Рокуэлла становится все более хмурым. Скоро, подумал он, гора содрогнется и выплюнет камешек.
– Мне известны экономические теории, касающиеся современной ситуации, – сказал Рокуэлл, наклоняясь вперед. – Кроме того, я знаю, что мы отвечаем за благополучие и процветание нашей страны. И мне хочется спросить: неужели мы настолько трусливы, что поставим собственную безопасность выше национальных интересов? – При последних словах он повысил голос и хлопнул рукой по столу.
Ответ был настолько очевиден, что Риверс лишь с трудом скрыл раздражение.
– Дело в том, что национальные интересы – это мы. Во всяком случае, нас ими считают. Мы держимся на поверхности – и вся страна тоже; мы тонем – и страна тонет.
– Но мне кажется, что мы-то держимся на поверхности, а страна тем временем тонет! – резко перебил его Рокуэлл.
– Такая точка зрения абсолютно недопустима!
Этот неожиданный догматизм, столь не вяжущийся с характером его друга, еще больше рассердил Рокуэлла.
– Что бы вы ни думали, Берни, на нас возложена миссия руководить страной, и мы обязаны знать, куда идем. Страховое учреждение, возможно, не производит столь внушительного впечатления, как банк, но я заявляю, что влияние его не менее велико. Вы же говорите так, будто мы – крепости с запертыми воротами, ничем между собой не связанные.
Риверс поглаживал щеку, словно опасаясь нащупать прыщик на гладкой коже.
– Связь между нами должна быть доходной, Арнольд, или ее следует порвать. Разумеется, подобное условие не может не создавать аномалий в сфере принципов и идеалов.
Цинизм этих слов вызвал у Рокуэлла дрожь раздражения. Сама беспочвенность подобного цинизма уже оправдывала его собственную точку зрения. Как может человек, занимающий такое положение, как Берни, стоять в стороне от основного течения, высматривать выгодные возможности и пользоваться ими, нисколько не заботясь о том, что на нем лежит огромная ответственность?
А банкир думал: «Его трагедия в том, что он отказывается признать себя всего лишь орудием сил, более значительных, чем он сам. Это комплекс государственного деятеля, похмелье, оставшееся с тех дней, когда перед ним открывались более широкие перспективы».
– Я знаю, вы считаете, что это просто заговор, – сказал он, – и ждете, чтобы я его разоблачил. А может быть, и покончил с ним. – Он покачал головой. – Такая задача не по силам моему воображению. Я не ответствен за противоречие интересов, присущее нашему обществу. Я же всего только орудие одного из этих интересов. – И добавил сухо: – Как и вы.
Внезапно стол сотрясся под тяжелым кулаком Рокуэлла.
– Я это отрицаю! Я не желаю быть причастным к этой… к этой национальной шизофрении!
Риверс досадливо поежился. Ему всегда нравилось фехтование с Рокуэллом, и до этого дня их отношения строились на основе компромисса. Но сегодня упрямство его собеседника граничило с прямым невежеством. Рокуэлл выдвигал предрассудок в качестве неопровержимого аргумента в пользу безнадежного дела. И ему отчаянно захотелось сокрушить этот беспочвенный идеализм, эту мощную стену, которой управляющий «Национального страхования» огородил свое «я».
– Интересное определение, – сказал он. – Национальная шизофрения. Но могу вас заверить, что ничего подобного не будет. Всем секторам общества придется пойти на жертвы. И мы позаботимся, чтобы нация была поставлена в известность о тех жертвах, которые принесем общему делу мы.
Рокуэлл с яростью поглядел на него.
– Подобное лицемерие превосходит все пределы, и вы это понимаете.
– Разумеется, иначе я был бы идиотом. Но нашей стране придется обойтись подобием истины, а не самой истиной. Несомненно, это временный этап, но, пока он длится, общество будет вынуждено согласиться на наши условия – иначе оно не сможет выжить. Мы объявим нищету добродетелью, ложь – честностью, бессмысленные жертвы – героизмом. И я склонен думать, что вам придется смириться с этим, хотите вы того или нет.
Рокуэлл молчал, закрыв лицо руками. Берни знает. Как и Льюкас. Что ему остается делать? Он пришел сюда, чтобы задать вопрос, и уже получил на него ответ. Ста двадцати тысяч нет. Как он сумеет объяснить, зачем были израсходованы эти деньги? Это был жест веры? Но веры во что? В возвращение к здравому смыслу после припадка безумия? Но тогда будет уже слишком поздно возмещать то, что он потерял. Так что же все это означает? Конец его карьеры? Он опустил руки и посмотрел на своего друга по ту сторону стола.
– Я не могу согласиться с тем, что вы говорите, Берни. Я не могу представить себе, что мы будем сеять страх. Наш девиз «Fide et Fiducia» – «Верность и Доверие»; это не реклама, это самая суть нашего договора с обществом. И неужели я могу спокойно от этого отречься?
«Нет, – подумал Риверс, – как раз наоборот! Но разве можно объяснить этому человеку, что эта его компания лишь конечный продукт того же самого страха? И что он бессилен остановить его волну?» В конце концов Риверс сказал:
– Я не сомневаюсь в честности ни ваших побуждений, Арнольд, ни ваших деловых методов. Я говорю только, что нынешняя ситуация сильнее и того и другого. – Он безнадежно пожал плечами. – Для меня это означает введение новой формулы. Не сомневаюсь, что вам она покажется хладнокровной, жестокой и бескрылой. Но если я не приспособлюсь к ней и не применю ее, я недолго просижу в этом кресле. Вот почему я ничего не могу предложить вам, кроме моего хладнокровного, жестокого мнения. И разумеется, вот этой чашки чаю.
Рокуэлл встал и взял шляпу.
– Нет, Берни, спасибо. Мой помощник составляет черновик письма. Мне придется, возможно, внести некоторые изменения, которых я надеялся избежать.
45
Дэнни, он же О’Рурк Беспощадный, стоял, прислонившись к доске объявлений стадиона, и молча смотрел, как такси резко затормозило у тротуара. Он продолжал стоять неподвижно и тогда, когда из такси выскочил Томми Салливен и бодро зашагал к нему.
– Здорово! Долго ждал?
– Порядочно.
Салливен посмотрел на афишу.
– Сегодня интересный матч. У Малыша такой встречный правой, что просто чудо. Пожалуй, надо сходить. – Вырвавшись из лабиринта хуков левой и свингов правой, он добавил: – Ты раньше ходил со специалистом?
– Последний специалист, бродивший здесь, умер от волдырей на ногах и разбитого сердца, – сказал Дэнни. – Давным-давно, на заре века.
Салливен засмеялся. Он так хорошо справлялся с работой агента, что уже успел стать специальным представителем – или, в просторечии, специалистом – одним из четырех избранных, которые обладали в «Национальном страховании» статусом, напоминавшим статус священной коровы на индийских улицах, и это его назначение, хотя он, собственно, был еще теленком, уже превратило развязного юнца в самоуверенного мужчину.
– Дела идут не слишком хорошо, а? – Он ухмыльнулся до ушей.
– Ничего, скушают, а мне все равно, – сказал Дэнни тоном прожженного коммивояжера. Согласно новой программе подготовки административного штата его на три месяца направили «в поле». Он был самым молодым из стажеров, и в стенах «Национального страхования» это придало ему некоторый вес, но зато воспитало в нем дикую ненависть к бесконечным «Доброе утро!» и «Добрый день!», неотвязно следовавшим за ним эти два месяца.
– Большому кораблю – большое плавание! – многозначительно сказал Салливен. – Мне говорили, что тебя внесли в административный список. А тебе дали экземпляр рокуэлловской книжки «Как объяснить суть страхового договора»?
Дэнни кивнул. Эта книга засела у него в мозгу, как опухоль, порожденная невозможностью примирить здоровые принципы с отрицательными результатами.
– Мне не терпится послушать тебя, – сказал он.
Салливен подтянул брюки и принял серьезный вид.
– Ну ладно, приступили. Суть одна – подходы разные. Действуем так: ты представляешь меня как мистера Салливена из управления. Ясно? Не забудь – из управления. Потом я прошу у тебя регистрационную книгу. Я тебя проверяю. То есть пусть они так думают. Это придаст мне весу, и они сразу начнут мне доверять. Вот так! Кто там первый на очереди?
– Миллер. – Дэнни указал на дом напротив и, пока они переходили улицу, представил себе миссис Миллер – суховатую низенькую женщину, которая аккуратно уплачивала взносы каждый вторник, причем выражение ее лица не допускало и мысли о том, что операция эта доставляет ей хоть малейшее удовольствие.
Дэнни постучал в дверь с окошком из цветного стекла и круглой стеклянной ручкой. Дверь приоткрылась на два-три дюйма, и миссис Миллер выглянула в щель, как лисица из-за дерева.
– А, это опять вы… Погодите минутку.
Салливен ухмыльнулся.
– А ты когда-нибудь ее туловище видел? – И подтолкнул Дэнни локтем, когда на цветное стекло вновь легла тень миссис Миллер. Она протянула квитанционную книжку и деньги, и тут он сказал с властной нотой в голосе: – Покажите-ка мне квитанции, мистер О’Рурк.
Истолковав это как сигнал, Дэнни отбарабанил:
– Миссис Миллер, это мистер Салливен из управления.
Женщина кивнула с некоторым подозрением, а Салливен улыбнулся, пересчитал деньги, заполнил квитанцию и внимательно просмотрел пункты договора. Внезапно он насторожился.
– Это полис страхования жизни Джеймса Миллера, – сказал он медленно, со все возрастающим интересом. – Вашего супруга, я полагаю?
– Да.
Он поглядел на нее и снова улыбнулся.
– Вы, конечно, помните, что это один из наших юбилейных полисов? Пятидесятилетняя годовщина со дня основания компании? Ну разумеется, вы не могли забыть.
Она с некоторым колебанием ответила:
– Да… Кажется, помню.
(В отличие от меня, старая хрычовка.)
– Но кое-что вы, возможно, и не помните, миссис Миллер. То, что эти юбилейные полисы обеспечивали взявшим их некоторые льготы.
– Нет, этого я не помню.
(Вот было бы чудо, если бы помнила!)
– Я пришел сюда нарочно, чтобы напомнить вам об этом, миссис Миллер, и сообщить вам, что теперь, поскольку прошел некоторый срок и вы сохранили полис, вам предоставляется право присоединить льготные деньги к общей сумме.
Миссис Миллер приоткрыла дверь пошире.
– Сколько же это?
– Они выдаются в форме дополнительной премии, – объяснил Салливен, уклоняясь от прямого ответа. – Мы обязались выплатить их через десять лет при условии, что будем получать достаточную прибыль. Теперь мы можем с удовольствием сообщить вам, что эту прибыль мы получили и вы имеете право на свою долю в ней. – Маленькие глазки раскрылись, и Салливен начал быстро писать цифры на обложке книги. – Это составит примерно тридцать фунтов. Выплачиваются они, разумеется, после истечения срока полиса. И еще небольшое условие – ваш взнос теперь должен увеличиться еженедельно на два шиллинга. Таким образом, сумма ваших сбережений также увеличится, что тоже совсем не лишнее, верно? (Разве нет, лисья морда?)
– Право уж, не знаю. Я не хочу больше брать никакой страховки.
Взгляд специалиста стал задумчивым. (Они все так говорят, стервы!)
– Я собираюсь вам задать очень личный вопрос, миссис Миллер. – Он сделал многозначительную паузу. – Может быть, вам это не по средствам?
– Вполне по средствам, – оскорбилась она, – но я не хочу, только и всего.
(Ну, уж это сверхстерва!) Он поглядел на нее с простодушным удивлением.
– Неужели вам эти деньги не нужны?
– Да нет, почему же… Нужны. Только вот мой муж – он не хочет брать больше никаких страховок.
(Сукин сын, скряга!) Салливен заглянул в книгу.
– Я вижу, что жизнь своего мужа страховали вы. Я вовсе не толкаю вас на обман, но только женщины часто бывают наделены куда большим деловым чутьем, чем мужчины… и все останется между вами и мистером О’Рурком, нашим доверенным представителем. – Он уже протягивал ей бланк. (Ну, давай же, давай, старая дура!) С глубокой искренностью он сказал: – Мне бы хотелось, чтобы вы получили эти деньги, миссис Миллер. Если вы подпишете заявление, я позабочусь, чтобы все было оформлено сегодня же. – Он протянул ей бланк и ручку, и она растерянно взяла их в правую и левую руку. Салливен заглянул через ее плечо в переднюю. – Вон тот маленький столик, весь резной, наверное, китайский?
– Индийский. Отец моего мужа служил в индийской армии. Он оставил этот столик нам.
Специалист выразил восторженное недоверие.
– Просто удивительно! Ручная работа, наверное? Разрешите посмотреть? – Женщина посторонилась, Салливен вошел в переднюю и принялся рассматривать столик. – Вам очень повезло, что у вас есть такая вещь. Она теперь стоит больших денег.
– Вы думаете?
– Это же настоящее художественное изделие, а не фабричная подделка. Ну что ж, – добавил он, как будто для него возможность обзавестись когда-нибудь подобной редкостью была такой же далекой, как сама Индия, – если вы подпишете заявление, я, пожалуй, пойду.
– А вы уж, пожалуйста, последите, чтобы эту премию прибавили как следует, – ее тон был подозрительным и даже угрожающим.
– Они были специально поручены моему личному вниманию, – сказал человек из управления, из недоступных сфер, где принимаются важнейшие решения и творятся магические формулы. – Не позже чем через два дня вы получите письменное подтверждение. (Ну, чего ты тянешь – ведь не смертный же приговор себе подписываешь!) Благодарю вас, миссис Миллер. Позвольте пока пожелать вам всего хорошего.
Дэнни тупо посмотрел на нее, потом повернулся и вслед за Салливеном спустился с крыльца.
За калиткой специалист сказал:
– Кремень старуха! А ты столик разглядел? Вот рухлядь-то! Ну ладно, кто там дальше? Я люблю набрать несколько фунтов с утра, чтобы днем пофилонить.
Дэнни кружил по орбите, выслушивая профессиональные монологи. Это было словно бесконечное повторение скверной остроты, словно хорошая пьеса, изуродованная пошлым комментарием, словно серьезная тема, высмеянная в нелепой карикатуре. А главное, монологи Салливена имели успех, и он терялся и злился. В конце концов он сказал:
– Ты все время говоришь о юбилейных полисах. Это же сплошная выдумка.
– Почему же? Допустим, это то, про что Рокуэлл забыл написать, – невозмутимо ответил специалист. – А как тебе нравится заход: «Разве вам не нужны эти деньги?»
– Лучше не придумаешь.
– Юбилейные полисы бьют без промаха, но я уже придумываю им на смену другую штучку.
Миссис Бернс молча покачала головой и без предупреждения захлопнула дверь. Это было первым поражением Салливена за утро, и он уставился на равнодушную дверь со злобной растерянностью.
– Грымза проклятая! – Он с треском закрыл регистрационную книгу. – Такую не уговоришь даже задарма пообедать.
За углом в тенистом проулке какой-то мужчина, развалившись на стуле, читал газету. Салливен увидел его и, улыбаясь, подошел.
– Доброе утро. Приятное у вас тут местечко, прохладное.
Тот кивнул.
– Да, на солнце нынче жарковато.
– Ну, раз уж я тут, то, может, вам будет интересно услышать, что страховая компания «Национальное страхование» отмечает на этой неделе свое пятидесятилетие. В ознаменование этого события мы выпускаем специальные юбилейные полисы.
Мужчина ухмыльнулся.
– Бьюсь об заклад, у жены глаза так и загорелись.
– Она велела поговорить с вами, мистер Бернс. Решающий голос принадлежит вам.
– Подаю его против.
– Но вы же не из тех людей, кто способен упустить такой превосходный случай…
– Да неужто? – добродушно перебил его Бернс. – А я как раз специализировался на том, чтобы упускать превосходные случаи, и всю жизнь только этим и занимаюсь. – Он скривил лицо. – Вот и еще один превосходный случай – тю-тю!
Салливен пожал плечами и расстроенно поглядел на Дэнни.
– Похоже, друг, что тебе крышка. Ничего не получается. – Повернувшись к Бернсу, он сказал умоляюще: – Неужто вам шиллинг в неделю не по карману? Мы целое утро ходили – и все зря. А если он сегодня не принесет квитанцию хоть на два шиллинга, то вылетит с работы.
Бернс опустил газеты и поглядел на Дэнни, словно только что его заметил.
– Дела плохи, э? Да, да, время такое. – Он заколебался. В этом пареньке было что-то симпатичное. Только слишком уж тихий для такой работы. Не то что его товарищ. У того язык хорошо подвешен. – Раз так, то тут уж отказываться нельзя, – сказал он в конце концов. – Ладно, давайте свой бланк.
Дэнни вырвал у него бланк и смял в кулаке.
– Но все равно – спасибо.
Салливен нагнал его только у самой калитки. В полном молчании они дошли до следующего угла, и тут Салливен резко остановился.
– Черт! Так бы и дал тебе в морду! – сказал он в бешенстве. – Кем это ты себя воображаешь? И кто здесь начальник?
– Я – когда речь идет обо мне! И заруби себе это на носу. – Раздражение, накопившееся за утро, исчертило лицо Дэнни резкими морщинами. – Да уж если на то пошло – ты-то от чьего имени несешь эту чушь?
Салливен заколебался. Может, это ловушка? Прием с юбилейными полисами не был тайной. Шишкам были известны все эти уловки. Может, конечно, они не доходили до Рокуэлла, ну, да и этот остолоп тоже до него не дойдет.
– А как по-твоему, от чьего имени я говорю? – огрызнулся он.
– Вот и ответь.
– Будь у тебя хоть капля мозгов, сам бы понял, – отрезал Салливен. – Я говорю от имени вас всех, начиная с Рокуэлла. И особенно от своего собственного.
Дэнни посмотрел на регистрационную книгу в черном переплете, вырастающую перед ним, словно Вавилонская башня, чтобы смешать его мысли. Слова Салливена были как примечание, набранное самым мелким шрифтом, к договору, который «Национальное страхование» заключило с обществом, – таким обескураживающе мелким шрифтом, что заметить его можно было только случайно. А тогда приходилось перечитывать основные условия – внимательно и с дурным предчувствием.
– Тьфу! – с отвращением сказал Салливен, так и не дождавшись ответа. – Чем скорее ты снова засядешь в конторе, тем лучше. Для этой игры ты не годишься.
И О’Рурк Беспощадный, опираясь на тоненькую тростинку этой истины, уныло поплелся дальше. Мимо домов, заборов, подъездов – этих выжженных полей для него и сочных пастбищ для Томми Салливена.
Закончив в этот день пораньше, он отправился повидать Молли. Ее комната на Аберкромби-стрит находилась в здании казарменного типа, которое его циничный и предприимчивый владелец окрестил «Лидо». Внутри был настоящий кроличий садок: узкие темные коридоры, комнаты с газовыми горелками и лампочками без абажуров, облупившаяся краска, ветхая мебель. Большинство обитателей ценило этот дом за то, что тут можно было укрыться от посторонних глаз, и по этой причине они не были склонны совать нос в чужие дела. И уж во всяком случае – в дела Молли, которая на этой стадии была неуязвима.
Идя по коридору, Дэнни вдыхал воздух нищеты, и сердце его сжималось. Он постучал в дверь, и Молли приоткрыла ее – сперва чуть-чуть.
– Дэнни! – в ее голосе было облегчение. Когда он вошел, она сказала: – До чего же я тебе рада! Сейчас я вскипячу чай.
– Спасибо, Мо. Как дела?
– Слава богу, теперь уж недолго ждать. А после я начну новую жизнь. Я серьезно. Они чего-нибудь говорят?
– При мне – нет. – Он присел на краешек кровати, глядя, как Молли заваривает чай.
Она оглянулась.
– Виделся последнее время с Полой?
– На той неделе ходил с ней в театр. Но по большей части она теперь – это только голос в телефонной трубке.
– А ты не думаешь, что зря тратишь на нее время?
– Я смотрю на это по-другому.
– Здорово тебя заело. Вот послушался бы моего совета!
– Хватит, Мо. Я все это уже слышал.
– Прости, Дэнни. – Она сказала это робко, испугавшись его раздражения.
– Брось, Мо. Я все понимаю.
– Ты всегда все понимаешь.
Молли отвернулась. Она тихонько плакала и, возясь с чайничком, пыталась удержать слезы.
– Ну ладно, Мо, не плачь, – уговаривал Дэнни, подойдя к ней. – От этого толку не будет.
– Я знаю. Ты чересчур уж мягкосердечный, Дэнни. Вот такие-то, как ты, и страдают. – Она налила ему чаю и села на колченогий стул. – А надо быть жестким, не то ничего не добьешься. И хитрым. А не сумеешь, всем будет наплевать, что бы с тобой ни случилось.
– Ты сейчас слишком мрачно смотришь на вещи, Мо. Это пройдет, когда все будет позади.
– Ну, теперь-то я буду жесткой. И хитрой тоже.
Это настойчивое повторение угнетало его, заставляло вспоминать Салливена и искать все новые и новые ответы на все новые и новые вопросы, а ведь именно теперь, когда он начал продвигаться, ему больше всего нужна была уверенность в себе.
– Ты попробуешь вернуться в мастерскую? – спросил он.
– В прежнюю-то мне неохота. Они же там все знают. – Она неуверенно добавила: – По газетам видно, что работу сейчас найти не так просто.
Дэнни кивнул.
– Отец каждый день рассказывает – то того уволили, то этого.
– А сам-то он? Он не боится, что его тоже уволят? Не могу сказать, чтобы я очень его любила, но ему в жизни туго пришлось. И что он такой – это она виновата.
– Мне всегда было его жалко. Даже когда я был совсем малышом. Ведь мама всегда его пилила: что бы он ни делал, все было плохо.
– Она многого от тебя ждет, Дэнни. По-моему, она только и думает о том, каким ты когда-нибудь станешь. Словно возмещает себе то, чего у нее самой никогда не было.
– Возможно.
– Ну, за тебя бояться нечего. У тебя голова хорошая и вообще…
Тоскливая нота в ее голосе рассказала ему о ее неуверенности, о томительном ощущении ненужности и одиночества. Но он не мог бы объяснить ей, что и сам ощущает себя изгоем, не мог объяснить тот разрыв между его мыслями и действиями, который стал особенно острым, пока он находился под опекой Салливена. А Молли говорила:
– Ух, так и вижу, как ты сидишь в шикарном кабинете с секретаршей. У тебя будет большущий автомобиль и красивый дом на Северной стороне. И уж конечно, ты заведешь большущую библиотеку. Как еще у тебя глаза не лопнули – сколько ты читаешь!
– Тогда у меня не будет времени читать. Да и думать тоже; только о делах. – Это была слабая копия клятвы, которую он дал себе ночью после танцев в яхт-клубе, но теперь он говорил, уже не веря, что сможет изменить свой характер не только в мечтах, но и в действительности.
Молли нахмурилась.
– Только не позволяй, чтобы это тебя совсем засосало. Вовсе тебе не обязательно жениться на конторе. И так все будет хорошо.
Дэнни улыбнулся. Значит, только она одна должна стать жесткой и хитрой? А ему положено пребывать в мире справедливых наград и он не должен меняться?
– Как у тебя с деньгами, Мо?
– Пока обхожусь. Но только потому, что ты платишь за комнату. – Она поглядела на него алчущим взглядом – на свою единственную защиту от волн опустошающей тоски, которые все чаще накатывались на нее, когда она оставалась одна. – Уж ты-то работы не потеряешь, тут и сомневаться нечего. Только псих захочет с тобой расстаться. Это относится и к твоей Поле. – Негодование снова взяло верх над благоразумием. – Кем это она себя воображает? Я бы сказала ей пару теплых слов. Может, она тогда посмотрела бы на себя со стороны.
Сперва ему показалось, что именно этот взрыв негодования заставил задрожать ее губы, но, когда ее глаза вдруг расширились, а лицо болезненно сморщилось, он вскочил в тревоге.
– Что с тобой, Мо?
Она с трудом оторвалась от стула, и он помог ей добраться до постели. Кусая губы и всхлипывая, Молли сжимала и разжимала кулаки, и он смотрел на нее с ужасом, потому что догадывался, что происходит.
– Что я должен сделать, Мо? – Он наклонился к самому ее лицу. – Что?
Она глубоко вздохнула и вся расслабилась.
– Сбегай за такси, Дэнни. И скорее возвращайся.
После рождения ребенка Молли часто плакала: «Он был такой миленький, Дэнни, с такими большими глазками!» Она вернулась в «Лидо». Около двух недель она отказывалась выходить из комнаты, и Дэнни каждый день забегал к ней после работы.








