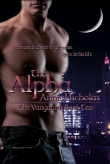Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
– А, всё как обычно. Суставы барахлят помаленьку... летом ещё терпимо, но с зимами в Мэне у ней нелады.
– Всё так же мечтаешь о пенсии?
– Я не мечтаю о ней. На следующий год она и так станет реальностью. Билли хочет, чтобы мы на пенсию переехали во Флориду, перетащили пожитки поближе к сыновьям и внукам. Думаю, я ещё не слишком стар и могу жить полной жизнью. Я уже присматривался к недвижимости в Форт-Лодердейле, но не знаю... Не хочу продавать дом. Я говорю Билли, что сюда всегда можно приезжать на лето, но дело в том, что нужно всё продать здесь, чтобы что-то купить там. Ты же знаешь, на зарплату полицейского особо не разбежишься... так что пока я её отговариваю. Я ещё не готов принять такое решение...
На следующее утро из полицейских сводок новость перекочевала в газеты. Сначала она была опубликована в Бангоре и Портленде, и тут же сарафанное радио подхватило её и разнесло по всему краю. В тот же день в больницу явились репортёры брать у Эрика интервью, но он отказался разговаривать с ними.
Ему хватило репортёров во Вьетнаме.
Джи-ай воспринимали журналистов как особую породу паразитов из одного ряда с вампирами, экстремалами и прилипчивыми адвокатами, потому что все они возбуждались от вида крови и запаха смерти. Они всегда возникали после тяжкого боя, чтобы доставать уцелевших бойцов вопросами и строчить статейки со страшилками в свои газетки. Они находились там, чтобы, пользуясь "добычей" войны, сделать себе имя. Худшие из них работали на скандальные таблоиды, донимали молоденьких солдат, заставляя произносить заученные речи, и жировали на всеобщем горе и страданиях.
Солдаты кое-как отбивались: "Если хочешь знать, чтС есть война на самом деле, будь в следующем бою поблизости". Но совету следовали немногие, лишь самые добросовестные, все остальные наскоро марали блокноты корявыми строчками и сматывались – вместе с трупами – из передового района на вертушке снабжения и к вечеру уже наслаждались безопасностью Сайгона. В те дни его называли Городом Греха и Городом Любви, Содомом и Гоморрой Востока. Сайгон. Кто забудет Сайгон?
Они ужинали на террасе отеля "Континенталь", старинного французского заведения, где официанты были вежливы, кухня отменна, а столы покрыты скатертями. Возвращались в гостиничные номера и тащили евразийских служанок в постель, а потом трахали себе мозги всеми возможными способами в клубах на улице Тю До: наливались "тигриной мочой" и травили бородатые анекдоты до тех пор, пока глаза не съезжались в кучку и пиво не шло носом пузырями – упившиеся в зюзю и готовые к прописке в палате для слабоумных.
Затем отправлялись под крышу отеля "Каравелла" и обсуждали с коллегами специфические опасности освещения войны до самой полуночи, пленительного часа, когда в Сайгоне наступал комендантский час и на улицах стреляли в любого без предупреждения.
"У журналистов, у пишущей братии, – по мысли Эрика, – проблема в том, что они никогда ничего не делают, но только наблюдают за действиями других и пытаются описывать или объяснять увиденное".
Ежедневная военная журналистика и на передовой, и в самом Сайгоне превратилась в обычное производство слов для заполнения бесчисленных страниц газетной бумаги, что совсем не похоже на тщательный отбор слов из опыта и воображения, чем, собственно, занимается романист. Поэтому ребята валили репортёров в одну кучу и склонялись к мнению о них как об агрессивном отряде много пьющих, острых на язык левацки настроенных вуайеристов и осведомителей господствующей верхушки, которая первым делом отправила их во Вьетнам, несмотря на то что по возрасту парни даже права голоса не имели.
В пятницу утром, на пятый день пребывания в больнице, доктор Диттман выписал Эрика и назначил явиться на приём через неделю. Он кое-как оделся, но, надевая ботинки, впервые испытал чувство бессилия. На помощь пришла сиделка, и он только тогда понял, каково быть одноруким в мире, в котором всегда требуются два кулака.
– Когда вы получите искусственную руку, врач-трудотерапевт научит вас завязывать шнурки, мистер Дэниелсон, – ободряла его сиделка.
Покинув регистратуру, он отправился в Дамарискотту, в Первый Национальный банк, чтобы перевести свои деньги со сберегательного счёта на расчётный и сообщить служащим, что отныне на его счетах появится подпись, не похожая на прежнюю. Покончив с этим делом, в магазине одежды "Пэйн" он купил новый свитер и джинсы "Ливайз", чтобы никому не показалось, будто он работает на бойне. Старая поношенная и рваная одежда, испачканная пятнами крови, немедленно последовала в мусорный бак. Затем в обувном он купил пару сапог-веллингтонов из нубука, в которые можно всовывать ноги просто так, и попросил продавца выбросить его старые резиновые ботинки. Ему страшно не хотелось их выбрасывать. В конце концов, старая обувь удобна, на её резиновые подмётки намотано много миль, но он не поверил сиделке, что, получив крюк, сможет завязывать шнурки самостоятельно.
Как и предупреждал доктор Диттман, постепенно проявились фантомные боли, мучительные ощущения, словно кто-то резал раскалённым охотничьим ножом, и одно было желание: скорей бы всё это кончилось. Он ощупывал повязку – руки не было, но ощущения были такие, словно она оставалась на месте, и это его смущало. Чувствуя себя уверенней в новой одежде и обуви, он зашагал прямо на Таунсенд-авеню, в галерею на встречу с Хелен Хэтт. Когда он пришёл, она корпела над конторскими книгами в маленьком кабинете в глубине здания.
– Ну и духота у тебя здесь, Хелен! – воскликнул он, как только за ним захлопнулась дверь. – Открой хотя бы окна, впусти свежий морской воздух. Не знаешь, что ли – лето на дворе?
Эрик огляделся и никого не увидел.
– Ах, Эрик, – воскликнула она, появляясь из каморки в конце галереи. – Я по радио услышала о твоём несчастье. Я вернулась только этим утром и после обеда собиралась навестить тебя в больнице. Я всю неделю провела в галерее Бар-Харбора.
– Вот и кончилась моя живопись...
– Не говори так, Эрик. Может быть, и не кончилась.
– Скоро мне дадут крюк. Как, по-твоему, я буду смотреться с чёрной повязкой на глазу и золотым кольцом в ухе, а? Самый красивый пират в Бутбэе, правда? Капитан Крюк собственной персоной. Подойдите сюда, мои дорогие... посмотрите на человека с крюком, ха!
– Прекрати!
– Почему? Это правда...
– Нет, не правда...
– Угу, а вот и благотворительные булочки для старого пирата. Я буду единственным безработным островитянином, с таким-то знаком отличия. Со мной всё кончено, Хелен. На зеркало в ванной пора клеить любимую цитату из О'Нила "Глянь мне в лицо: зовусь я Мог-Бы-Быть, а также Никогда, Всё-Поздно и Прощай..."
– Прекрати! Не говори так о себе, Эрик...
– Я уже думал, Хелен, чем мне заняться, и, знаешь, мимо острова проходит много круизных пароходов. Я, наверное, смогу заработать на жизнь придурком, откусывающим головы курам, змеям и треске на главной пристани.
"Посмотрите-ка на Эрика-дикаря! Он лопает их живьём, люди, живьём!" А ты будешь продавать билеты и зазывать толпу. Это возбудит народ, даст ему что-то новенькое – как хороший пинок под зад. Только никаких продаж на ужин, идёт? А то людей стошнит. И придётся для них откусывать головы у зоологического печенья. Хоть какой-то кусок хлеба...
Ещё можно наняться торчать у какого-нибудь ресторана в Бутбэе, если всё-таки придётся перебраться на материк. "Пристань Брауна", наверное, подойдёт... Надеть плащ-непромоканец, вышагивать эдаким солёным чёртом, сыпать сочными словечками моим любимым восточно-мэнским выговором, развлекать туристов морскими враками: байками о китах, о том, как в двух милях восточнее острова Рождества потерял руку в пасти огромной белой смерти, в пасти чудовища, по сравнению с которым Моби Дик просто золотая рыбка, в пасти всепожирающей машины, которая всё ещё плавает где-то там и ждёт очередного бедного малого. Буду ковылять со своим обрубком, опираясь на трость со следами зубов кашалота, на плечо, как долговязый Джон Сильвер, посажу зелёного попугая, чокнутую птичку, что лущит семечки, щёлкает клювом, гадит на туфли прохожих и ругается грязными словами, бррр... Курортникам понравится, как думаешь, Хелен?
– Остановись! – Хелен топнула ногой, на глазах выступили слёзы. – Ты снова будешь писать, Эрик, я знаю – будешь.
– Чем? Зубами?
– Нет, другой рукой...
– Никогда... – оборвал её Эрик, покачав головой и уставясь в пол.
– Ах, Эрик, посмотри на это с другой стороны: ты жив, значит, есть надежда...
– Надежда? Ты говоришь мне о надежде? О какой надежде? Надежды нет, Хелен. Нет никакого последнего шанса! Это тебе не Голливуд. Посмотри на неё, хорошенько посмотри... – процедил он, наливаясь злостью и тыча левой рукой ей под нос. – Видишь повязку? Руки нет, чудесной руки больше нет, она в брюхе у проклятой акулы!
– Ты можешь научиться, Эрик...
– Не хочу даже слышать об этом. Всё кончено, Хелен, и чем скорее я освоюсь и смирюсь с этим фактом, тем лучше устроюсь. О господи, всему конец! Поэтому не жалей меня, не внушай оптимизм, не лги и не пудри мне мозги: всё, жизнь моя как художника подошла к крутому и неожиданному концу, полностью и навсегда. Прощай, живопись. Наступил великий финал той жизни, которую я так любил, и с этой точки зрения я не испытываю особенного счастья оставаться в живых. Я уже не знаю, для чего мне жить...
Эрик умолк, судорожно давясь словами, потом сглотнул, закрыл глаза, сомкнул зубы и сделал глубокий вздох. Он терял самообладание. Воля покидала его. Из глаз выкатилась слеза, за ней другая, ещё и ещё. Броня дала трещину, и вмиг он обрушил весь запас, целую бурю слёз, и рыдал так, словно конца рыданиям не будет. Хелен обняла его, прижалась и не отпускала, положив голову на грудь, он же изо всех сил отворачивался и всхлипывал, и булькал, и задыхался, и охал.
– Всё хорошо, всё хорошо, поплачь, будет легче... – шептала она на ухо, утешая.
– Нет, Хелен, не будет, – он хватал воздух ртом и хлюпал носом, до боли беззащитный и слабый, словно растерянный мальчик, которого ни за что отхлестали по щекам. – В этом заключалась моя жизнь, в этом было всё, а теперь ничего нет. Как же ты не поймёшь? Я потерял не просто руку, я потерял свою жизнь...
Хелен лишь крепче прижималась к нему и не отвечала.
– Чёрт побери, посмотри на меня, – он попробовал усмехнуться, – всю неделю я собирался духом, и вот прихожу сюда, встречаю тебя и раскисаю. Как школьник...
Хелен всё так же прижималась к нему, давая выговориться и выплакаться.
– Проклятье, Хэтт, – рыдал он и фыркал, – я слишком крут, чтобы плакать. А крутые не плачут, ты же знаешь...
– Ты слишком силён, чтобы не плакать, Эрик.
– Где, от кого ты это взяла?
– От тебя...
– Ух... комок подкатил так незаметно, слёзы застали меня врасплох. Ладно, всё в порядке, я не развалюсь на части, не стоит сжимать меня так крепко. Хотя...
– Что "хотя"?
– Хотя, сказать по правде, мне это приятно.
– Раньше нужно было поплакать, тогда б и не раскис. И не думай, что всё прошло. Будут ещё слёзы. Ты ещё не всё выплакал...
– Крутые парни не плачут...
– Эрик, ты не крутой парень.
– Ну, хорошо, не слишком крутой...
– Эрик, послушай меня. Ты художник. Ты жестоко ранен, и тело твоё болит, но у тебя всё будет хорошо, и ты снова будешь писать, обязательно. Я с тобой рядом, и я знаю, что ты победишь в этой борьбе, потому что ты победитель и потому что ты самый сильный из всех, кого я встречала. Я тобою горжусь, Эрик, и я буду помогать тебе всеми силами моей души.
Я всегда думаю о тебе, ты всегда в моих мыслях: сижу ли дома, брожу ли по улицам Бутбэя. Я думаю о тебе и на кухне, и ночью в постели, и в ванной по утрам. Я человек, Эрик, и я многого не знаю, но я знаю тебя. Обещай мне, что не забудешь, что ты не один, что я всегда с тобой.
Я верю в тебя. Я горжусь тобой. Я всегда с тобой, всё будет хорошо, всё будет прекрасно, поверь...
– У тебя есть салфетки? – спросил он, вытирая глаза тыльной стороной ладони.
– Вот, возьми...
Эрик высморкался, сжал зубы, сглотнул слюну, промокнул глаза салфетками и проморгался.
– Тебе лучше?
– Нет... да... может быть. Чёрт! ЧЁРТ! – он осёкся и закашлял.
– Слушай, почему бы нам не поужинать сегодня?
– Хорошо...
– На Рыбацкой пристани в семь.
– Приду.
– Я угощаю...
– Ладно, буду лопать, как лошадь...
– Тебе надо хорошенько поесть после больничной еды.
– В больничке кормили неплохо. Я могу есть всё что хочешь: стейки из картона, тушёные кожаные ботинки... даже армейская пища казалась мне подходящей. Тебе бы попробовать мою стряпню, Хелен. Она тебе так не понравится, что через год будешь выглядеть как узник из лагеря смерти. Даже Моряк не ест с моего стола, моему супу предпочитает свой корм ...
– Не может быть всё так плохо.
– Вот что я хотел тебе сказать: у меня закончено несколько картин. В следующий раз, как приеду в Бутбэй, я тебе их привезу. Если б ты могла их продать, тогда... это поддержало бы меня на какое-то время.
– Не беспокойся об этом, я сама приеду за картинами. Тебе всё равно будет нужен человек, чтобы поговорить. Летний сезон начнётся только через несколько недель, так что я могу позволить себе небольшой отпуск.
– Почему ты так добра ко мне?
– Потому что я... потому что я о тебе забочусь.
– А-а-а...
– Встретимся в семь.
– Буду ждать в баре...
Эрик покинул галерею и направился к ресторанчику "Отлив" на Коммерс-стрит, – напротив книжного магазина "Гекльберри", где он любил полистать книжки всякий раз, когда приезжал на континент, – и заказал миску чаудера из моллюсков, яичницу с ветчиной, булочки со свежей голубикой и большую кружку кофе. Он забыл, что всегда ел левой рукой, поэтому, когда принесли заказ, смутился, словно в больнице, что такая простая вещь, как отправить в рот ложку супа, может обернуться неуклюжими, неловкими действиями.
За соседним столиком внимание Эрика привлёк прилично и весьма по-британски одетый джентльмен лет семидесяти, с волнистыми седыми волосами; человек читал дешёвую книжку в мягкой обложке. Название гласило "Штучка с острова Свиней. Рассказ о стремительном взлёте милой Мэйвис: от дочери смотрителя маяка до владелицы одного из крупнейших нью-йоркских агентств девушек по вызову". Под рекламным текстом помещалась иллюстрация разбитной девочки-подростка, стоящей возле маяка в откровенной блузке, коротеньких шортиках и огромной розовой шляпе, на которой красовалась поникшая маргаритка; девчонка призывно улыбалась и ела шоколадные конфеты.
Эрик отхлебнул кофе и, взглянув на господина, усмехнулся. "Ему скучно до чёртиков, – подумал он. – Наверное, ждёт, когда жёнушка набегается по лавкам. Окажись здесь Джо Бопп, наверняка указал бы ему читать подобные непристойности в другом месте". Но тем и привлекал "Отлив", что в нём всегда было полно неожиданностей. Он любил подолгу пить кофе в этом ресторанчике и при случае обязательно посещал его, в особенности летом и осенью. Кухня здесь была хороша, официанты расторопны и обходительны.
На острове Эрик никогда не чувствовал себя одиноким, но, просиживая в ресторанчиках за чашечкой кофе, он сознавал, как одинок на белом свете, как мало трогают его слова и поступки людей, и находил это обнадёживающим.
В ресторанах и кофейнях можно было прекрасно отвлечься от городской суеты и подумать, если требовалось думать. Время от времени в твоё пространство могли вторгаться люди и портить атмосферу, но в голову твою проникнуть они были не в силах. Туристы всех форм и размеров входили и выходили непрерывными потоками, так что в особо напряжённые дни представлялись ему бродячей бахчой смешных арбузов и тыкв. Наблюдая людей, Эрик черпал идеи и вдохновение для задуманных картин. Напрямую, конечно, эти люди ничего не имели общего с картинами, для которых он собирался с мыслями, но каким-то странным образом они придавали им импульс. Мысли его плавали то здесь то там, он следовал за ними, делая в уме заметки, которые иногда записывал на салфетках; салфетки складывались в задний карман и по возвращении на остров перечитывались.
Покончив с кофе, Эрик оставил "Отлив" и несколько часов бесцельно бродил по Бутбэю, по пешеходному мостику перешёл на Атлантик-авеню и завернул на пристань, чтобы заправиться до отвала парными моллюсками в топлёном масле и расслабиться за столиком для пикника под тёплым летним солнышком. В шесть он пошёл на Рыбацкую пристань и уселся в баре; Хелен появилась около семи, и они прошли в основной зал ресторана. Поужинали, официант принёс графин вина, и Эрик поведал Хелен о своём смертельном происшествии в море.
Вино шумело в голове, язык развязался, и он решил попотчевать Хелен историей о приведениях. Настоящей страшилкой...
– И поэтому, когда Бекки умерла, я пошёл на наше место; я пошёл туда, потому что хотел подумать о ней. Всего несколько дней минуло после похорон. Понимаешь, я был один. Вокруг никого. И тут я услышал очень странный крик. Не похожий ни на орла, ни на ястреба, ни на сову... но на всех троих сразу. Хелен, вокруг не было птиц. Ни одной. Вот что самое странное. Обычно там много птиц. Стояла ранняя весна, и деревья ещё не распустились. Стояли голые. Если бы рядом была птица, я бы её увидел. Я уходил всё глубже и глубже в лес, и крик следовал за мной. Я обернулся и заметил, как одна ветка надо мной слегка качнулась вверх и вниз... и больше ничего... только одна ветка. Однако ветра не было. Я прошёл ещё пятьдесят ярдов по тропе и снова услышал этот звук, и закачалась ещё одна ветка. И тогда я понял, что то, что я слышу, не относится к живой природе. Я думаю, то была Бекки... или душа Бекки... у меня было ощущение, что она хотела сказать мне, что у неё всё в порядке. Знаю, это звучит жутко, но так было. Думаю, это был призрак Бекки, в тот день он приходил ко мне. Я верю в призраки. Души мёртвых повсюду вокруг нас. На острове Рождества тоже в них верят...
Он отхлебнул из стакана.
– У меня слегка кружится голова, я ведь нечасто пью и, наверное, сейчас выпил лишнего. Но, Хелен, я должен сказать тебе ещё вот о чём. Пока я жив, меня будут преследовать вопли того кита, господи, самые безутешные звуки, слышанные мной...
– Эрик, ты нашёл, где остановиться на выходные? Думаю, тебе не вернуться домой на пароме до самого понедельника.
– Нет, нет, я ещё не определился, где ночевать. Я найду место, извини, мне не хотелось бы докучать тебе, Хелен...
– Ерунда! Пойдём к нам, постелим тебе в гостиной, а утром позавтракаем вместе с мамой, а захочешь остаться до понедельника – мы будем только рады. Устроим какое-нибудь развлечение на выходные...
– Спасибо.
– Ты мог бы хорошенько выспаться после больничной суеты.
– Да, было б здорово. Целую неделю не спал по-человечески.
Опустился туман, ночной воздух бодрил свежестью, они шли рука об руку по шаткому деревянному мостику на Атлантик-авеню и прислушивались к шуму начинающегося прилива. Маленькая рука Хелен была тёплой и влажной; она прильнула к его плечу, Эрик чувствовал тепло её тела, и впервые за многие годы отступило ощущение мучительного в целом свете одиночества.
– Как хорошо отрешиться от всего и просто наслаждаться жизнью, забыть о тёмных сторонах и дать волю приятным неожиданностям, – шептала Хелен, крепче прижимаясь к нему.
ГЛАВА 10. «ШУТ С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ»
"Тот из вас, кто первый увидит белоголового кита со сморще н ным лбом и свернутой челюстью; тот из вас, кто первым даст мне знать о белоголовом ките с тремя пробоинами у хвоста по правому борту; тот из вас, говорю я, кто первый увидит белого кита, тот пол у чит эту унцию золота, дети мои!"
В понедельник Эрик вернулся на остров, и Эсси Фрост прислала к нему Чарли с караваем домашнего хлеба и восхитительным тушёным блюдом из капусты, репы, картошки, лука, говядины и лосины. Моряк же добыл ему филе трески, стащив его с чьей-то верёвки; невероятно счастливый возвращением хозяина, по дороге к избушке он сожрал половину куска.
Несколько дней Эрик не делал ничего, только ел, спал да в оцепенении бродил вокруг. Теперь, когда в первый раз после нападения акулы он остался один, когда рядом не было Хелен, готовой поддерживать его слабеющий дух, действительность навалилась на него, и он свалился как подкошенный – с глухим стуком. Он ещё находил удовольствие в наблюдениях за ежедневным приходом и уходом воды. Эти движения для него стали своего рода защитой. Пусть не вставало солнце, не всходила луна, – вода непременно наступала и отступала дважды в день, как некая константа в его больном переменчивом мирке.
Он вспоминал, как, очнувшись в реанимации, увидел белоснежную повязку на левой руке, чистые и белые отутюженные простыни и наволочки; смятый госпитальный халат, чистый и белый. Как же он ненавидел эти халаты! Сегодня больницы напичканы новой техникой, но эти халаты да, пожалуй, уродливые шлёпанцы, не изменились нисколечко. Вспомнил и жёсткую белую сестринскую шапочку Айрис Мердок и этот её халат; вспомнил, что всё вокруг было белым-бело: стены, потолки – всё, белое на белом, как на картинах Уистлера.
И вспоминал он день второй, когда его, не чувствующего боли от демерола, тащило под кайфом и галлюцинациями от наркотиков, правда, не так сильно, как в первый день; как упрямо пытался поесть, не умея ничего удержать, и как всё время тянуло в уборную по-маленькому. Припомнил, как болела правая рука от воткнутой в вену большой иглы от внутривенной трубки – трубки, которая заставила его пропустить через себя огромное количество жидкости.
Сиделки жалели его, ему это нравилось, он блаженствовал от всеобщего внимания, хотя делал вид, что всё как раз наоборот. То была не слюнявая жалость, но сочувствие высшего порядка, музыкальная заставка к его храброму поступку. И вслед за чужим сочувствием поднималась волна собственной острой жалости к себе и накрывала с головой.
– Как вы себя сегодня чувствуете, мистер Дэниелсон? – интересовалась милая юная сестричка, подавая завтрак.
– Фантастично! Чувствую себя совершенно фантастично! – врал он.
– Что ж, прекрасно... – поддакивала сестра.
– Ага, ну да... хорошо ещё, что я потерял только одну руку. Мог бы вообще остаться без обеих, как пить дать! Пасть у акулы вот такой ширины... могла бы проглотить человека целиком, если б захотела, мать её... даже меня. Я лишился левой руки, ну и что с того, у меня будет крюк... немногие могут этим похвастать, как же! Только бы Питер Пэн научил меня летать...
В больнице его воспринимали как настоящего героя, идущего на поправку. Ему оставалось только подыгрывать; испорти он пьесу, действительность – он был уверен – забросала б его градом камней и прибила бы к земле. Но, отрицая свершившееся и пытаясь отречься от своих настоящих чувств, он лишь играл роль. И вот защитный пузырь храбрости лопнул. Герой пал. И он чувствовал себя шутом с разбитым сердцем и, вспоминая, на кого был похож эти несколько дней, испытывал досаду.
Он вспомнил, как пересыхало во рту после операции. Так пересыхало, словно напихали полный рот ваты. Но сестра Мэрдок воды ему не давала, а ведь он умолял её. Его, видите ли, могло вырвать на простыни. Потому он тихонько лежал там и жаловался на своё несчастье сквозь запёкшиеся губы опухшим языком, на котором словно всю ночь простояли лагерем вьетконговцы. Хотелось улыбаться, но он боялся, что от улыбки зубы раскрошатся и на мелкие кусочки разлетится лицо. Когда же ему всё-таки дали напиться, вихрем подхватило желание болтать по душам со всяким, кто заглядывал в палату. И покуда рот был занят движением – что, в общем-то, было ему не свойственно, ибо он такой человек, который всегда помалкивает с незнакомцами, – у него не оставалось времени на то, чтобы взвесить свои мысли и разобраться в своих ощущениях.
Зато теперь он и обдумывал, и ощущал – всё, о чём не хотелось думать, чего не хотелось ощущать. Ему стало грустно. И грусть переросла в депрессию. И от жалости к себе промелькнула мысль о самоубийстве. Идея самоубийства, быстро и чисто освобождающего от бремени жизни, казалась очаровательной, он несколько дней вертел её в мозгу, но потом всё-таки отказался от неё.
Каждую пятницу утренним паромом он ехал в больницу на приём к доктору Диттману.
– Как дела, Эрик? – задавал вопрос Диттман.
– Говно, док, гов-но!
– Ну-с, дела ваши идут на поправку... рана выглядит хорошо.
– Вы хорошо кромсаете, док.
Но ему не удавалось стряхнуть депрессию, и наедине с собой, на острове, всё вокруг не давало ему покоя, включая отсутствие интимной жизни.
"Кому захочется получить в постель мужика с крюком? Какие теперь у меня шансы на маленькие шалости? Что из меня получится? Или этому тоже конец? Смогу ли я, как прежде, объезжать пастбище, звеня шпорами? Посмотрите на меня! Я покалечен, изуродован и более не полноценный человек!"
Ночью он боялся ложиться спать. Боялся уснуть и видеть сны. Но отдых был необходим, и как только он засыпал, его посещали тревожные сновидения. Раз приснилось, будто он вернулся во Вьетнам воочию убедиться, как после войны изменилась страна. С ним альбомы для зарисовок и фотоаппараты, он собирается колесить по глубинке, как вдруг оказывается, что куда-то подевались и альбомы, и аппараты, и даже одежда, и что сидит он на речном берегу в Дельте и клянчит рис. Во сне он терял всё, но руки оставались при нём. Во всех снах у него было две руки. Он просыпался, садился на краю кровати и подзывал Моряка, и холодный пот струился по лбу. Он смотрел и видел единственную руку, и один только вопрос мучил его: как такое могло с ним случиться?
Однажды он спросил об этом Диттмана.
– Вы во власти печали, Эрик... в вашем теле побывала смерть. Совершенно нормально, что во сне у вас две руки. Ваше подсознание ещё не смирилось с потерей левой руки. Но не беспокойтесь... со временем это пройдёт.
Словно потерянный, изо дня в день в глубокой задумчивости бродил он по острову на пару с Моряком, вновь и вновь пытаясь обрести себя и часами наблюдая за играми тюленей в укромных бухтах.
"Итак, всё кончено, – думал он. – Никогда не узнать мне, куда вела меня моя живопись".
Наваливалась великая усталость, душила ярость от того, что пришёл конец всему: мечтам, годам стараний и борьбы. Уже не писать ему сюжеты, что берёг до поры зрелого мастерства, которое позволило бы взяться за их написание. Как много работы осталось незавершённой!
Мысли особенно возвращались к одной картине, которую много лет собирался написать, да так и не собрался. То был ельник, что на западной стороне острова. Зимой роща бывала особенно красива. Он хотел написать нечто, что создавало бы ощущение уединённости, некой духовной сущности, сродни древнему собору. Наполнил бы холст энергичными вертикальными линиями и узнаваемой структурой. Он хотел внести в картину несколько живых существ и даже решил, что это будут синица-гаичка, выискивающая яйца и личинки насекомых, потому что она символ штата и обитает на острове, и пёстрый американский дрозд из-за своего самого красивого птичьего голоса во всей Новой Англии.
Изобразил бы столбы мягкого света, чтобы подчеркнуть птиц и чтобы картина получилась такой же, как картины в воскресной школе, на которых Иисус беседует с господом; эти лучи света смягчали бы влажную почву леса. Здесь и там разбросал бы снежные прогалины, а еловые стволы припорошил бы белой пудрой. Размышляя о картине, он будто слышал, как поёт дрозд, и ему казалось, что птичья песня раздаётся в храме. Очень долго собирался он написать такую картину, да всё откладывал на потом, занимался другими вещами, и вот теперь никогда уже её не напишет.
И ещё он хотел бы написать портрет Моряка, с палкой в зубах выходящего из воды в бухте Ворчуна. Написать для себя и повесить в хижине.
"Ну что ж, – думал он, – раз не написал, значит, неудач с ними не будет. Может быть, я бы не смог их написать так, как хотелось бы, потому и откладывал, потому-то и тянул так долго. Может быть, я дурачил самого себя. Теперь уже не узнаешь.
Я оказался там, где не должен был, там, где у меня не было никакого дела, и вот – всё кончено. Если б в то утро я остался дома и поехал в Бутбэй, как собирался, этого бы никогда не случилось. Если бы, если бы! Что – "если бы"? Слишком поздно для всяких "если бы"! Почему всё кончилось именно так? Почему я? В чём моя вина?
Может быть, вся моя жизнь, включая и этот случай, и есть то, что мне нужно, чтобы через страдание развить и расширить своё сознание до той точки, в которой я сейчас пребываю. Только, чёрт её дери, где же пребывает эта самая точка?
Надо будет на днях купить молоток с гвоздями и застолбить эту точку. Воздвигнуть деревянный крест на соседнем холме, взобраться на него голышом, корчиться на нём, истекать кровью и проклинать – и положить всему конец. Хелен, наверное, права: я становлюсь змеёй, кусающей самоё себя, ибо хребет мой перебит".
Припомнился давнишний разговор. "Творчество, – говорила Хелен, – пьянящий напиток, Эрик, но когда им опьянён, перестаёшь замечать ошибки. Дай своей работе остыть, затем взгляни на неё опять".
И он так и поступал. Он понимал, что существует большая разница между способностями и достижениями, что становление художником занимает годы и годы тяжёлого труда и что понадобится всё его мужество, чтобы справиться с трудностями, – именно мужество, потому что без него он пропадёт.
Да, заряд мужества ему бы сейчас не помешал.
Он смотрел вдаль на бухту и видел, как утреннее солнце выходит из воды и трепещущие струи теплого воздуха поднимаются над тёмно-синей равниной.
"А жизнь идёт своим чередом, – думал он. – Рыбаки заняты тяжёлой работой, их совсем не коснулось то, что случилось со мной. Потеря моей руки не подняла даже ряби в жизни окружающих меня людей. Пока я сижу тут с Моряком, жалею себя, жизнь продолжается. Я считал, что могу справиться с чем угодно. С бедностью. С голодом. С неудачами. Но что в моей жизни могло подготовить меня вот к такому повороту? Чем сейчас заниматься? Какую пользу могу принести я себе и другим? Жизнь моя стала бесполезна. Я потерпел крушение, как старина Робинзон, только у него было две руки и он хотел быть спасённым. А я не хочу.
Когда я вернулся с войны, смысл жизни я находил в том, что выжил, ведь многие мои товарищи погибли. Долгие годы я скитался, пока не осел здесь. В работе своей находил я смысл и направление жизни, а теперь всё пропало. Одна слепая хватка акульих челюстей изменила всё".
– А-а-а-а! – стонал он.
"Случись это не со мной и не будь так до одури печально, я бы первый смеялся над нелепостью происходящего. Не могу поверить, что это правда, что случилось именно со мной лишь несколько недель назад. Но когда гляжу на руку, понимаю, что это не сон".