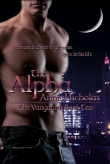Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
– Здесь кто-нибудь продаёт ваши картины?
– Никто.
– Понятно... – сказала она и отвела взгляд.
Так завязалась их дружба.
Хелен всматривалась в долговязое мускулистое тело и бронзовое от солнца лицо. Он был переполнен суровой красотой, она не могла на него насмотреться. Заглянув в его ясные голубые глаза, она быстро отвела взгляд и уставилась в точку на стене. Что если коснуться его, взять за руку, может быть, к ней потечёт его сила и тепло? Она чувствовала смущение и замешательство, словно не понимая, что на неё накатило.
Эрик скользнул взглядом по зардевшим щекам, влажным алым губам, по зубам меж тех губ – белым, крепким, ровным, соразмерным лицу. В Хелен было пять футов роста и никак не больше девяноста фунтов, и по тому, как сидели на ней розовая блузка и клетчатая юбка, он заключил, что грудь её полна и упруга, ноги стройны и красивы, а попка туга, как маленький барабан.
Пока он говорил о своей работе, Хелен водрузила круглые очки в железной оправе на макушку и с изумлением и удивлением наблюдала за ним и даже чуть-чуть отступила назад, чтобы лучше рассмотреть, в то время как огонь с его языка наполнял её теплом, заставляя трепетать. У неё были роскошные длинные вьющиеся волосы, чёрные как воронье крыло и с рыжеватым отливом; Эрик отметил про себя и белый, не тронутый ни солнцем, ни ветром, цвет её лица, и изящно вздёрнутый носик, и огромные подвижные синие глаза, и какой-то особенный изгиб губ. Она была бледна и серьёзна и в то же время мила и привлекательна, а когда поднимала к нему свой взор, её тонкие, слегка припухлые губы складывались сердечком.
Хелен подумала, что этот странный новый человек подобен действующему вулкану, который извергается и изрыгает грубую силу и такую жажду жизни, с которой она никогда не сталкивалась прежде. Он излучал колоссальные заряды энергии, с воодушевлением и убеждённостью описывая свои картины и передавая свою способность вЗдения ей, пока она сама не разглядела то, что видели его глаза и что он положил на холст: рыбаков, тянущих сети из моря под ледяным дождём; восход солнца в зимний шторм; созвездие Южного Креста, горящее на низком летнем небе, – ибо он привёл словесное описание жизни на острове, которое пылало и потрескивало от света и красок. Он страстно и красноречиво повествовал ей о себе и своей любви к живописи, и она чувствовала, как ураган его эмоций сбивает её с ног, и это немного пугало, потому что ей казалось, что он начинает забирать какую-то странную власть над нею.
В глазах разгорался огонёк страсти, и она ощущала, как по телу разливается тепло и перехватывает дыхание, как появляется волнение и смущение, когда она просто смотрит на него и внимает его речам. Страсть её была нежна, как огонёк свечи, ласкова, как утренняя роса, тиха, как рябь на пруду прохладной летней ночью. Его же страсть была подобна проснувшемуся вулкану Сент-Хеленс, извергающему опаляющий жар и огненные реки лавы, обращающей всё на своём пути в пустыню из бесплодного белого пепла. Хелен заметила и загар на лице Эрика, и длинные жилистые мышцы под одеждой, и энергичность быстрых уверенных движений. Хоть был он потрёпан войной и казался необузданным, диким, неукротимым, она разглядела в нём что-то очень хрупкое, очень ранимое, нечто детское, опалённое испытаниями, через которые ему пришлось пройти; нечто доброе, что было сохранено, несмотря на годы и пережитое в загадочном грубом мире, который она никогда не знала и не узнает никогда. В тот день они проговорили больше двух часов.
– Слишком многие художники напыщенны и серьёзны, как чучела сов, – говорил ей Эрик. – Я работаю много, но и мне нужно отвлекаться от работы. Жизнь сама по себе достаточно тяжела, поэтому я пытаюсь доставлять себе маленькие радости и по возможности получать удовольствие от мира вокруг меня. Это одна из причин, почему я время от времени посещаю материк: просто чтобы отвлечься от жизни на острове...
Хелен была на десять лет моложе Эрика, она окончила университет в Бостоне со степенью магистра изящных искусств. Её отец был известным художником в Бутбэе, но умер, когда она была ещё ребёнком. Закончив образование, она вернулась к матери и открыла две галереи. Хелен попросила Эрика показать ей свои работы, и он обещал ей в следующий раз, отправляясь к парому, обязательно прихватить несколько полотен.
– Критика мне нужна больше всего, Хелен, – сказал он ей. – Мне обязательно нужно знать, что в моей работе хорошо и что плохо; надеюсь, вы будете со мной откровенны...
Неделю спустя Эрик привёз две картины, Хелен пришла в восторг от обеих и просила привезти ещё. Впервые он получил поддержку, блестящая похвала была подобна красному вину, струящемуся в жилах, и его опьянила надежда, что скоро и он будет зарабатывать живописью.
Он привозил новые картины, и они впечатляли её всё сильней; она сделала несколько весьма дельных замечаний, и потому в горле у него пересыхало, приступы радости рвались из груди и хотелось плакать навзрыд о годах тяжких трудов, которые пришлось преодолеть, чтобы приблизить тот миг, когда смыслящий в искусстве человек произнесет, наконец, слова восхищения его картинами.
Огонь, с которым он когда-то приступал к занятиям живописью, разгорелся вновь. Его вновь охватила страсть, надежды возродились, и он начал всё сначала, работая ещё больше и исступлённее, чем прежде. Хелен производила на него тонизирующее действие, и простое общение с ней, казалось, укрепляло его решимость делать работу лучше. Он писал много и упорно, с утра до ночи, иногда даже за полночь, исключая лишь краткие перерывы на изучение старых мастеров: ставил потихоньку Вивальди и перелистывал страницы жизни, борьбы, неудач и размышлений о живописи. Он испытывал радость от созидания, его распирала гордость, он купался в ней, и пребывал в непрерывной горячке, и был глубоко счастлив. Вдруг обнаружилось, что дни слишком коротки, а ночи непомерно длинны. Его охватывало нетерпение от желания писать как можно больше, и он сократил время сна до трёх-четырёх часов и решил, что вполне может обходиться таким сном в течение нескольких дней, прежде чем от усталости и оплошностей, ведущих к глупым ошибкам, начнёт страдать качество. Затем всё-таки пришёл к выводу, что для восстановления сил, для пополнения внутреннего источника энергии нужен полноценный отдых. Когда же ночью, измотанный, добирался он до постели, его всё равно охватывало сожаление, и тогда под мерцающим оранжевым светом лампы он погружался в биографии мастеров, стремясь разгадать чужие тайны, и, не раздевшись, проваливался в сон.
Спал он обычно как убитый, но иногда издёрганные нервы насылали бессонницу, и тогда он метался и ворочался в темноте; погружаясь в забытьё, спал чутко, как кошка, потому что не мог не думать о работе, не мог остановить поток адреналина, который наполнял тело и в котором он почти тонул; не мог не говорить с самим собою, не мог унять возбуждения в своём мозгу и пожара в левой руке. И когда возбуждение достигало высшей точки и душа маялась и не находила покоя, к нему приходило понимание, что рядом не хватает Хелен, чтобы беседовать с ней до самого рассвета. Она, как бальзам, смогла бы успокоить его; она, пожалуй, единственная была способна тихонько заговорить его так, чтобы ему самому нечего было добавить, и тогда б он замолчал и, наконец, закрыл бы глаза и немного отдохнул.
В занятиях живописью ему очень был нужен совет Хелен, чтобы удостовериться, что его экспериментальный холст в изобразительном плане исполнен так, как он себе наметил.
В качестве справочного материала Эрик использовал фотографии. Работая над картиной, он просматривал десятки слайдов, которые делал с какого-нибудь определённого предмета: уточнял технические детали, не попавшие в наброски. То настроение, то колорит очередного фото привлекали его внимание; так, из наблюдений, складывались образные, отборные произведения. Он никогда не копировал фотографии. Просто не мог выдумать ничего менее увлекательного.
Тем не менее, в его работах перспектива находилась под большим влиянием фотографии, в которой он отдавал предпочтение определённым объективам. Ему нравился 18-мм сверхширокоугольный объектив своей чрезвычайной глубиной изображаемого пространства и панорамным углом зрения: это помогало рассматривать интересные композиционные возможности, остающиеся практически незамеченными без такого объектива; нравился 105-мм средний телеобъектив с эффектом "заваливания", который приближал и приподнимал задний план пейзажа, – он находил приятным такой эффект с эстетической точки зрения.
До самых последних минут работы над картиной Эрик оставался открытым для идей и вдохновения. Одни картины приносили радость, другие же превращались в нудную каторгу, отчего он терялся и не знал, какой выбрать путь, и потому расстраивался ещё сильнее, ибо не мог предугадать, каким будет выглядеть холст по окончании. Однако ни одна из картин не оставалась полной загадкой, потому что он всегда держал в голове её оригинальный замысел. И всегда, нащупывая свой путь, он сталкивался с неожиданностями. Подчас сюрпризы бывали восхитительны, подчас ужасны. Когда случалось нечто незапланированное, прежде всего он старался использовать это и изложить как часть общей композиции. Чаще всего так происходило, когда картина была почти закончена. Тогда оставалось либо решаться на существенные изменения всего содержания, либо тонким слоем наносить на холст разбавленные смывки. И пусть на картину потрачены сотни часов – он только скрипел зубами, вздыхал поглубже и принимал тяжёлое решение, потому что не боялся рискнуть картиной, вне зависимости от того, насколько близко продвинулась она к завершению. Он верил своей интуиции и чувствам и был беспощаден к своим сюжетам на любом этапе капитального труда. Иногда такие изменения на последних минутах удавались, иногда нет. Зачастую он просто взбалтывал накопившиеся за день смывки и выплёскивал из склянки прямо на картину, как бы уничтожая всё написанное. Затем маленькой губкой мягко распределял их по картине, чтобы усилить основной структурный смысл. Так создавался завершающий глянец.
Не раз и не два случалось ему разрушать работу, на которую ушли недели, и, чтобы начать всё сначала, бритвенным лезвием соскабливать масляные краски. Осторожное удаление слоёв краски, не повреждая исходной поверхности, требовало времени. Так он работал над картиной, так время от времени рисковал. И, освоившись с такой восстановительной работой, он уже редко терял холст, и не важно, насколько плохо тот был написан.
Эрик знал, что идеи его никогда не иссякнут. В мозгу всегда роилось больше картин, чем он мог написать. Работая над холстом, он обдумывал наперёд, что будет делать завтра, на следующей неделе или даже в следующем месяце. Он не мог представить жизни без рисования, без живописи. Он писал, потому что должен был это делать, потому что муки от того, что он не пишет, были сильнее мук творческих. Но такая тяга к живописи была приятна не всегда. На самом деле весьма часто она приносило боль и разочарование, но он научился мириться с этим и знал, что будет писать, покуда рука держит кисть.
Наступил срок – Хелен продала три картины, и на какое-то время отпала необходимость подрабатывать на рыбацких судах, кряхтеть и рыться в карманах в поисках гроша на покупку припасов для живописи. Но потом продаж не стало, и когда недели сложились в месяцы и деньги иссякли, он вернулся к рыбакам, мучимый вопросом, что делать, что пошло не так, и впервые за всё время в его вере образовалась брешь. Он не собирался до конца жизни вкалывать с рыбаками; его охватывала тревога при мысли о том, что ему, может быть, придётся в конечном итоге оставить жизнь художника, смириться с неудачей и, чтобы не протянуть ноги с голоду, вернуться к иллюстрациям.
"Но что если я не смогу вернуться, – говорил он себе, – что если зашёл слишком далеко, чтобы вернуться? Что если я слишком стар? Если поздно начал такую жизнь? Что если Хелен ошибается насчёт моих картин? И у меня нет способностей для такой работы? Как меня ни воротит от иллюстрирования, оно каждую неделю приносит зарплату, а деньги мне нужны. Деньги – вот к чему всё сводится – к деньгам для поддержания штанов.
Я мог бы заработать приличные деньги иллюстрациями, но какой в этом прок, если сердце моё к ним не лежит? Жизнь слишком коротка, чтобы становиться гнусным, жадным, честолюбивым сверх всякой меры сребролюбцем. Красота – единственная госпожа, которой стоит служить, это известно каждому нормальному художнику, ибо радость заключается не в финансовом успехе, но в самой работе. Но чтобы и красоте служить, и деньги зарабатывать, нужны опять-таки деньги, и потому не стоит упускать из виду бизнес от живописи. Я не против денег, – размышлял Эрик, – ни в коем случае. Заведутся деньги – чудесно, замечательно, они позволят мне вздохнуть, сделают жизнь комфортней, подарят свободу и выбор. Деньги означают, что можно заниматься живописью, не беспокоясь о хозяйстве и выживании в холостых промежутках. Но я живу здесь не для того, чтобы чеканить из красоты золотые монеты. Лишь скромный достаток хочу я извлечь из того, что делаю. Да, вот в чём суть: всё всегда сводится к сухому остатку – сколько? Вес и мера человека всегда сводится к этому. Я продаю свои картины за деньги, но деньги – всего лишь средство для достижения цели".
Он отправлялся к Хелен пытать её о своих промахах, и она заверяла его, что работы его на должном уровне, стали даже лучше, чем прежде. Что всему виной спад экономики и межсезонье, что скоро опять всё пойдёт на лад. Эрик потуже затягивал пояс и возвращался к рыбацким лодкам, и если не вытягивал ловушки с омарами, то подолгу рисовал.
Он изображал красоту так, как видел, из его кисти яростными потоками истекала энергия, неистребимое желание творить пришпоривало его, и он подгонял себя, упорно стремясь к чему-то недостижимому. Он заканчивал один холст за другим, работая с максимальной отдачей и почти без отдыха. И ругал себя за то, что пишет слишком быстро и не способен запечатлеть на холсте тот предмет, который изначально привлёк его внимание.
– Идиот! Ты должен учиться терпению! Нельзя слишком торопиться преуспеть, иначе удачи не видать. На хорошую живопись нужно и время потратить, и подумать надо хорошенько, и всё взвесить...
Случались периоды, когда казалось, что он откатывается назад.
– Ты что-то увидел, тебе захотелось это написать, ты попробовал – и не смог. Эта никудышная работа, ужасная, брось её. Смотри на вещи внимательней, изучай различия и особенности, иначе не постичь их сущность и красоту. Доверяй своим инстинктам, прислушивайся к своим ощущениям...
Наконец бизнес опять пошёл в гору, и его картины пришли в движение. Холсты выставлялись по высокой цене, однако большинство посетителей, пришедших на них полюбоваться, не могли отличить хорошего искусства от плохого, что, собственно, не было неожиданностью. Ведь это большинство складывалось из состоятельных людей Нью-Йорка и Бостона, отдыхавших на побережье: они просто высматривали местные сувениры для дома, вовсе не собираясь вкладывать в них капитал и отгораживаться ими от инфляции. Они выбирали картину за краски и изображённый на ней предмет, то есть скорее за то, будет ли она прилично смотреться в гостиной пентхауса или в летнем коттедже где-нибудь на Лонг-Айленде или Кейп-Коде, нежели за её художественные достоинства.
Эрик презирал их до кончиков волос, но ему хватало ума помалкивать об этом, когда он приходил в галерею поговорить с Хелен. "Невежественные богатые ублюдки, – размышлял он, – всегда выбирают самые плохие картины, и не важно, в какой галерее они их покупают, а бедняки, которые едва сводят концы с концами после уплаты по счетам, но которые понимают толк в искусстве и способны оценить полотно, никак не могут скопить деньжат на какое-нибудь приобретение".
Первую пару лет на острове, только овладевая основами живописи, Эрик любил писать суда, что швартовались в бухте или пробивались сквозь бурное море; любил писать исхлёстанные непогодой сваи пирса и омаровые верши и буйки, сложенные у старых сараев; штормовой прибой, бьющийся об окружающие остров утёсы; для разнообразия делал детально прорисованные "портреты" чаек, морских ястребов и парящих орлов; буревестников, крачек, гагарок и резвящихся на заваленных водорослями лежбищах тюленей. На третьем году он начал писать быстрей, кисть его приобрела силу и уверенность, и он обратился к исследованию окружающей жизни, ибо ничто так сильно не любил, как изображать драму человеческую, и видел её прежде всего в усилиях людей, с которыми жил бок о бок. Он изображал простые рыбацкие будни с их тяготами и обособленностью, страданиями и развлечениями, используя море и остров в качестве ненавязчивого фона для своих тем. Он выходил в море на рыбацких судах и делал зарисовки людей за работой: как тянут они сети и омаровые ловушки, как обветрены их губы, как исхлёстаны ветрами лица, как от тяжёлой работы и солёной воды растрескались и покраснели мясными консервами их грубые опухшие руки.
Эрик с глубоким сочувствием и пониманием относился к ближнему, это хорошо было видно по его картинам уходящих в море рыбаков. Дни, проведённые в море, напоминали ему старый фильм о рыбаках «Отважные капитаны», снятый по рассказу Киплинга о богатом повесе, которого жизнь заставила работать на промысловой шхуне в Новой Англии. «Работа на судах тяжела с непривычки, – думал Эрик, – но есть что-то благородное в тяжёлой работе до седьмого пота, и потому по ночам рыбаки всегда спят спокойно».
Он выходил на рыболовецких судах в море и, крепко стоя на широко расставленных ногах, рисовал людей, которые выбирали ловушки или втаскивали на палубу треску и сельдь, и, когда судно под ногами ходило ходуном, упивался жизнью. Бесновался ли северо-восточный ветер, море ли вставало на дыбы, вода ли хлестала по шпигатам, кипела и бурлила у ног, он смотрел на небо и думал: "Нет ничего лучше, здесь мы свободны, словно чайки..."
И он приходил в дома к рыбакам и рисовал их жён, хлопочущих по хозяйству. И старика со старухой, ужинающих рыбой с картошкой при керосиновой лампе. Старик своими руками выловил рыбу из моря, женщина накопала картошку в огороде, и его изумляла самодостаточность этих людей.
А в долгие зимние месяцы, когда на дворе почти всегда выли ветра, он писал людей, с которыми соединился и которых горячо полюбил, в их повседневных делах в магазине и на почте. И, сверяясь с альбомами, он перенёс на полотно и убранство своего незамысловатого жилища, и портрет Моряка, и обе картины оставил себе.
Он пристальней всматривался в лица прекрасных пожилых женщин, написанные Рембрандтом, лица несчастных женщин, обретших душу чрез многие скорби, и был уверен, что старому мастеру понравилось бы писать людей с острова Рождества.
У Рембрандта Эрик особенно любил автопортреты и ещё одну картину под названием "Сокольничий": её он считал его самым поэтическим произведением. Ему вообще нравились поздние работы Рембрандта, в них ярче всего проявились загадочные и трагические стороны характера, последние отражения на холсте одного из величайших классических романтиков. Пикассо называл Рембрандта "слоновым глазом", ибо чувствовал, как большие слоновые глаза Рембрандта следят за ним. Глаза Рембрандта – бездонные загадочные омуты, и Эрик ощущал близкое с ним родство. Порою он даже пробовал смотреть на мир глазами Рембрандта, и это помогало яснее понять чувства и переживания великого живописца.
Он трудился над тем, чтобы привнести темперамент и чувства в картины, изображающие рыбаков и рыбацкие семьи, людей, на чьи лица грубыми чертами легли страдания и тяготы полной бедности и трудов жизни, и он усиливал эти черты, чтобы выявить их красоту. В голову всё время приходили идеи новых картин, особенно по ночам, когда следовало бы спать: он поднимался с постели и делал отметки на будущее, чтобы впоследствии отразить эти соображения на холсте.
Что весь белый свет думает о нём и его картинах, не имело для Эрика никакого значения. Писал ли он хорошо или писал плохо, не представляло первостепенной важности, хотя всегда лучше писать хорошо. Но только живопись цементировала его как человека, из живописи он был слеплен, и он был счастлив сознанием этого факт. Ибо верил, что истинная ценность искусства заключается не в эстетическом или финансовом признании, но в выразительности, которую оно сообщает художнику. Даже если его работы не стоили ничего, он чувствовал, что будет счастливее и успешнее на острове с плохими картинами, которые никто не станет покупать, чем самым богатым маклером по недвижимости в Бутбэе. Если б удалось выразить себя полностью, написать всё, что теснится в душе, уже одно это оправдало бы его жизнь, оправдало бы трудности и голод, через которые сам заставил себя пройти. "Так же поступал и Рембрандт", – говорил он себе.
– Мера настойчивости и преданности человека своей идее – вот что важно, – сказал он однажды Хелен, – вовсе не качество его трудов, подмеченное чужими глазами. Если человек честен и держится правды, то качество в его живописи проявится, а вместе с ним, надеюсь, придут и деньги, чтобы жить и не быть загнанным кредиторами в могилу.
Но порой его мучили сомнения, что его работы недостаточно хороши и мысли его идут в неверном направлении, и тогда Хелен спешила утешить его.
– Художник должен заниматься тем, чем, по своему разумению, должен. Искусство – это призвание, самая естественная для него вещь на всём белом свете. Он ведёт обособленную, уединённую жизнь и должен чем-то поступиться, ведь его может не хватить на то, чтобы развлекаться, как его друзья, или заводить семью, как соседи. Он должен сделать для себя трудный выбор, потому что не может иметь всего сразу. Произнося "да" одному образу жизни, он тем самым говорит "нет" многим другим, ещё не испробованным.
Эрик, для неискушённого художника отказаться от жизни – это великий подвиг веры, и одним из признаков таланта является мужество совершить этот подвиг. Если нет мужества, ты проиграешь. Мужество – основа основ. Не следуй шаблонам. Ты не можешь быть уверенным во всём и всегда. Ты можешь только иметь мужество и силу делать то, что, по-твоему, правильно. Всё может оказаться ошибкой, но, по крайней мере, ты делал это – вот что, в конечном итоге, важно. Всё, что может художник, – следовать своим инстинктам, ощущениям и помыслам, а всё остальное оставь богу.
Принимай свою жизнь, как есть, постарайся не жить чужою жизнью. Работай сам по себе. Нельзя быть живописцем и работать сообща. Жизнь человеческая может быть чистым хаосом, но труд художника – единственное, чем он может заниматься, – состоит в том, чтобы взять эту путаницу и придать ей очертания, форму и значение, даже если это всего лишь его личный взгляд на вещи. Произведение искусства должно заканчиваться развязкой, должно давать тебе чувство примирения, катарсиса, очищения мыслей и воображения. И ты достигнешь этого, когда кончишь холст, который тебе кажется правильным и верным. Верь своей воле и интуиции. Когда случатся вспышки озарения и понимания, это будет означать, что твой мозг работает немного быстрее, чем обычный мозг. Картина начнёт складывать в твоей голове. Когда ты ясно её представишь, клади краски на холст и пиши. Научись доверять себе и тому, кАк ты видишь предметы и как чувствуешь. Совершенствуй свою технику. И помни: если потеряешь мужество изображать вещи так, как видишь их ты, ты не только потерпишь неудачу как художник, ты потерпишь неудачу как человек...
Вот что придавало ему силы идти вперёд, наперекор страху и отчаянию. Ему и в голову не приходило, что однажды он может лишиться руки...
ГЛАВА 9. «КРЕПКИЕ ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
«Верно, Старбек, верно, молодцы мои, это Моби Дик сбил мою мачту, Моби Дик поставил меня на этот безжизненный обрубок. Верно, верно! – И я буду преследовать его...»
Утром повидаться с Эриком к больнице подкатил Джо Бопп из полицейского участка. Ему было шестьдесят четыре года, тридцать два из которых он служил в полиции, и из них двадцать лет – в качестве начальника. Прямой, грубоватый патриот, он казался реликтом ушедшей эпохи, республиканцем стародавних времён, склонным принимать всяких хиппи, торговцев наркотиками и порнографией и прочих левых смутьянов за коммунистических лазутчиков, но то было его личным убеждением, которое он старался держать при себе. Во время Второй мировой войны он служил сержантом морской пехоты, имел «Серебряную звезду» и с гордостью считал себя хорошим копом, строгим ко всяким чужакам, в особенности к студентам колледжей, пересекавшим городок в сторону летних развлечений. Росту в нём было пять футов десять дюймов босиком, а вес превышал двести пятьдесят фунтов и уверенно стремился к трёмстам. Врачи предупреждали его, что из-за лишних пятидесяти фунтов он первый кандидат на инфаркт, но Джо обожал поесть и отшучивался, что ему не хватает каких-то трёх дюймов роста, чтобы не слыть толстяком, и господь ведает, это не его вина.
Входя в палату Эрика, он был одет как обычно: приспущенные штаны едва держались под большим брюхом; на офицерской портупее, висевшей, как у Джона Уэйна, на бёдрах, болтался револьвер, и безобразный галстук, словно пассатижами, был присобачен к изношенной белой рубашке золотой застёжкой.
– Ты, Крузо, на сей раз как будто угодил в большую кучу дерьма!
– Привет, Джо...
– Тебе сегодня лучше? Поговорим?
– Ты ко мне просто так пришёл?
– Нет, боюсь, по делу.
– Ну, блин...
– Эрик, здесь со мной Вермонт Джайлз из береговой охраны. Мы хотим знать, что с тобой там случилось, сынок...
Долговязый лейтенант Джайлз, в безукоризненно белой, хрустящей, словно со склада, униформе, с отчищенной пряжкой, в сияющих ботинках, сжимал в правой руке чёрный блокнот с ручкой и был нарочито вежлив.
– Простите, мистер Дэниелсон, – задал вопрос Джайлз, когда Эрик закончил свой рассказ, – как вы считаете, насколько велика была эта акула?
– Не знаю, трудно сказать, длиннее моей лодки, это точно, наверное, восемнадцать-двадцать футов.
– И вы полагаете, это была большая белая?
– Полагаю. Я не знаю других акул такой величины в этих водах...
– Время от времени рыбаки вылавливают у здешнего побережья довольно больших акул-молотов, не так ли?
– Здесь как-то выловили 18-футового молота, но эта акула не была молотом. Я знаю акул-молотов. Молотов ни с кем не спутаешь.
– Эрик всю жизнь живёт на берегу, – сказал Джо. – Если он говорит, что это была белая акула, то я ему верю.
– Белые акулы здесь редкость, – пояснил Эрик, – но они всё-таки заплывают сюда. Сколько лет уже поступают сообщения о нападениях белых акул на маленькие лодки вдоль всего побережья Мэна. Поднимите эти сообщения. Чёрт возьми, их видели даже у Новой Шотландии и Ньюфаундленда. Я не особо разбираюсь в акулах, но понимаю, что про белых акул всегда так говорят, где бы ни обнаружили.
– Это точно, – сказал Джо. – Я никогда сам не видел белой акулы, но у меня есть два парня, которых десять лет назад спасли возле острова Дамарискоув, у входа в бухту Бут-Бэй: тогда громадная белая напала на их яхту без всякого повода и почти потопила её. Рыбу больше не видели, она всплыла и исчезла. Но до чёртиков перепугала Томаса и Элвина, и после того случая они уже больше не заходили на яхте так далеко.
Джо выложил всё, что знал: в Новой Англии только один человек погиб из-за большой белой – 16-летний паренёк, купавшийся в бухте Баззардз-Бэй в штате Массачусетс в 1936-ом году.
– Канада тоже одного человека потеряла, у берегов Новой Шотландии, – добавил Эрик. – В 50-ых годах белая акула напала там на лодку. Я помню, когда я был мальчишкой, отец толковал об этом с рыбаками. Два омаролова вытаскивали ловушки при довольно приличном волнении возле острова Кейп-Бретон, и большая белая атаковала их дори. То же самое, что случилось со мной: она проломила несколько досок, лодка зачерпнула воды и стала потихоньку тонуть. Один человек утонул, другой цеплялся за лодку, пока его не спасли. Акула больше не нападала. Я думаю, она набрала полную пасть деревяшек и решила, что это не слишком вкусно. Но это была белая акула: следы от зубов, обнаруженные на обломках досок позднее, подтвердили это. Кто-то из морских биологов рассчитал, что она была двенадцати футов в длину и весила больше тысячи фунтов. Вот и мы получаем их время от времени...
– Как может такая большая акула быть активной в такой холодной воде? – спросил Джайлз. – Я думал, что акулы водятся в тёплых водах.
– Чушь какая-то, как думаешь? – сказал Джо, почёсывая в затылке.
– Я читал, что большая белая акула – теплокровная рыба, как акулы мако и сельдевые акулы, – ответил Эрик. – Она может поддерживать температура тела выше окружающей воды. Я думаю, именно поэтому их обнаруживают далеко в серверных широтах.
– Может быть, и так... – промолвил Джо.
– Я вам больше скажу. В будущем ожидается увеличение количества белых акул. Специалисты говорят, что раз тюленей взяли под защиту в этих водах, то станет больше белых акул, что, в свою очередь, будет означать, что нападения на лодки и людей участятся.
– Надо же... – буркнул Джо и бросил взгляд на Джайлза. – А тот траулер, что пропал два дня назад: вы, ребята, уже нашли ключ к загадке? Что с ним случилось?
– Пропал без следа, – ответил Джайлз. – Никакой радиосвязи после сигнала бедствия. Кто знает, но задувало тогда крепко...
– Интересно...
– Знаю, что вы думаете, шериф, возможно всё, что хотите, но суда исчезают бесследно постоянно.
– Конечно, конечно, я всего лишь...
– Они могли наскочить на риф, да всё что угодно... – продолжал Джайлз.
– Ты прав, совершенно прав... – ответил Джо.
– Оставьте траулер, но что вы собираетесь делать с акулой? – спросил Эрик, глядя на Джайлза.
– На этот счёт я не уверен, – ответил лейтенант, – но если в здешних водах завелась хищная акула, мы сделаем морякам предупреждение.
– Вот как? Это всё, что вы предпримете? Чёрт, Джайлз, да все рыбаки уже об этом знают. Слухи в море распространяются быстро.
– А вы как считаете, что нам делать?
– Выйти в море и уничтожить её... – сказал Эрик.
– Этим береговая охрана не занимается, мистер Дэниелсон.
– А окажись в этих водах русская подлодка, и пусть никого не трогала бы, это бы вас заинтересовало, а?
– Да, очень, но это совсем другое дело...
– Ну, так вот примерно таких действий нам бы хотелось от береговой охраны. Судно посылает SOS, а вы, ребята, всегда на день опаздываете и чуток не успеваете. Проку от вас, как от бычьего вымени. Скажи, Джо, как чувствует себя твоя жена? – сказал Эрик, отстраняясь от Джайлза едва заметным поворотом головы.