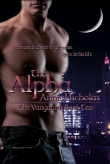Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА 8. «СТРАСТЬ ЖИВОПИСЦА»
"– Погляди на капитана Ахава, юноша, и ты увидишь, что у него только одна нога.
– Что вы хотите сказать, сэр? Разве второй ноги он лишился из-за кита?
– Из-за кита?! Подойди-ка поближе, юноша; эту ногу пожрал, изж е вал, сгрыз ужаснейший из кашалотов, когда-либо разносивших в щепки вельбот!"
Приехав на остров, Эрик устроился в хижине и принялся вкалывать не хуже рыбака. С лихорадочной поспешностью он наносил на холст роившиеся в голове образы и работал столь исступлённо, что работа захлёстывала его каким-то восхитительным безумием. Он перекладывал в краски мирок Финниганз-Харбора со всеми его красотами и недостатками. Подчас терпел неудачи, но неудачи лишь подогревали его старания и несли ощущение счастья от самой работы.
Поначалу чем больше он работал, тем сильней казалось, что ничего не получается, тем сильней одолевали сомнения, получится ли вообще когда-нибудь. И он отступал назад, всматривался в холст, качал головой и посмеивался.
– Плохо, но я напишу лучше. Всё-таки кое-что я сделал верно. Будет время – успех придёт, я продам картины и заработаю на жизнь.
В голове носились образы прекрасных полотен, виденных в музеях Бостона, Нью-Йорка и Чикаго. И ночью, опустошённый, в замызганной, пропитанной запахами красок и скипидара одежде он полз к постели и проваливался в глубокий, по-детски безмятежный сон.
К каждой картине он приступал полный пыла и чувств, дрожа кисточками от нетерпения, но, проснувшись поутру, когда наваждение творческого подъёма рассеивалось, приходил к выводу, что картина, казавшаяся с вечера такой чудесной, на самом деле не годится, никуда не годится, и он убирал её в сторону и всё начинал сначала.
Он обитал в таком же доме, как у рыбаков, ел такую же пищу и, благоденствуя в монашеском уединении острова, любя тишину и покой непотревоженной работы, стал одним из их числа.
Эрик жил одиноко. Его окружали рыбаки со своими жёнами, но не было никого, кому можно было бы довериться. Никого, кому он мог бы поведать о своих радостях и поражениях, с кем мог бы поделиться мечтами и замыслами. Он был до краёв наполнен образами картин, которые собирался писать, и тосковал по человеку, с которым можно было бы поговорить, по человеку, которому мог бы сообщить и о своей суровой жизни, и о своём медленно вызревающем мастерстве. Он пытался сохранять чувство юмора, способность посмеяться над собой, потому что был склонен относиться к себе слишком серьёзно и впадать в уныние, если дела с живописью шли неважно. Живя затворником, ему чуть ли не силой приходилось заставлять себя улыбаться, смеяться и легче воспринимать неприятности. От недоедания его часто мутило; когда за живописью прихватывал дождь и картина не продвигалась, появлялся сухой отрывистый кашель. Временами он впадал в безудержную ярость и ножом кромсал полотно на куски, о чём впоследствии сожалел. В работе Эрик был напряжён, как рояльная струна. Коснись его – будет вибрировать неделю.
Рыбакам, узнавшим его поближе, было любопытно, как рождаются картины, и когда он устанавливал этюдник на одной из пристаней, они пускались в рассуждения.
– Почему ты всегда рисуешь мёртвые вещи, Эрик Дэниелсон? – задал как-то Кэмден Пирс вопрос Эрику, рисующему штабель старых омаровых ловушек. – У нас тут хватает мёртвых вещей и без твоих художеств.
– Для тебя, может, они и мёртвые, – ответил он Кэмдену, – а мне кажутся живыми и красивыми, в них есть своя энергетика. Если б ты видел их так, как вижу я, ты бы понял...
Время шло, и ему страстно хотелось потолковать с кем-нибудь из галеристов о своих полотнах, уяснить для себя, что получается, а что не очень. Он знал, что делает ошибки, но был слишком поглощён работой, чтобы замечать их. Нужен был непредвзятый, критический, не ослеплённый творческой гордыней взгляд со стороны. Ему хотелось познакомиться с тем, как над подобными вещами работают другие, как справляются с техническими проблемами, над которыми бьётся он; хотелось найти в округе кого-нибудь ещё, кто видит и мыслит так же, как он.
Хотя и жил Эрик спартанцем, у него имелся стереомагнитофон последней марки, один из тех немногих предметов, которые он прихватил с собой на север из Нью-Йорка. Хорошая музыка была для него не менее важна, чем хорошие книги или хорошее искусство, – много разной музыки: поп, рок, кантри, блюз и – самое главное – классика, большая коллекция классической музыки, включая Моцарта, Бетховена, Штрауса, Чайковского и многих, многих других. Когда бы ни рисовал, он всегда слушал причудливые мелодии божественного Антонио Вивальди.
Он рисовал целыми днями и прихватывал часть ночи, а когда выдыхался, уже глубоко за полночь, при свете лампы, читал: вникал в произведения тех, кто добился успеха. Он стремился писать лучше, чем они. То, что делали они, однажды сделает и он; но настанет день, и он напишет так, как не писал никто.
Изучение работ художников напоминало ему о том восхитительном мгновении, когда он решил бросить работу и стать живописцем. Когда решил стать глазами, которыми будут смотреть люди, сердцем, которым они будут сопереживать, и духом, которым будут воспарять. Эта мысль пылала в нём несколько лет, прежде чем он решился. Живопись не шла ни в какое сравнение с иллюстрацией. Он был неплохим иллюстратором, но понимал, что предстоит немало потрудиться маслом, прежде чем стать хорошим художником. Он хотел писать сцены из жизни, а для этого необходимо было знать нечто большее, чем просто приёмы хорошего рисования; нужно было изучать литературу. Нужно было знать всё о костях, мышцах и сухожилиях, нужно было знать человеческую голову, сердце и душу. Чтобы изображать настоящую жизнь, он должен был понимать анатомию, мысли, чувства людей и тот мир, который он с ними делил. Если он не будет этого знать, искусство его будет поверхностным.
Он считал, что Америка по сути своей антихудожественна, что живописец становится врагом государства, если, подобно ему, выступает за индивидуальность и творчество – качества, вдруг ставшие антиамериканскими. "Америка сегодня, – думал он, – это сплошь механизмы, роботы и компьютеры".
Из тех, кто изводил молодых художников, никого не было хуже критиков. Критиков, которые когда-то хотели писать и даже пробовали писать, но, к несчастью, неудачно. Они ясно доказали свою неоригинальность, и, тем не менее, именно они брали на себя смелость судить об оригинальности – о пламени и одарённости, которых им не доставало. Заурядный искусствоведческий обзор, считал Эрик, противнее стакана мыльной воды, смешанной с рыбьим жиром. Всё же имелось несколько приличных критиков, разбирающихся в искусстве и умеющих говорить о нём, но встречались они крайне редко, как клыки динозавров.
– Ладно, – говорил он себе, – если не получится стать художником, тогда вот что: я всегда сгожусь в качестве искусствоведа – буду зарабатывать, строча разгромные обзоры.
Становление настоящего художника требует времени, и бСльшую часть этого времени вместо зарабатывания на жизнь предстоит потратить на овладение масляными красками, кистями и законами композиции, назад к иллюстрациям пути нет.
"Подготовившись и отточив технику, я создам хорошие картины, хорошие по-настоящему, – твердил он себе. – Но нельзя продавать картины до тех пор, пока я не буду готов. Сначала нужно обрести собственный стиль. Можно, конечно, некий стиль освоить, но в таком случае он будет искусственный, как маска. Рано или поздно мне придётся показать себя самого, а не прятаться за своими полотнами. На самом деле оттачивают не стиль. Нужно работать и оттачивать самого себя как художника, и тогда всё, что окажется на холсте, – плохо ли, хорошо ли – окажется моим".
Обладая богатым воображением, Эрик тянулся к реальности, которая подталкивала его изображать предметы известные; предметы же, которые он знал и любил в особенности, находились на побережье штата Мэн, где он вырос.
Ещё будучи зелёным подростком, Эрик уже считал себя художником, пусть не профессионалом, но человеком, серьёзно относящимся к искусству и желающим писать подобно другим художникам и тем зарабатывать свой хлеб... Детское любопытство влекло его к природе, все юные годы он рисовал и изучал птиц, животных и морских млекопитающих, водившихся по соседству с его домом в Джоунспорте. Его первой книгой, в пять лет купленной на деньги, отложенные на поездку с отцом в Бангор, стал том Джона Джеймса Одюбона "Птицы Америки".
В художественной школе он изучал творческую манеру Сезанна и вдохновлялся подходом французских живописцев к композиции. Он учился схватывать суть предмета. Он фокусировал внимание на какой-нибудь части природы, переходя от широко раскинувшейся дали к замысловатым жилкам древесного листа, и, глядя на всё это с абстрактной точки зрения, исследовал изгибы, и тоны, и контрасты, и краски, и формы, и перед ним вдруг открывалась широчайшая палитра возможностей. Вернувшись домой после первого учебного года, уже новыми глазами смотрел он на окружавшие его предметы: подмечал качество освещения, буйство растительности, даже текстуру и цвет водорослей и камней, оголявшихся во время отлива.
На следующий год он познакомился с импрессионизмом, кубизмом и абстрактным экспрессионизмом, впитывал из их стилей то, что больше всего интересовало, и пробовал применять в работе. Пытаясь воссоздать природу на полотне, он становился чрезвычайно избирателен, дабы каждый элемент на картине точно отвечал определённой цели. В школе он изучал работы Энди Уайета, но по-настоящему открыл его для себя, только перебравшись на остров. Его глубоко поражало вЗдение мира Уайетом – комбинация абстрактных форм и неотразимых образов реального мира, которые тот вносил в свои картины. Работы Уайета, которые он упорно изучал ночи напролёт, явились для него откровением.
Уайет был замечательным художником-абстракционистом, как в зеркале отображавшим окружающий мир. Хотя в школе Эрик обожал абстрактное искусство, работы Уайета показали ему, что современная предметно-изобразительная живопись способна выразить художественное воображение способами, о которых он раньше и не задумывался. Изучение этих работ дало ему свежее вЗдение, как даёт любое великое искусство, и помогло взглянуть на мир вокруг себя новыми глазами.
В какой-то миг и причалы, и омары, и рыбачьи лодки, и морские чайки, и деревья, и ограды, и люди острова Рождества обрели новые будоражащие качества. Он начал замечать предметы, которые всегда оставались на своих местах, но которых он раньше не видел. Для своих картин он обнаруживал темы, ранее не замеченные. И со временем оказалось, что он занимается новой формой реализма, о существовании которой не подозревал. Но за этим реализмом стояли основополагающие абстрактные формы, а ритмический рисунок был заимствован у методов кубизма. В пейзажах и дикая природа, и жилища представлялись им с равным скрупулёзным вниманием к мельчайшим деталям, пока полотна не наполнились отзвуками и взаимопроникновением рисунка, цвета и формы.
Он старался изображать разнообразные богатства побережья штата Мэн, где погода могла стоять ослепительно ясной, но чаще бывала насыщена туманами и моросью, где атмосфера напитана влагой: такие условия он находил удовлетворительными для искусства, ибо краски становились приглушёнными и создавали настроение, придавали воздуху вещественность и порождали иллюзию расстояния. Он вглядывался пристальней в такие простые вещи, как гниющие деревья, патина старых рыболовных баркасов, зазубренные камни, то появлявшиеся, то исчезавшие в приливных водах, и маленькие лужицы, которые оставляли после себя волны и в которых обильно кипела жизнь.
Как результат, его картины были точны и прекрасны. Они схватывали как суть предмета, так и его дух, и это делало его работу яркой и особенной, так разительно отличной от работ других живописцев в районе Бутбэя.
Он стремился к тому, чтобы достичь в своих полотнах равновесия между многообразием и гармонией, и обычно помещал объекты живой природы в среду их обитания, чтобы они сочетались с общей композицией. Его формы были составлены из чётких изгибов и прямых линий, и каждая форма совершенно согласовывалась с другой, так, чтобы ни одна из них не преобладала, но стала частью целого, и это было так не похоже на изображения дикой природы других художников. Он понял, что чем лучше разбирается в деталях острова, тем больше ценит то, что видит; что для того чтобы наслаждаться миром природы, следует узнавать больше предметов, распознавать наиболее тонкие отличия и особенности, а узнав, вносить в свою работу ещё больше деталей.
"Зачем изображать дерево одним-двумя штрихами, – рассуждал он, – если я могу нарисовать лучше, используя шесть сотен штрихов, могу показать, чтС это за дерево, показать строение и форму его листьев и коры?" Безусловно, это требовало бСльших усилий, но цель оправдывала средства, потому что он был последователен в желании писать лучше.
В первый год на острове он не пытался продавать свои работы. Но время шло, сбережения, которые когда-то казались значительными, таяли быстрее, чем предполагалось. Деньги на дополнительные расходы иссякли, еду пришлось занимать, а бСльшую часть своих средств тратить на цветную плёнку, альбомы для рисования, карандаши, краски, кисти и холсты. Всё это скорее усиливало, чем ослабляло его решимость писать хорошо.
Он зачитывался печальными романами, чтобы проникнуться тяжестью человеческой участи и черпать мужество из жизнеописаний живописцев. Он, например, узнал, что карьера Рембрандта была долгой и с финансовой точки зрения весьма тернистой, что художник всегда был голоден и в долгах.
Ещё жёстче жизнь обошлась с голландцем Винсентом Ван Гогом, жившим на подачки брата Тео, торговца картинами в Париже, тогдашней столице искусств. Но Тео лгал, говоря, что деньги поступают от продажи полотен Винсента.
За несколько месяцев до смерти, будучи очень больным, Винсент написал ослепительно-жёлтую картину "Подсолнухи". А потом, в 1890 году, в возрасте 37-ми лет, когда обнаружил, что квартира Тео забита его непроданными картинами, взял пистолет и застрелился.
"Бедный Винсент, – думал Эрик. – За десять лет работы он написал восемьсот картин и семьсот замечательных рисунков, но только один холст был продан при его жизни. А спустя девяносто семь лет после его смерти "Подсолнухи" ушли с аукциона в Лондоне за пятьдесят два миллиона долларов. Ещё одна картина была продана в Японии за восемьдесят миллионов".
Ещё до того как Эрик вернулся в Мэн прозябать нищим живописцем, знавшие его люди пророчили ему кончину от голодной смерти где-нибудь на чердаке, подобно многим художникам, что картины придётся продавать за бесценок для оплаты жилья и пищи. Предрекали, что, несмотря на кажущуюся романтику, на самом деле такая жизнь будет тяжела и невыносимо одинока.
Всё это он понимал. Он знал о романтических идеалах всё. Даже войну считал славным приключением до тех пор, пока не попал во Вьетнам и не столкнулся с жестокой правдой: что страх отнимает силы, что друзья гибнут, что храбрым быть трудно, что тела разлетаются на мелкие кусочки, что мёртвые тяжелы и что помимо смерти существует масса других неприятных вещей, которые могут случиться с человеком. Ему посчастливилось выжить. Он смог вернуться – постаревшим и опустошённым, не имеющим никого, с кем можно было бы поговорить о своей войне, но зато обладавшим боевым опытом, который кипел и бушевал в груди подобно страшной заразе, не обещавшей ни исцеления, ни освобождения.
Официально война для Эрика закончилась более двух десятилетий назад, но даже здесь он ловил себя на том, что вспоминает о ней каждый день. Коварная Зелёная Убивающая Машина, ловушки и мешки для трупов – война всегда была рядом: она завязла в ушах, ледяным узором отпечаталась в глазах, чарующая, как вертушка "Хьюи", романтичная, как шлюха, громкая, как пулемёт, далёкая, как Америка, бесконечно гоняющая в голове его один и тот же фильм – тысячи и тысячи раз.
Ему было известно, сколько прекрасных молодых художников теряет земля каждый год из-за бедности, невнимания, разочарования и злобных нападок критиков от искусства. Он не собирался пополнять ряды этих потерь.
Жизнь на острове начинал он свежим и упитанным, но год спустя доработался до того, что от него остались лишь кожа да кости, и дальше худеть было уже невозможно. Но тяжёлая работа и ещё более тяжёлые времена не сломили его дух и не остудили пыл. Про себя он решил стать несгибаемым, железным человеком. Несмотря на худобу и недоедание, на усталость в глазах, он дал себе слово, что преодолеет любое унижение, откажется от любого снисхождения, выдержит любые испытания, переживёт любой голод или что там ещё встанет у него на пути, лишь бы можно было писать. У него был опыт общения с людьми, которые утверждали, что страдания художнику необходимы, что человеку нестрадавшему сказать нечего, что художники лишь процветают от несчастий и боли, что если ты сидишь без пищи, разочарован и каждый пункт твой жизни сводится к безотрадной неразберихе, начиная интимной жизнью и кончая здоровьем и финансами, то на самом деле ты счастливчик. "Бедность сметает слабых, голод изгоняет слабонервных, – заявляли они, – оставляя настоящих художников – людей суровой внутренней силы и величественной цели – несломленными". Однако и во время войны, и во времена детства, проведённого в округе Вашингтон, Эрик досыта насмотрелся на голод и нищету, и потому отнюдь не считал, что художнику так будет лучше. "В конце концов, – напоминал он сам себе, – даже Святая Тереза говорила: "Я могу лучше молиться, когда мне хорошо" – и отказывалась надевать власяницу и морить себя голодом". С другой стороны, он понимал, что страдания – часть юдоли человеческой и что не так уж это плохо. Можно вырастить художника и из страданий.
В книгах же говорилось, что художники подчас много претерпевают за своё искусство. Некоторые стороны творческой натуры разрушительны, художник всегда имеет своего рода травму: он как по лезвию бритвы ступает между страстью к созиданию и одержимостью уничтожения, изображает из себя бога – играет роль, к которой виртуозно непригоден – и использует своё искусство в качестве терапии. Художник всегда оказывается скорее на грани беды, нежели на грани величия. Такова его стихия, как у рыбы – вода.
В сердце человеческом есть уголки, которые не могут существовать без боли. Боль может стать для художника путём к просветлению и очищению. Но она же может унизить его. В полной мере... и уничтожить.
Мысль о росте, приходящем из страданий, хорошо выразил французский экзистенциалист Альбер Камю, когда писал: «И средь зимы я обрёл в себе неукротимое лето».
Художники – это не земные существа, добивающиеся духовности, чтобы писать, но существа духовные, бредущие по долгому, болезненному пути в себя, в свои тени, в сокровеннейшие тайники своего разума, по пути, ведущему к самоприятию. Каждый уникален, неповторим, отличен на свете от всякого, кто когда-либо жил или будет жить. Ибо картины их, словно отпечатки пальцев, отличают одного от другого.
В своём искусстве познали они свободу, – свободу стать теми, кто они есть, а не теми, кем сами себя считают. Стать воистину самим собой, а не марионеточным "я", создаваемым как буфер от мира сего.
Отчасти художники подобны машинам, стремящимся стать людьми; процесс становления человеком есть процесс становления личностью. Многими людьми процесс этот так и не завершён. Некоторые и вовсе недалеко ушли: даже в старости остаются подобны роботам, привязаны к культуре и – символически – к родительским юбкам, живут старыми, изношенными ценностями, ожиданиями и внутренними установками, коих придерживались ещё их отцы, и отцы их отцов – и так дальше, насколько можно вспомнить. Конечно, бывали такие, что бунтовали и полагали, что уж они-то из другого теста. Но только дурачили самих себя.
Некоторые художники страдали ужасно и не умели скрывать свой душевный багаж. Свои невидимые раны, мучительные раны, раны, лишавшие сил и воли.
То была не такая боль, не такая рана, которая ноет, то была неспособность дать выход своим неудобным чувствам. Слишком часто эмоции удерживались под замком, взаперти в личном ящике Пандоры – в тёмном месте, где они томились и терзали, обращая гнев в обиду, которая ширится и взрывается, как бомба.
С незапамятных времён каждое полотно являло собой автопортрет, берущий начало в мозгах художника, которыми он думает, в сердце, которым он верит, в глазах, которыми он видит, в ушах, которыми слышит, в кишках, которыми чувствует агонию и экстаз жизни, и в сексуальности, с которой он переносит похоть и страсть, одержимость и нужду.
Нет ничего, что художник писать обязан, исключая лишь того, кем он пришёл быть в этот мир. И он обязан потратить жизнь, твердя себе "я есть, я могу, я буду...", постоянно стремясь и стараясь кем-либо стать. Однако акт становления требует уединения.
Эрик был одиночкой, не таким парнем, которому для работы и поддержания уверенность в себе требуется общение с другими живописцами, особенно с теми второсортными прихлебателями и неудачниками, что заполняли Бутбэй каждое лето ради "великолепного освещения" и «моря, что отражает всё вокруг», но лишь проводили время в пабах и пивнушках в распитии напитков и болтовне о живописи чаще, чем в непосредственных занятиях ею.
"Человек может заниматься живописью или болтать о живописи, – говорил он себе, – но лишь немногие могут делать и то, и другое одинаково хорошо".
Во всяком случае, он не считал, что может чему-нибудь научиться у других художников. Эрик был таким человеком, который больше интересовался искусством, чем художниками, хотя, казалось, теперь на побережье было столько же профессиональных ремесленников, сколько и ловцов омаров: художников всех мастей, начиная с воскресных любителей и кончая такими выдающимися живописцами, как Джейми Уайет, который работал на острове Монхеган – груде скал к северу от острова Рождества – и выставлял свои полотна в новом крыле Музея изобразительных искусств в Портленде.
Много времени тратилось им на изучение чужих работ, на разбор того, что изображали состоявшиеся художники; каждую неделю по многу часов он критически изучал их работу и сравнивал с собственной, с изумлением размышляя о секрете, что позволил им продавать свои картины и быть признанными.
В районе залива Бутбэй и ещё дальше – на острове Монхеган – круглый год проживало свыше ста художников, поэтому всякий раз, как он появлялся в городе, он пытался обойти картинные галереи: "Синий омар", "Дом из кирпича", "Скряга" и так далее – и взглянуть на их новые полотна.
Как-то раз он уехал на целый месяц и посетил все галереи Портленда, Бостона и Нью-Йорка, чтобы ознакомиться с выставочными работами. И был потрясён обилием мёртвых картин. В них не было ни света, ни жизни, ни красок, и – самое скверное – они были отмечены проклятием посредственности. И, тем не менее, их покупали.
Вокруг столько прекрасного – пиши не хочу, но сколько же картин попахивали общими местами и отсутствием жизненности! Он видел холсты, которые были безупречно скомпонованы и прописаны, но нагоняли страшную тоску, потому что не давали пищи его сердцу и возбуждения его мозгу. Они были просто "фактами". Он ненавидел надуманность, дешёвку и банальность в искусстве, в особенности, если это имело коммерческий успех. Он видел, как много очень плохих картин продавалось людям с самым дурным вкусом.
"Нельзя путать упорный труд с умением обращаться с кистью, – твердил он себе. – Мои работы уже лучше этих, гораздо лучше. Мои работы правдивее и глубже. Глянь-ка на то полотно! Всё, что оно выражает, – сама очевидность; в конечном итоге, всё, что художник сделал – только нарисовал приятную картинку. Ни замысла, ни мысли, ни выбора – он не сказал ничего".
"Живописец должен следовать красоте так, как её понимает, – размышлял Эрик, – но только очень поверхностный художник может понимать её как приятную картинку. Красота должна быть чем-то реальным, тем, что обладает вещественностью и эмоциональной глубиной. Художник мог бы попытаться преувеличить значение предмета, который выбрал, преуменьшить его банальность, оставить в нём неопределённость. Но эта картина – просто зеркальное отражение и ничуть не лучше фотографии или открытки. Она полна факта, да, но куда подевались настроение и чувства, где дух? Она мертва, как дохлая чёрная кошка".
Как же много картин были просто упражнениями в иллюстрации, а не искусством! Зачем их выставляли владельцы галерей? Зачем хвалили критики? Зачем вообще продавали такие картины?
Он продолжал выискивать и рыскал по выставкам, разговаривал с владельцами и хранителями галерей, но изо дня в день сталкивался с одним и тем же, независимо от того, где бывал. Предмет картин – скучен и пошл. Композиция неверна. Выбор красок беден, художникам не хватает внутреннего замысла. Огромное количество картин отличалось тривиальностью и отсутствием какой-либо оригинальности. Картинам не хватало действия и интриги – многим картинам, сотням картин. Модные, с выкрутасами, с технической и художественной точек зрения написаны они были скверно. Полотна были сумбурны, словно художники были неуверенны в том, что изображали и что пытались сказать. Кое-кто из живописцев настолько заблудился в своей работе, что не мог указать, когда картина была написана. Очевидно, до того как художник начал выдавливать краски, первоначальный замысел ещё не сформировался в его мозгу.
Он замечал, что небо изображалось слишком тёмным: оно не сообщало предмету изображения ни ощущения пространства, ни равновесия. И что самое грустное, некоторые картины выглядели так, будто были написаны художниками, никогда не учившимися своему ремеслу, которые даже не знали, как рисовать. Фигуры были несоразмерны и не имели пространственной перспективы, хотя было ясно, что в намерения художника это не входило.
Многие работы были совсем уж третьеразрядны. Наверное, владельцы галерей боялись жизни, боялись природы, страшились красоты и реализма. Какие же люди покупали подобную жуть от искусства?
Но не всё было настолько плохо. Попадались и очень хорошие работы. Несколько художников писали исключительные картины, и у всех у них Эрик чему-нибудь научился. Даже позаимствовал некоторые идеи для собственных полотен.
Он возвращался на остров и снова окунался в работу, прокладывая свой путь в темноте, без ободрения и конструктивной критики. И каждая миновавшая неделя приближала его к краху, потому что сбережения подходили к концу, нужно было что-то есть и покупать художественные принадлежности, а он ещё не был готов показывать кому-нибудь свои работы.
Островитяне уже всерьёз полагали, что глупость его перешла в безумие, а он всё писал и писал, следуя за мечтой. Он верил в себя и был одинок в своей вере. В голове засела мысль, сможет ли он вообще когда-нибудь отточить свою технику и сколько ещё придётся голодать, прежде чем картины станут настолько совершенны, что можно будет их выставлять, и продавать, и жить на этот, пусть скромный, доход. Он дошёл до того, что за четыре дня не взял в рот ни крошки, зато ни дня не обходился без того, чтобы не выдавить краски на палитру. Он мог бы перехватывать у соседей треску, чтобы хоть что-то положить на стол, но был слишком горд. И упрям. И твердолоб. И он продолжал свой путь, отказывая себе в самом необходимом и надеясь, что успех уже не за горами, и одновременно чувствуя себя крайне одиноким, более, чем за всю свою предыдущую жизнь.
Наконец, он дошёл до точки, когда больше нельзя было писать без пищи. Тогда он обратился к верным рыбакам с просьбой при случае подменить их у разделочного стола или на палубе, если тем вдруг понадобится свободный день, и это принесло ему достаточно средств, чтобы не умереть голодной смертью.
На второй год пребывания на острове его работа начала обретать живость, ритм и страсть, которых не хватало раньше; тогда он решил, что наступил подходящий момент, чтобы полотна оценили острым, критическим взглядом.
Во время одной из поездок в Бутбэй за принадлежностями для живописи он познакомился с Хелен, владелицей галерей в Бутбэе и Бар-Харборе.
Он удивительно не гармонировал с роскошью галереи, в которой очутился. Длинные светлые волосы спутаны ветром, старая, пропахшая морем одежда: джинсы, заляпанный красками свитер со скрывающим шею воротником, связанный матерью, когда он ещё учился в школе, да высокие, скатанные вниз резиновые сапоги. Эрик обходил галерею бесстрастно, но зорко примечая каждую деталь зала и висевших по стенам картин в дорогих рамах. Его занимала мысль, будут ли его полотна висеть когда-нибудь в такой же галерее – во дворце искусства, где ими будут восхищаться и покупать. Пусть сейчас это неисполнимо, но он должен стремиться к этому, он должен знать, что его работы достаточно хороши для показа.
Выставка была устроена роскошно и со вкусом: толстые ковры, богатые драпировки, отделанные тёмным деревом стены и хороший свет, падавший на каждую картину, снабжённую непременным ценником. По углам – расставлены старинные стулья, чтобы клиенты могли сидя любоваться конкретным полотном: стулья помогали принимать решения о покупке.
Эрик приблизился к одной из картин, в деталях изображавшей рыбную пристань на острове Монхеган. Художник наполнил небо штормовыми тучами, подсвеченными закатным солнцем. В бухте толпились рыбацкие судёнышки, а на выходе из неё тяжёлый прибой бился о высокий гранитный утёс.
– Вам нравится? – подходя, спросила Хелен: она заметила, как тщательно он рассматривает полотно.
– Неплохо. Мне не нравится, какие краски он использовал вот здесь, но композиция хороша, он правильно распределил солнце, тучи и тени. Хотя, мне кажется, всё-таки не хватает глубины и уверенности...
Эрик повернул голову, заглянул в глаза Хелен и – загляделся. Она улыбнулась в ответ и засмеялась, и при звуках быстрого, лёгкого смеха участился его пульс, сердце забилось и восхитительный трепет возбуждения прокатился по спине. Глубоко посаженные глаза Эрика, глаза цвета глетчерных льдов, одновременно притягивающие и проницательные, пронзили её, и она ощутила себя беспомощной и обнажённой, и щёки её стыдливо порозовели. Никогда ещё не смотрела она в такие добрые, нежные глаза, полные дивной чуткости и власти. Видимо, перед ней стоял человек, способный исполнить всё, что решил.
– Вы живёте в Бутбэе? – спросила она.
– Нет, я житель острова Рождества.
– Вы рыбак?
– Художник.