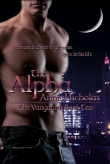Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Саре хотелось детей, Эрику – нет. Он объяснял это тем, что важнейшая цель его жизни – стать хорошим художником, что хочет накопить достаточно средств, чтобы оставить работу и перебраться назад в Мэн, где можно было бы работать, не оглядываясь на коммерческую необходимость. Он говорил, что вряд ли у него получится одновременно поднимать семью и посвящать себя искусству так, как он для себя наметил, что любовь к детям отнимет слишком много творческой энергии и на живопись её уже не хватит. И, кроме того, добавлял он, могут пройти годы, прежде чем он станет достаточно успешным и сможет позволить себе детей. Что так было бы нечестно по отношению к ним обоим. Он говорил, что не хочет детей, чтобы остаток жизни не задаваться вопросом "что было бы, если бы..."
Сара яростно возражала, и в ответ он орал на неё.
– Как ты не поймёшь своей тупой башкой? Живопись, Сара, для меня всё. Она всегда будет важнее, чем хороший дом на приличной улице в пригороде, чем микроавтобус с двумя или четырьмя визжащими сопляками! Прости, но так уж выходит...
– Мне не следовало выходить за тебя замуж.
– Ты права, мы сделали ошибку, большую ошибку...
– Я всегда хотела услышать топот маленьких ножек...
– Ты мне никогда не говорила об этом.
– Да, я должна была сказать.
– Сейчас уже поздно.
– Я предполагала, Эрик. Я думала, каждый нормальный мужчина хочет детей.
– Я не хочу.
– Вижу...
– Сара, мы уже всё обсудили раньше, продолжать бессмысленно. Ты знаешь, что я чувствую, что думаю...
У Эрика были неприятности и в газете. Ему не нравилась работа, он с трудом подчинялся чужим приказам, опаздывал по утрам, часто пререкался с коллегами и плодотворно работал только над теми проектами, которые хоть чуть-чуть были ему интересны. Днём он засматривался в окно, витал в облаках и жалел о том, что не сидит где-нибудь в другом месте. И что всего хуже, он всегда спорил с художественным руководителем Биллом Дэнфортом по поводу иллюстраций, и споры часто заканчивались громкими скандалами, так что весь офис таращился на них во все глаза.
– Ты работаешь недостаточно споро, – пенял ему Дэнфорт. – Разве тебе не нравится твоя работа? Тебе плохо здесь, с нами?
– Билл, послушай, остынь, у меня проблемы...
– Вьетнам даёт о себе знать или дома беда?
– Перестань...
– Или, может быть, лучше вернуться в Мэн и мастерить с отцом рыбачьи лодки?
– Билл, эта работа – не моя карьера, она всего лишь трамплин. Просто в будущем я хочу завести свою собственную студию и писать для себя.
– Художником хочешь стать, да? – поддразнивал Билл.
– Билл, засунь в жопу свой сарказм!
Дэнфорт ухмылялся.
– Послушай, Билл, буду с тобой откровенен. Я ищу и не нахожу, пробиваюсь и стараюсь, как только могу. Я пишу по ночам и, если удаётся, по выходным. Я ещё не продал ни одной картины и даже не пытался продавать. Я не претендую на то, чтоб знать об искусстве всё, что должно знать, вовсе нет, я просто ищу ответы на мои вопросы. Я ищу, учусь и экспериментирую. Это поиск, и я всего лишь пилигрим на этом пути, неужели это так трудно понять?
– Сдаётся мне, ты хочешь вернуться в леса Мэна, к идиллической жизнь в союзе с природой, подобно Торо, чтобы создавать великие шедевры...
– Какого чёрта ты донимаешь меня? Кто тебя обидел? Что сделало тебя таким циником?
– Ты хороший парень, Дэниелсон, но тебе нужно навести порядок в мозгах. Стань реалистом. Художником тебе никогда не заработать таких денег, какие ты зарабатываешь здесь. Боже, да ты хоть представляешь себе, сколько сегодня в мире голодных художников?
– Нет. Назови хоть одного...
– Тот орёл видит дальше, который летает выше.
– И ты полагаешь, ты и есть тот орёл, да?
– Здесь я начальник, Дэниелсон, не забывай.
– Билл, знаешь, в чём разница между нами? На жизненном пути ты отказался от своей мечты. И сейчас делаешь то, что делать должен. А я делаю то, что хочу...
Охваченный мрачным настроением, – а такое случалось нередко, – Эрик почти не общался с коллегами, его молчание принимали за презрение, поэтому работавшие с ним бок о бок люди чувствовали себя неуверенно и неуютно. В то же самое время Сара становилась всё больше и больше психически неуравновешенной. Однажды Эрик позвонил ей и сказал, что задержится в офисе с клиентом и вряд ли появится дома раньше полуночи; и Сара отправилась на ужин к своим родителям, в трёх кварталах от дома.
Матери её за два дня до этого прооперировали катаракту – удалили хрусталик из правого глаза, а нужно было купить кое-какие продукты. Тёща не могла сама вести машину, так как повязку с глаза ещё не сняли, поэтому Сара вызвалась подвезти её в город.
Почему-то Сара глупо повздорила с матерью из-за того, какой суп лучше подходит к поджаренным сырным сэндвичам. Мать хотела купить томатный суп-пюре, Сара же настаивала на грибном. Ни одна из них не хотела уступить, и очень скоро, слово за слово, вспыхнула ссора. Они орали друг на друга. Сара выбила томатный суп из рук матери, и тот покатился по полу. Рут Лэтроп ударила дочь по лицу, Сара вцепилась матери в волосы; через несколько мгновений две женщины уже серьёзно скандалили в седьмом проходе возле холодильных прилавков с мясом.
Сара рвала на матери блузку и плевала ей в лицо. Рут Лэтроп била дочери в голень острыми, как стилеты, каблуками; они схватились друг с другом и свалились на пол, лупцуя и царапаясь, выдавливая глаза и кусаясь, впиваясь друг в друга ногтями, вырывая волосы и визжа что есть мочи – словом, дрались, как две кошки в мешке. Управляющий магазином Эбенезер Конклин сунулся было разнимать, но ему тут же сорвали паричок и поддали коленкой в пах, и тот, стеная и держась за промежность, заковылял в свой кабинет вызывать на место битвы полицию. Саре удалось оседлать мать, и она била её крепко сжатым кулаком, норовя попасть в забинтованный глаз, словно отбивала жёсткий кусок бифштекса. Исцарапанные лица обеих женщин залило кровью. Рут Лэтроп потеряла вставную челюсть и молила о пощаде, но Сара не собиралась являть милость и, сорвав с матери лифчик, перебросила его через прилавок в шестой проход, к консервированным персикам.
– Остановись, прошу! Чёрт тебя дери! – вопила Рут Лэтроп.
– Как тебе это нравится? – передразнивала Сара.
– Кто-нибудь, прошу, помогите...
– В чём дело, мама дорогая?
– Сумасшедшая, чудовище!
– Кому теперь должно быть стыдно, мамуля?
Сара ещё пару раз въехала в больной глаз.
– Пусти! Пусти! Мой глаз, о боже, мой глаз!
– Агушеньки-агу! – улыбалась Сара, обнажив стиснутые белые, как рояльные клавиши, зубы, и хваталась за большую материнскую грудь.
– Отстань от меня; кто-нибудь, помогите; полиция... – хрипела мать.
– Драть тебя, старая сука! – крикнула Сара и снова плюнула матери в лицо. – Ненавижу тебя. И всегда ненавидела. Ты не настоящая моя мать! Ты удочерила меня! Меня тошнит от тебя! Я ненавидела тебя всю жизнь! О, ты не представляешь, как же я тебя ненавижу! Всё детство я хотела прикончить тебя, ты знала об этом, ты, жирная тупая старая сука?
Мужчины в торговом зале почтительно держались в стороне, засунув руки в карманы и нацепив на физиономии ухмылки, и не делали ни малейших попыток вмешаться; они были и ошеломлены, и возбуждены одновременно, и, если по чести, следовало признать, что стычка нравилась им несколько больше, чем "чуть-чуть". Не каждый день насладишься кошачьим боем, в котором две женщины рвут друг друга на куски прямо посреди универмага.
В конце концов, две немолодые неряшливые матроны схватили брыкающуюся и шипящую Сару в охапку и оттащили в пятый отдел. Эбби Конклин теперь тоже лишь смотрел на стычку со стороны; он накинул фартук кассира на голую мамашину грудь и подобрал её челюсть. Рут Лэтроп лежала на полу и стонала вплоть до появления полиция. Но к тому времени делать полиции было уже нечего. Сражение кончилось.
Побеседовав с обеими женщинами, полицейские решили не выдвигать никаких обвинений. Они вызвали скорую, чтобы отвезти Рут Лэтроп в больницу и показать её глаз доктору. Сара же немедленно прыгнула в свой "форд" и помчалась к родительскому дому. Её по-прежнему обуревала неистовая ярость. Она притормозила на стриженой лужайке, перпендикулярной улице, рыкнула движком, воткнула передачу и утопила до пола педаль газа.
– ПОЕХАЛИ! – крикнула она, вгрызаясь задними колёсами в почву и размётывая в стороны куски дёрна. На скорости свыше 20-ти миль в час она бросила автомобиль в дом, пробила кирпичную стену и большое окно и остановилась на полкорпуса в гостиной. Она вышла из машины, выбралась из пролома и, брызжа слюной, истерично завопила. Что укокошит обоих родителей, если те не перепишут на неё всё своё имущество.
– ОТДАЙТЕ МОИ ДЕНЬГИ! ОТДАЙТЕ МОИ ДЕНЬГИ! ОТДАЙТЕ МОИ ГРЁБАНЫЕ ДЕНЬГИ! – бушевала она.
В момент вторжения её отец, за год до этого разбитый параличом, сидел на кухне в кресле-каталке. Он брякнул было ей покинуть дом и вообще уйти из его жизни, но его скрутил кашель: он захрипел, стал давиться и задыхаться, долго не мог отдышаться, и его охватила паника. Сара откатила его в хозяйскую спальню, впихнула в пустой шкаф, захлопнула за ним дверцу и отправилась бродить по дому, подобно безумному вандалу: переворачивала мебель, кромсала ножом шторы, красным китайским спреем писала на дверях короткие энергичные слова, крушила окна, шинковала дорогие платья и нижнее бельё матери фестонными ножницами, рыскала по ящикам в поисках наличности.
Изрядно потешив душеньку, она ушла домой, собрала чемодан, взяла "бьюик скайларк" Эрика и с прихваченными деньгами, – суммой в 2347 долларов, по заверениям родителей, – укатила на месяц в Сан-Франциско к однокласснице, трудившейся на поприще проституции. Но, даже остыв и придя в себя, идиоткой быть не перестала.
Родители её впоследствии не требовали возмещения ущерба. Боялись, что доченька настолько полоумна, что может их прикончить. Они заявили Эрику, что больше не хотят её видеть.
Миновал месяц. Однажды вечером Эрик вернулся домой и застукал Сару в постели с продавцом подержанных автомобилей.
– Я проверяла новую теорию свободной любви, прочитала в "Космополитан", – оправдывалась она, в то время как мужик, вывалившись из постели, натягивал дешёвые синтетические трусы и испарялся через заднюю дверь.
Чаша переполнилась. На следующий день Эрик уложил чемодан, перебрался в мотель и снял помещение под студию.
Сара была змеёй подколодной, пулемётом, шахматистом и копом в одном лице. Самой жалкой запутавшейся женщиной, которую он когда-либо знал. Казалось, всё цепляло и раздражало её, отчего она рычала и кусалась; склочная и бесстыдная, умная и хитрая, она наполнялась желчью и мщением к каждому, кто хоть как-то, вольно или невольно, посмел насолить ей. И она была злопамятна.
Год спустя они развелись. После раздела имущества и оплаты услуг адвокатов денег оставалось немного, и потому Эрик решил, что пришло время перемен. Он бросил работу в "Дейли Ньюс", переехал в Нью-Йорк и поступил иллюстратором в один из местных журналов.
Годы, прожитые с Сарой, оказались бессмыслицей. Слишком они были разными, с разными ценностями, несовместимыми темпераментами, различным жизненным опытом, и хотели они разного и не могли поэтому делиться друг с другом ни своими мечтами, ни желаниями – ничем.
Даже секс не приносил им радости. Хотя был весьма яростен. Каждую ночь они боролись и катались по кровати, определяя между собой доминирующее дикое животное. Сара уподоблялась большой кошке, и лечь с нею в постель означало для Эрика получить исполосованную ногтями спину; на другой день случалось так, что неудачными движениями тела корочка с ран срывалась, и раны кровоточили, и кровь предательскими пятнами просачивалась сквозь белую рубашку, и тогда всем становилось ясно, как он провёл предыдущую ночь, и со всех сторон сыпались многозначительные комментарии.
И, напоследок, между ними никогда не возникало доверительности. Они могли бы вообще не общаться друг с другом. В жизни не был он так одинок и разочарован, как в браке с Сарой. Посему переезд в Нью-Йорк и возможность начать жизнь по-новому принесли ему огромное облегчение.
Однако, добрая часть его существа сожалела о разводе. Эта часть чётко представляла себе всю опрометчивость решения вступить с нею в брак и воспринимала развод как большую жизненную неудачу. А он ненавидел неудачи любого сорта. Так, сегодня за крутой поворот событий он возлагал вину на себя, а завтра – на неё. Ему было трудно смириться с той правдой, что они не подошли друг другу. Что она будила в нём скорее тёмное начало, чем светлое, а он, несомненно, возбуждал в ней всё только самое худшее. Хотя событие это оказалось не столь трагичным, как могло бы статься. Во всяком случае, они не обзавелись детьми. Он не мог представить себе Сару в качестве матери. Со всеми своими проблемами Сара никогда бы не стала хорошей матерью. Она слишком была поглощена собой, чтобы отвлекаться на других. Стало быть, он изводил себя, твердя, что ему не везёт в любви, не удаются отношения, и что, возможно, самое лучшее было бы на какое-то время вообще воздержаться от привязанностей и постараться скопить хоть немного денег.
Потом Сара снилась ему часто. В снах она всегда оборачивалась несчастной женщиной, этакой стареющей моделью с плаката "Марша даймов"; её хилые ноги стягивали стальные скобы. Будто бы они встретились на вечеринке, и звон её скоб – ДЗИНЬ-ДЗИНЬ-ДЗИНЬ – разливался по всему залу и выводил его из себя. Она звенела в отдалении, словно хищник, преследуя его и подкрадываясь; он видел её в старом изношенном платье и истёртых шерстяных перчатках без пальцев, и всякий раз, делая медленный, неуверенный шаг с великой, но целеустремлённой осторожностью, она отклонялась всем телом назад.
– Ты мой муж, – произносила она и протягивала руки известным жестом попрошаек; жестом, который встречал его в Сайгоне и по всему Южному Вьетнаму, где только бывал. – Ты должен дать мне денег на лечение...
– Нет, – отвечал он, – я больше не твой муж. Я твой бывший муж, разве ты не помнишь? Мы разведены. Убирайся, оставь меня в покое, перестань меня преследовать, Сара! Держись подальше от моей жизни...
– Ты мой муж и должен заботиться обо мне, – бубнила она. И, полный чувства вины и сострадания, Эрик лез в кошелёк, вынимал пять стодолларовых банкнот и подавал ей, только чтобы она исчезла и бросила таскаться за ним по пятам.
Ему по-прежнему было неспокойно. Ему не было покоя со времён возвращения с войны, и в Нью-Йорке беспокойство только усилилось. Казалось, он ищет себя и не находит. В квартире на Манхэттене он писал пейзажи по ночам, а на выходные уезжал к берегам Лонг-Айленда, но нынешняя работа – он чувствовал – высасывала из него почти все творческие соки. Суета и шум Нью-Йорка изматывали и душили его. Временами его охватывало оцепенение, он чувствовал, что его словно обложили со всех сторон и, казалось, нигде нельзя глотнуть свежего воздуха – ни физически, ни эмоционально. И дух его погибал от плесени противоречий и недостатка свободы.
Тогда, спустя десять лет после армии, голову наконец-то посетила мысль, что от его услуг нет пользы ни ему, ни журналу. Что если хочется вырваться, действовать нужно незамедлительно. На дворе стоял 1981-ый год, ему было тридцать четыре года. Он больше не мог откладывать свою мечту. Здесь он задыхался. Он понял, что должен вернуться на берега штата Мэн.
Итак, он бросил работу, поменял новую машину на старенький грузовичок-пикап, снял все свои сбережения с банковского счёта, продал, что у него там оставалось из мебели, упаковал вещи и выехал в Бутбэй, чтобы навсегда выбросить из головы жизнь по стандартам среднего класса и полностью посвятить себя изображению тех предметов, которые ему всегда хотелось изображать.
Он и представить себе не мог, что это окажется так легко.
ГЛАВА 12. «КУРОРТНИКИ»
"– Ну, нет... благодарю покорно, – отозвался английский капитан. – Пусть угощается на здоровье той рукой, что ему досталась, раз уж тут все равно возражать бесполезно, ведь я тогда не знал, с кем имею дело; но вторую он не получит. Хватит с меня белых китов... Убить его, конечно, большая честь, я знаю... но лучше всего держаться от него п о дальше...
– И все же охота за ним не прекратится... Есть такие проклятые вещи, от которых держаться подальше хоть и лучше всего, но, клянусь, не легче всего. Он влечет и притягивает, словно магнит! Как давно видел ты его в последний раз? Каким курсом он шел?"
После нападения на лодку Эрика в береговую охрану Бутбэя поступило ещё несколько сообщений, подтверждающих, что большая белая акула обреталась поблизости:
– 7-го июня большая акула атаковала судно-омаролов недалеко от острова Монхеган.
– 22-го июня два рыбака видели, как огромная акула целиком проглотила пятнистую нерпу у маяка на острове Рэм.
– 27-го июня сразу несколько рыбаков заявили о пропаже ловушек, и они не могли с уверенностью ответить, были ловушки украдены или проглочены.
– 20-го июля акулу заметили у Беличьего острова, прямо у входа в гавань, на берегах которой расположился заповедник для приблизительно сотни коттеджей, служащий летним убежищем для старых семей Новой Англии на протяжении как минимум шести поколений. Молодая чета, гостившая на острове у родителей, отправилась на прогулку при луне на маленькой гребной лодочке и видела, как, по их собственным словам, "морское чудовище" проплыло мимо, но потом два раза возвращалось. Они приехали из Индианы и никогда раньше не бывали в море, и потому, когда они позвонили в береговую охрану, чтобы сообщить об увиденном, их била истерика и из слов трудно было что-нибудь разобрать. На следующий день, немного придя в себя, они заявили, что чудовище было очень большой рыбой с тёмным треугольным плавником, который рассекал воду, когда рыба приближалась к челну. Ещё добавили, что чудище даже вынырнуло из воды, чтобы рассмотреть их, а потом ушло под воду.
– А 29-го июля с небольшой яхты странным образом пропал пятнадцатилетний мальчишка. Береговая охрана не смогла определить, утонул ли он сам или был утащен с судёнышка большой акулой. Дрейфующую яхту обнаружили в заливе Линикин-бэй, в небольшом отдалении от Капустного острова, куда прогулочные суда регулярно привозят отдыхающих на пикники и ловлю омаров. Яхта оказалась невредима и не имела никаких видимых признаков насилия или борьбы. Однако, пропажа мальчика не вызвала большой озабоченности среди постоянных жителей городка. Всё-таки он был чужаком, одним из летних приезжих, не из их числа.
Туризм является одной из основных статей дохода в штате Мэн, ежегодно четыре миллиона посетивших его граждан вливают свыше пятисот миллионов долларов в экономику Соснового штата. Большая часть приезжих живёт на расстоянии не более одного бензобака от него, но, подобно туристам из более отдалённых мест, все они стремятся на побережье от Киттери до Бар-Харбора, ибо граница приливов в штате тянется на три с половиной тысячи миль.
Одной из первых достопримечательностей, если ехать на север по шоссе N1, параллельно Мэнской платной автостраде, является городок Олд-Орчард-Бич, местная версия Кони-Айленда, и на этот городок приходится семь из двадцати девяти миль пляжей штата. В разгар сезона его население вырастает с шести с половиной до более ста тысяч человек. Портленд, самый большой город штата, раскинулся дальше по побережью; это хорошее место для тех, кто хочет совместить городскую жизнь с лёгким доступом к морю. Примерно в восемнадцати милях к северо-востоку от Портленда по шоссе N1, во Фрипорте, находится громадный супермаркет "Л.Л.Бин", где продаются знаменитые на весь штат охотничьи сапоги. Как поставщик спортивных и туристских товаров, "Бин" открыт 24 часа в сутки все 365 дней в году; он ведёт огромную посылочную торговлю, и наряду с этим в нём ежегодно отовариваются более двух с половиной миллионов покупателей.
В пятидесяти милях к северо-востоку, в стороне от шоссе N1, находится прекрасная гавань Бутбэй-Харбор. Узкие мысы Бутбэя – яхтенная столица Новой Англии, а гавань – вторая по величине гавань штата и место летнего паломничества преуспевающих и привилегированных – их ещё называют «летними жалобами» – из ближайших городов: Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии.
Полуостров Бутбэй, 17-мильный палец, устремленный в Атлантический океан, начинается в точке слияния двух шоссе – N1 и N27 – в местечке Норт-Эджкоум и даёт приют городкам Ньюкаслу, Бутбэю, Бутбэй-Харбору и Саутпорту. Две приливные реки омывают скалистые берега полуострова: Шипскот с запада и Дамарискотта с востока.
Центром этого района является широкая рабочая гавань, хорошо известная среди рыбаков, судостроителей, яхтсменов и путешественников. Постройка судов и рыбная ловля были главными занятиями людей со времён заселения этого района в 17-ом веке. Туризм не был столь важной статьёй дохода до начала 19-го столетия, когда в качестве летних постояльцев в частные дома начали приглашать людей из отдалённых от моря регионов.
В зимний период население района Бутбэй остаётся неизменным и держится на уровне примерно в восемь тысяч человек, но в июле и августе, когда люди получают, наконец, долгожданные отпуска, чтобы расслабиться и послать всё подальше, это число увеличивается во много раз. И здесь есть на что посмотреть и чем заняться: выставки картин и антиквариата, выступления музыкальных коллективов, катание на лодках, кегельбан, кино, "театр и ужин", яхты, купание в бассейнах с подогретой морской и пресной водой, рыбная ловля, водные лыжи, каноэ и шаффлборд.
Люди едут сюда на отдых, чтобы насытиться омарами, моллюсками и другими дарами моря. Чтобы посетить Бутбэйский железнодорожный музей, славящийся тем, что в нём выставлен кусок железной дороги шириной в два фута. Чтобы, используя солёные морские бризы, прокатиться на яхте до бухты Дамарискоув, в городки Пемакид-Пойнт и Бат, на остров Монхеган, остров Рождества и другие отдалённые острова. Чтобы потолкаться в сувенирных лавках, а вечером посидеть в барах. Чтобы потратить день-два на глубоководный лов трески, минтая, скумбрии, хека, голубых и полосатых окуней, небольших акул, сайду и гигантских синепёрых тунцов с борта рыбацкого судна – какого-нибудь "Буканьера", "Мистери" или "Шарк-2". И чтобы обязательно провести день на борту корабля, отходящего от берега на двадцать миль и более для наблюдения за китами.
По иронии судьбы, перечисленные выше тревожные вести подарили местным торговцам лучшее лето за последние несколько лет, ибо туристы устремились на полуостров и совершали вечерние морские прогулки и выезды по заливу и на природу на таких экскурсионных судах, как "Арго", "Линикин-2", "Маранбо-2", "Бами Дэйз" и "Ноэлани". Нацепив на нос солнцезащитные очки марки "Рэй Бэн", облачившись в свитера "Айсвул" и плащи "Лондон Фог", запасясь таблетками от морской болезни и набив карманы закусками, конфетами-помадками и солёными ирисками, туристы припадали к биноклям "Лейтц" и фотоаппаратам "Найкон", снабжённым зум-объективами, в надежде увидеть хоть глазком, как вдали от берега выйдет на поверхность левиафан.
Радовали же их в основном птицы и тюлени, китов было совсем мало.
Акула никоим образом не пошатнула и рынок недвижимости в Бутбэе. Цены неуклонно росли, так как летние приезжие скупали дома и прибрежное имущество, взвинчивая стоимость собственности и налогов на неё, и потому всё меньше и меньше местных жителей, в особенности из молодых рыбацких семей, могли позволить себе доступ к побережью, если прежде им не владели. Таким образом, факт, что ньюйоркцы и бостонцы платили цены, отражавшие их городские доходы, плохо согласовывался с рыбацким сообществом Бутбэя.
Молодёжь, работавшая в барах и ресторанах, представляла лучшие образчики восточно-мэнского говора для ушей отдыхающих. Изобилие широких гласных звуков сопровождалось исчезновением звука "р" там, где ему положено было быть, и появлением его там, где ему быть не полагалось.
Торговцы, естественно, мечтали, чтобы акула задержалась в этих водах на всё лето, потому что её присутствие оказалось здСрово для бизнеса, а то, что было полезно для бизнеса, считали они, было хорошо и для всего сообщества. В период с 4-го июля до Дня труда нужно было успеть заработать столько, чтобы продержаться остаток года, хотя теперь бизнес был довольно оживлён и осенью, когда подтягивался народ, желавший отвлечься от летних толп, насладиться прохладным воздухом и полюбоваться на кружащиеся листья – нигде больше листья так не кружатся.
Каждый день в рейс выходило по пятьдесят экскурсионных судов и более, плюс действовал прокат шлюпок, шхун и тримаранов, сдававшихся на день или неделю; тем не менее, некоторые рыбаки побросали ловушки и сети и втихомолку тоже сдали свои шхуны в наём. Они посчитали более выгодным взять на борт туристов и дать им возможность увидеть большую белую акулу, о которой столько талдычили, а потом уже возвращаться к обычной работе. Когда же, наконец, береговая охрана остановила их, они удостоились заметки в "Нью-Йорк Таймс".
Две последние недели июля, на самом пике летнего сезона, Хелен собиралась посвятить престижному показу работ Эрика в своей галерее в Бутбэе и ожидала оглушительного успеха. И хоть Эрик отговорился от присутствия, ссылаясь на то, что ему было бы очень грустно, все полотна, снабжённые весьма внушительными ценниками, тут же разошлись, и посетители настойчиво требовали ещё.
Впоследствии Хелен поясняла Эрику, что, поскольку его рука досталась акуле, он получил больше известности, чем другие живописцы Бутбэя, и что если художник получает такую известность, автоматически поднимается и стоимость его произведений. Что когда пойдут в продажу его новые картины, цена их будет гораздо выше, чем у старых, и что холсты, написанные до потери руки и сейчас хранящиеся в собраниях коллекционеров и инвесторов, тоже значительно вырастут в цене.
– И что из того... – давил он из себя.
– Эрик, то, что случилось с тобой, ужасно, но это поднимет стоимость твоих новых работ, когда подойдёт их пора. Тебе больше не придётся беспокоиться о деньгах...
Он только чертыхался и отводил глаза.
ГЛАВА 13. «НАЕДИНЕ СО СВОЕЮ БОЛЬЮ»
«Смерть Моби Дику! Пусть настигнет нас кара божия, если мы не настигнем и не убьём Моби Дика!»
Необходимость каждую неделю являться к доктору Диттману отпала, но Эрик продолжал ездить на материк по пятницам, чтобы на выходные побыть с Хелен. Она оставалась единственным ярким пятном в его жизни, единственным человеком, который мог растормошить его, отвлечь от себя самого. Однажды вечером на Рыбачьей пристани они слушали старую песню Эла Джолсона "Куда ездили Робинзон Крузо и Пятница в субботу вечером?" в исполнении Тимоти Джона Уокера из группы «Сэди Грин Сейлз Рэгтайм Джаг Бэнд», и оба так и прыскали от смеха. Эрика всегда трогала хорошая музыка, и состоящий из старых американских песен репертуар группы словно пролил масло на бурные воды, мятущиеся в его душе. Тем же вечером Хелен предложила ему покинуть остров на несколько дней, отвлечься от всего привычного.
– Когда в последний раз ты ездил к родителям?
– Давно, пожалуй...
– Этим летом ты звонил им, писал?
– Нет...
– То есть ты хочешь сказать, Эрик, они ещё не знают, что с тобой случилось?
– Я не знаю.
– Эрик!
– Послушай, я не могу ехать домой...
– Но почему?
– Просто не могу.
– Почему не можешь?
– Не спрашивай.
– В чём причина?
– Я не знаю, что им сказать. Я не могу ехать домой вот с этим, – сказал он, поднимая крюк.
– Но ведь это твои родители. Они имеют право знать. Ты боишься, что они откажутся от тебя, потому что у тебя одна рука?
– Возможно...
– Ты живёшь на этом острове в одиночестве, один на один со своею болью, неделю за неделей погружённый в невесёлые мысли и никого не видя кроме меня...
– Знаю, знаю.
– Это неправильно.
– Я это тоже знаю.
– Тебе надо уехать. Ты словно потерянный без своей работы. И тебе нужно общаться с кем-нибудь помимо меня. Может быть, это поднимет твой дух, развеет твоё уныние.
– Хелен, сейчас мне нужно быть на острове.
– Зачем?
– Затем, что это единственное место, где я чувствую себя в безопасности, где я не отвержен, место, к которому я прикипел всем сердцем. Я уже не часть того мира, в котором живёшь ты. И довольно давно...
– Вот как...
– Я им напишу. С правой рукой это займёт неделю, но я напишу, обещаю.
– А когда ты снова попробуешь рисовать?
– Я не знаю. Чёрт! Не знаю, и всё. Я свалил все картины и рисовальные принадлежности наверху, в спальне, один их вид мне невыносим. Как бы хотел я швырнуть их в море со скалы ...
– Эрик, послушай меня. Ты не можешь без них жить. Когда-нибудь тебе станет лучше, ты возьмёшь кисть, покатаешь между пальцами и задумаешься. Ты возьмёшь полотно и сделаешь набросок... будет трудно, но ты справишься. Потом поставишь полотно на мольберт, поиграешь кистью опять и задумаешься ещё крепче. И вот тогда ты начнёшь писать снова. Если же нет, то эта рана убьёт тебя...
– Хелен, – махнул он рукой, словно отгоняя от лица муху, – давай поговорим о чём-нибудь другом. Я уже видел это кино, а мне бы хотелось провести остаток вечера с тобой...
Несмотря на раздражительность, чувствовал он себя всё-таки лучше и не столь подавленно, и, когда неделю спустя Хелен приехала к нему на остров, он был более разговорчив, чем всё это лето.
– В школе, – рассказывал он, – я много рисовал абстракции, потому что считал, что они и есть искусство с большой буквы. Я перестал писать живую природу и в работе отошёл от деталей. Но в душе всегда оставался натуралистом, и потому после армии, к последнему году института я постепенно вернулся к реализму и мельчайшим подробностям. Для композиции у меня нет жёстких правил. Я полностью отмёл все книги, в которых читал о том, как выстраивать совершенную композицию. Я обнаружил, что если поступаю не так, как предписывают книги, то композиции становятся гораздо интересней. Не думаю, что должны существовать какие-то правила для композиции, помимо правил воображения. Но есть один принцип, которому я пытаюсь следовать... я стараюсь ничего не помещать на ось симметрии, ни горизонтально, ни вертикально. Конечно же, если удобно нарушить правило, то я нарушаю. Иногда я таки размещаю что-нибудь на оси намеренно, потому что, э-э-э... хочу, чтобы изображение обладало сильным воздействием.
Он много лет пользовался зеркалом, чтобы увидеть то, чего иначе не разглядеть.
– Получается, как в фокусах, Хелен. Идею я позаимствовал у портретистов. Я так увлекался, рассматривая картину под определённым углом, что не видел собственных ошибок и искажений. Но если смотрел на изображение предмета через зеркало, все мои ошибки немедленно проявлялись. Знаю, это звучит странно, но так уж выходит. Начав при рисовании пользоваться зеркалом, я сразу же видел, что было неверно в картине. И не только это... я увидел скрытые ритмы и формы, которых не замечал, глядя на неё в упор.