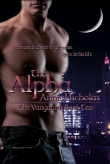Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Соблюдая предосторожности, они неторопливо кружили вокруг тёплого тела кита. Казалось, они понимали, что добыча никуда не денется.
Так продолжалось больше часа, ни одна из акул не решалась атаковать самку. Они не были уверены, что она мертва, и чтобы убедиться в этом, слегка касались её, едва задевая, как бы проверяя её реакцию: раз за разом, одна за другой, но пока не делая попыток укусить.
Вдруг одна акула покрупней неуловимо метнулась к туше, на миг открыла полную лезвий пасть и сделала молниеносный укус, срезав добрую порцию шкуры и жира.
И словно прозвенел звонок к обеду.
Подготовка кончилась и уступила место безумию обжорства: акулы кинулись делить между собой 80-тонную трапезу, проделывая в теле кита нелепые и страшные дыры размером с баскетбольный мяч.
Через несколько минут туша уже колыхалась в волнах собственной крови. Яркие кровавые пятна на воде росли и ширились, и от их вида становилось не по себе.
Лучи поднимающегося солнца отражались от красного моря и освещали загорелое, покрытое сетью морщинок лицо Эрика пунцовым румянцем.
Акулы бороздили поверхность моря, метались серыми тенями, словно северные волки в сумерках, спинными плавниками рассекая воду, и легко, как мороженое, кромсали и резали на куски шкуру, жир и мясо.
Кольцо неукротимых акул напугало Эрика, и он нервно поскрёб в рыжей бороде и усах. Из оставляемых акулами ран ручьями лилась багровая кровь и несмываемой люминесцентной краской растекалась по воде.
Почти не делая движений, синие акулы подплывали к розовому остову, а из-под туши, оттуда, где всё растворялось в тени, новые акулы уже спешили на пир: песчаные, тигровые и сельдевые – и зрелище одновременно и пленяло, и отталкивало. Глядя на куски истекающего кровью мяса, Эрик обратил мысленный взор на собственное бытие.
Он словно перенёсся во времена предков-викингов, которые пили кровь из черепов своих врагов и называли раем разгул и резню Валгаллы.
"Хотя, – подумал он, – есть что-то восхитительное, почти божественное в этом безмолвном присутствии акул, в осознании того факта, что подобные сцены разыгрывались бессчётное количество раз в тех или иных декорациях со времён девонского периода, отстоящего почти на четыреста миллионов лет назад, и что человек, господствующий над миром животных и способный разрушить планету Земля в ядерном пожаре, живёт по соседству с ними всего каких-то четыре миллиона лет. Вот уж воистину новичок..."
Акулы, как могильщики, были готовы похоронить кита в море, и наводили на мысль о потерпевших крушение моряках и пассажирах рухнувших в море самолётов.
"Жизнь всегда так или иначе питает смерть", – размышлял Эрик. В океане ничто не умирает от старости, даже властелины глубин, ибо, когда плоть становится слабой, приходят акулы. В первобытности морей продолжается борьба за выживание так же, как везде, с той же древней жестокостью. Выживают сильнейшие из сильных; слабые, больные, убогие становятся пищей.
Там, за плечами, целый мир, где притаившиеся звери прячутся за тонким слоем сверкающего лоском цивилизованного поведения, где большие пожирают маленьких, а счастливые грабят несчастных. "И вот здесь, прямо перед тобой, то же самое. Есть ли какой-нибудь выход?"
Но выход – Эрик был уверен – это только мечта, волшебная детская сказка. Война ли его этому научила? И разве думал он, что здесь будет иначе?
Если честно, думал бы, если б мог убраться отсюда куда подальше...
Ярость этого нападения, в котором ничто не пропадало, напомнила ему молодых американских солдат, рвущих золотые коронки из челюстей мёртвых, сведённых трупным окоченением северных вьетнамцев; солдат, отрезающих уши, выкалывающих глаза, отсекающих пенисы и рубящих головы – и всё только ради смеха.
Она напомнила о пронырливых бригадах эффективной зачистки джунглей – о мириадах личинок, пожирающих распухшие мёртвые тела врагов, брошенных истлевать под безжалостным тропическим солнцем.
С другой стороны, она напомнила ему о смерти в цивилизованном обществе Северной Америки. О том, как умирает человек и, если он был стар, обеспечен и не имел прямых наследников, как родственники ночными ворами врываются в его дом и растаскивают ценности, в то время как старику припудривают нос в погребальной конторе. Как близкие воруют пожитки мертвеца, не потому что хотят оставить себе что-то на память или из нужды, а просто из непреодолимой алчности. "Такие люди, – подумал он, – есть повсюду, они как падальные мухи, и одно их объединяет с акулами открытых морей. То, что они – выжившие, и смерть вскармливает их: старинными дедовскими часами ли за четыре тысячи долларов или куском ворвани в сорок фунтов..."
Морские волки торопились ободрать самку до костей, пока та не утонула.
Около пятидесяти акул бросались на остов и набивали утробу. Иногда, чтобы ухватить кусок, некоторые на полкорпуса выскакивали из воды и, сомкнув челюсти, до 20 секунд зависали на туше.
Звуки пиршества заставляли трепетать: плоть рвалось, челюсти грызли и чавкали, а тела выдирающих куски акул влажно шлёпались друг о дружку. Внутренности кита вывалились наружу, кровь разливалась всё шире и привлекала новых хищников.
Поднялся ветер; Эрик истратил целую катушку цветной фотоплёнки на акулий обед, потом взялся за этюдник и карандаш и быстро набрасывал буйный пир, которому стал свидетелем.
Прошёл час. За ним другой. Потом третий.
Акулы сожрали весь жир почти в фут толщиной и добрались до мяса. Они жутко копошились в ране: смыкали челюсти, посверкивая зубами, и, переворачиваясь на спину, отрывали ломти. То, что начиналось дырой, оборачивалось пещерой, а они всё вгрызались в тушу, хлестали и били хвостами и расплёскивали лившуюся в море кровь.
Вокруг лодки, качавшейся на сплошь багровых волнах, дрейфовали клочки и ошмётки ворвани.
Акулы двигались кругами, навстречу и наперерез друг другу, как гольяны в ведре для наживки: синие акулы и акулы-молоты от 12-ти до 14-ти футов длиной, обтекаемые и гладкие, грациозные и безмятежные; двигались размеренно, величественно, неудержимо.
Акулы локомотивами устремлялись в образовавшуюся полость в туше и впивались, страшно сотрясаясь телами, словно их било высоковольтным током и не отпускало; мясо оказывалось в пасти, и они отваливали, вспенивая воду и судорожно двигая при этом челюстями и глотая, и по мордам струились кровавые шлейфы.
Рана достигла размеров лодки-дори. Из творения невыразимой красоты кит превратился в нечто бесформенное и отталкивающее. Исчезло сверхъестественное величие, а вид кровавой бойни вызывал тошноту. Море становилось сальным от толстой плёнки темнеющей, свёртывающейся крови, от частиц ворвани и мяса, – и всё это липло к лодке.
Уже несколько часов течением разносило запах смерти, и новые акулы плыли на этот запах, словно по карте находя дорогу на пиршество. Между тем, вибрации самих акул, миллионами лет эволюции доведённых до высших пределов совершенства, вызывали чувство слабости и обречённости у прочих обитателей моря.
Пир был в полном разгаре. Вдруг что-то ударило в днище лодки, и Эрик выронил этюдник. Он завертел головой. Примерно в 25-ти футах от левого борта волны уверенно резал спинной плавник, на фут с лишним выступающий из воды.
Большая акула покружила вокруг дори и пошла на новый виток. Она с силой задела хвостом нос лодки так, что её развернуло, и Эрик услышал треск дерева.
Акула повернула и заскользила прямо на него. Эрик привстал, чтобы лучше видеть, и акула, пролетая мимо, легла на бок и показала ярко-белое брюхо. Прямо из воды в него вперился чёрный глаз – большой чёрный глаз без зрачка, упорный и жестокий, похожий на кусок угля. Большая рыба была длиннее дори, огромна в обхвате и имела невероятные режущие зубы.
Это была белая акула, акула-людоед, он теперь ясно её видел: самая опасная рыба моря.
Работая хвостом, акула проплыла к киту, и другие словно растворились.
В ту же секунду большая волна качнула лодку, Эрик не удержался на ногах и вывалился за борт. Он падал в темноту – глубже, глубже, глубже. Вода – холодная, обжигающе холодная, – острой болью вмиг пробрала до костей. Осязаемо, со всех сторон, сдавило безмолвие глубины. Он опускался всё ниже в ледяную воду, пока не почувствовал, что едва может двигаться и давление сжимает клещами барабанные перепонки и пазухи, и осознал, что пришла беда. От холода перехватило дыхание; он открыл было рот, но в него хлынула вода, и он захлебнулся.
Нужно скорее наверх. В красном мраке носились тени: это под ним, на 30-футовой глубине, метались акулы.
Он задыхался и видел, как хрустальные пузырьки углекислого газа поднимаются вверх и медленно танцуют на переливающейся поверхности воды перед тем, как лопнуть. Тяжёлая намокшая одежда тянула вниз, в темноту.
Уже кружилась голова, мышцы ног, рук, груди сводило судорогой. Внутренности выворачивало, он хватал воду, и глаза лезли из орбит шариками для пинг-понга. Он хотел кричать, но в лёгких не оставалось кислорода, и он бешено заколотил руками и ногами – скорей наверх – один только вдох – только бы акулы не напали.
"Смерть уже владела однажды моим телом. Я мог бы погибнуть, – подумал он. – Глупая неловкость – и конец".
Такая же паника и ужас охватывали его в боях на Нагорье, когда пули впивались в деревья в дюйме от головы, когда вокруг падали убитые и раненые. Он барахтался и грёб наверх, но выплывал медленно, несмотря на выталкивающую силу солёной воды; и когда голова показалась из пучины, он снова увидел дневной свет и смог, наконец, сделать вдох. Сердце бешено колотилось, он поплыл к лодке, с шумом втягивая воздух, но, казалось, кислорода лёгким не хватало. Руки и ноги словно налились свинцом, мышцы окоченели, судорога только усилилась.
Озноб сковывал тело, проникал в грудь, багровые волны захлёстывали его, не давали дышать. Отплёвываясь и задыхаясь, он был один в этих первобытных просторах, за пределами слышимости человеческого голоса.
Из последних сил, срываясь и царапаясь, он тянулся ухватиться за борт лодки, но не мог выскочить из воды достаточно высоко, чтобы зацепиться. В каждом дюйме его поджарого тела струился адреналин, и ему удалось-таки каким-то образом ухватиться за планширь и кое-как втащить и плюхнуть себя в лодку мороженой треской – вымотанного, обессиленного, всхлипывающего от удушья.
Большая рыба повернула, сделала два быстрых гребка серповидным хвостом и, оказавшись в шести футах от лодки, подняла морду, махнула хвостом вперёд-назад и выскочила из воды, как пытающаяся осмотреться касатка.
Эрик с синими губами лежал на дне лодки, стучал зубами, трясся от холода и страха и не мог отдышаться.
Голова и жабры акулы поднялись из воды, и несколько мгновений она смотрела на него своими страшными глазами, выставив сложенные грудные плавники, бело-серую морду и ужасные зубы, потом скользнула назад под воду и тихо исчезла.
Эрик, шатаясь, приподнялся на ноги, сел и увидел, что треугольный плавник огибает носовую часть. Вдруг, отбросив колебания, акула торпедой помчалась к лодке в слепой и яростной атаке. Жутких глаз почти не видно, пасть слегка приоткрыта, чтобы воде свободно пройти сквозь жабры. Она неслась – ближе, ближе. За несколько футов до кормы с каким-то металлическим звуком она клацнула челюстями и – налетела на лодку.
Моряк, который припадал на лапы, скулил, пытаясь укрыться хоть где-нибудь, и бегал по лодке из конца в конец, взвыл и завизжал как свинья.
Акулья пасть, более трёх футов в поперечнике, похожая на оживший медвежий капкан, утыканная белыми, блещущими, пилообразными, как мясные ножи, зубами, впилась в дерево, круша его и дробя, грызя и пережёвывая.
Эрика швырнуло плашмя на дно, он слышал сопение, скрежет и щёлканье зубов. Лодка дрожала под натиском, акула навалилась на неё всей тушей и в бешеных конвульсиях трепала, как это делают собаки с тряпичными куклами; она содрала одну дюймовую планку у транца, и в щель хлынула вода.
Неожиданно она отпустила и ушла под воду. В лёгкой туманной дымке, вернувшейся вспять, Эрик потерял спинной плавник из виду. Но через несколько минут, подрагивая, он снова резал море, уже справа: акула ракетой мчалась на лодку, быстро загребая хвостом. На полной скорости на Эрика летела белая смерть.
Он схватил ржавый тесак, валявшийся на носу, приподнялся и высоко занёс железо над головой, ожидая атаки.
– Попробуй достань меня, сука! – крикнул он. – Я выколю твои блядские глаза!
Большая рыба задрала бледную коническую морду и разинула огромную пасть; черные безжизненные, как у куклы, глаза побелели, словно зрачки их закатились, оставив рыбу слепой в момент нападения. Эрик ударил, но вместо глаза тесак угодил по разверстым челюстям.
Акула дёрнула головой и в долю секунды с хрустом отхватила левую руку в шести дюймах выше запястья, легко, словно мягкое масло, пронзив кожу, мышцы, кость; быстрее, чем управился бы врач с хирургической пилой, и почти без боли. Рыба целиком заглотила руку и тесак, плюхнулась в воду, неторопливо поводила головой из стороны в сторону и нырнула, мощно ударив хвостом.
– Ай-и-и-иииии! – закричал Эрик и уставился, содрогаясь, на неровный обрубок розовой плоти и кости.
Кровь хлынула в лодку, в которой на фут уже плескалась вода. Моряк вопил и носился по медленно тонущей лодке.
Накатила боль, от вида потерянной конечности подступила тошнота, в глазах потемнело. Он крикнул было в туман о помощи, но голоса своего не услышал. Он знал, что вокруг никого нет и звать бесполезно. От потери крови наступил шок. Тело, вымотанное и переохлаждённое коротким барахтаньем в воде, с кровью теряло последнее тепло.
Лодка уходила под воду, дюйм за дюймом.
Туман становился плотней; нужно было наложить жгут и забинтовать руку, чтобы остановить кровотечение; лодка погружалась глубже, и он опасался, что если не истечёт кровью и не утонет, то акула вернётся довершить начатое и прикончит их обоих – его и Моряка.
Он кое-как перетянул куском швартовочного каната истекающую кровью руку и, с трудом дыша, обмяк и стал терять сознание. Он пытался побороть беспамятство, но упал лицом вниз – и наступила тьма.
Позднее – он не ведал, сколько прошло времени, – он пришёл в себя и корчился в немых муках, пока не услышал нечто похожее на звуки дизельного двигателя, пробивающиеся сквозь туман, очень далёкие, но приближающиеся. Он хотел закричать, но тьма снова поглотила его.
Верёвка на руке ослабла, алая кровь из раны потекла сильнее, глаза закатились, и тело стало холодным, а лицо пепельно-серым, как у трупа...
ГЛАВА 3. «СЧАСТЬЕ, ЧТО ОСТАЛСЯ ЖИВ»
"Тэштиго уходил безвозвратно на дно морское! В следующее мгновение громкий всплеск провозгласил, что мой храбрый Квикег бр о сился на помощь".
– Где я? – позвал Эрик.
В ответ – тишина.
– Эй, есть кто-нибудь? – пробормотал он и сел на кровати, огладывая комнату.
Вразвалку вплыла сиделка средних лет, с опухшими лодыжками, в ортопедической обуви, с широкими, как ловушка для омаров, ягодицами и большой, отвислой грудью.
– Здравствуйте, мистер Дэниелсон. Как вы себя чувствуете?
– Где я? Ведь не умер же я и не взлетел на небеса? – повторил он вопрос, разглядывая забинтованный обрубок и торчащую из правого плеча внутривенную иглу.
– Вы в послеоперационном покое, вы сильно устали и...
– Где я? Что происходит?
– Вы в больнице Святого Михаила, в Бутбэе. Вам только что сделали операцию, мистер Дэниелсон. Вы потеряли много крови. Вам повезло, что вы живы. А сейчас ложитесь и отдохните...
– О-о-о-о... – выдохнул Эрик, снова осматривая комнату.
– Вы не представляете, как вам повезло, что остались живы.
– Это действительно послеоперационный покой? Больше смахивает на морг... всё такое белое, стерильное. Сюда вы кладёте людей умирать, тех, кто не вытянет? Это та палата святой лжи, что в конце коридора?
– Конечно, нет...
– Тогда чьё...
– Я же сказала, что это послеоперационный покой.
– ... это тело рядом со мной?
– Это мистер Клингер.
– Кто?
– Больной, которому сделали операцию сразу после вас. А теперь вы должны лечь...
– Зачем?
– Потому что я настаиваю.
– Он живой?
– Прошу вас, не заставляйте меня звать санитара.
– Он не шевелится... мне кажется, он мёртв... видите, как он лежит с закрытыми глазами? Такой умиротворённый...
– С мистером Клингером всё в порядке, скоро он придёт в себя.
– Правда? Вы настоящая сиделка. Таких больших и уверенных, как вы, наверняка специально сажают в послеоперационную палату, чтобы выживший пациент не удрал после операции, не заплатив по счетам.
– Ложитесь, ложитесь... – улыбалась сиделка.
– Как вас зовут?
– Сестра Мэрдок, – ответила она и показала на чёрную бирку с именем, пришпиленную к халату.
– Айрис Мэрдок, дипломированная медсестра, – прочёл Эрик. – Хорошее имя.
– Спасибо.
– Айрис, я хочу домой.
– Боюсь, вы проведёте в больнице ещё несколько дней, мистер Дэниелсон.
– Зовите меня Эрик. Мистером Дэниелсоном зовут моего отца.
– Хорошо, Эрик.
– Так-то лучше.
– Как вы себя чувствуете? Болит?
– Немного...
– Кружится голова?
– Да, чуть-чуть не по себе...
– Это нормально. Ложитесь, и я прослежу, чтобы вас поскорей перевели в палату.
– Айрис, что с моей рукой?
– Операция прошла хорошо. Врач навестит вас, как только вас переведут наверх.
– Я не очень покладистый пациент. Больницы вгоняют меня в тоску. Белый цвет, повсюду суетятся люди, противные запахи. Скажите, а где эти хорошенькие маленькие сестрички?
– А что?
– Спинку помять...
– Разве болит?
– Я же сказал...
– Если вы думаете об этом, значит, вам лучше, чем я предполагала. Может быть, я смогу вам помочь...
– Нет-нет, я хочу, чтобы мышцы моей спины размяли юные ручки.
– Но...
– Нет, Айрис!
– Разрешите мне только... – сестра Мэрдок улыбалась и уже тянулась к нему.
– Не-е-ет...
– Я помогу, если вы...
– Вы же слышали меня.
– Значит, вам не будут массировать спину.
– О, ну если так, что ж...
– Вы сильно устали, Эрик, – сказала Айрис и стала массировать ему спину, нанеся крем. – Вы потеряли много крови. Вам повезло, что вы остались в живых.
– Сколько раз вы будете мне это повторять?
– Простите.
– На душе тоскливо.
– Как вам вот здесь?
– Прекрасно, у вас умелые руки, Айрис...
– Вам нужно отдохнуть. Я позабочусь о вашем переводе наверх.
– Как я сюда попал?
– Это всё ваш друг, мистер Фрост. Он рыбак с острова Рождества, не так ли?
– Чарли?
– Да...
– Чарли Фрост? Дьявол меня побери! Кто бы мог подумать...
– Он спас вас и привёз к больничной пристани сегодня утром, а санитарная команда доставила вас уже сюда. Летела во весь опор, мы вас чуть не потеряли.
– Господи боже, а Моряк? Мой пёс, Моряк! Вы знаете, что с ним?
– С ним всё в порядке. Он был в лодке, когда вас привезли. Мистер Фрост обещал позаботиться о нём.
– Ух...
– О-о-о, Стелла, о-о-о, Стелла... – раздался стон с соседней койки.
– Айрис, мистера Клингера мучает кошмар.
– Он приходит в себя и зовёт жену.
– А...
– Всё позади, всё хорошо, мистер Клингер. Как вы себя чувствуете?
– О-о-о, Стелла, где ты, Стелла...
– Как вы себя чувствуете, мистер Клингер?
Мистер Клингер поморщился, чуть приоткрыл глаза, обнажил зубы и громко застонал. Потом выпустил газы. Три раза. Очень отчётливо. Эрик засмеялся.
– Вы слышали это, Айрис? С Клингером всё в полном ажуре. Он бздит, как затравленная мышь: "Пи-пи-пи..."
– Занимайтесь собой, Эрик...
– Ха-ха-ха-ха...
– Мистер Клингер, операция прошла удачно. Вы в послеоперационном покое, когда вас переведут наверх, вы увидитесь со своей женой. Что-нибудь болит?
– Айрис, могу я повидаться с моим псом, если Чарли приведёт его сюда?
– Лежите и не напрягайтесь, мистер Клингер. У вас всё в порядке, всё будет замечательно.
– Псст, Айрис...
– Что вы сказали?
– Я спросил, можно ли Моряку навестить меня здесь, – прошептал Эрик.
– Конечно, нет, здесь больница, собакам сюда нельзя. Эрик, вы что, поглупели от анестезии?
– Клингер встретится со Стеллой. А моя семья – это Моряк...
– Простите, но собакам запрещено...
– Чёрт! А где доктор?
– Он пока в операционной.
– Как его зовут?
– Доктор Диттман.
– Баклуши бил, наверное, весь мединститут...
– Безусловно, нет...
– Хорошо кромсает?
– Лучше всех.
– Так когда же я увижу этого доктора Диттмана?
– Сегодня вечером, я полагаю.
– Который час?
– Три тридцать, – сказала сиделка, поглядев на игрушечные часики с Микки Маусом.
– Дня?
– Да.
– Ясно...
– Послушайте, Эрик, попытайтесь расслабиться.
– Попробую...
Не говоря больше ни слова, она пощупала его пульс, ободряюще улыбнулась и вышла из покоя в холл, шаркая толстыми резиновыми подошвами по гладкому серому кафельному полу.
ГЛАВА 4. «КАПИТАН КРЮК»
"– Но каков же тот урок, что преподносит нам книга Ионы? – спросил отец Мэппл. – Всем нам, грешным людям, это урок потому, что здесь рассказывается о грехе, о закосневшей душе, о внезапно пробуди в шемся страхе, скором наказании, о раскаянии, молитве и, наконец, о сп а сении и радости Ионы. Грех сына Амафии был в своенравном неподчин е нии воле Господней".
Вскоре санитар помог Эрику перебраться в отдельную палату хирургического отделения; около пяти часов, завершая ежедневный обход, заглянул больничный капеллан поболтать по-приятельски.
– Здравствуйте, мистер Дэниелсон, меня зовут преподобный Эзикиел Гринтисл. Отец Зик, если хотите...
"О нет, – подумал Эрик, – коммандос господа, больничкин попик. Нужен мне его визит как полиомиелит, острая зубная боль, рак яичек и сибирская язва, чёрт бы его побрал!"
Эрик отошёл от официальной религии, ещё будучи подростком, и с тех пор смеялся над "небесными штурманами" и пустыми поучениями о бессмертии души. Он верил только в абсолютное бессмертие прекрасно исполненного холста, по крайней мере, так было до недавнего времени. Но то, что произошло с ним в море, вдруг живо, в жутких подробностях всплыло в его мозгу. Он оказался на краю гибели, и его спасли.
– Заходите, заходите, отец Зик. Видеть вас – всё равно что получать деньги из дома!
– Так ли?
– Конечно, ведь вы мой первый посетитель.
– Как вы себя чувствуете, мистер Дэниелсон?
– Сестрички здесь хорошо делают уколы. Меня почти уломали согласиться на светские шприцы. Для поправки дают морфин, а сейчас я торчу от демерола. Вы не поверите в то, что я вижу. Вот только что я смотрел на свою грудь. Через прозрачную кожу видел внутри себя двух безобразных белых котов со злыми оранжевыми глазищами. Они дрались за кусок мяса, я пригляделся и понял, что кусок мяса – моё сердце. Я потянулся схватить их за шиворот, а они проскочили сквозь мою кожу – кожа, кстати, на мне была шиворот-навыворот – и впились в мою шею. А потом началась другая галлюцинация...
Как будто я приклеен к фиолетовой мультяшной дорожке, убегающей в мою голову. Эта дорожка приводит меня к таким местам в мозгу, о существовании которых я и не догадывался. То есть это было путешествие в самое сердце тьмы, Зик, в самый ад, который будет почище того, что придумал Данте. Да, с самой войны не было у меня таких убойных приходов. А как прошёл ваш день?
– Вы чувствуете боль?
– Ну что вы, я на седьмом небе, я вижу, как на пушистых облаках ангелы с нимбами над головами играют на арфах, слышу, как господь поёт a cappella вселенскую симфонию...
– Понимаю...
– Это ваше отделение, не правда ли, отец? И причина, почему вы здесь...
– О чём вы говорите?
– О боге, ангелах, арфах, Жемчужных вратах, о святом Петре, о жизни загробной. Вы ведь собираетесь молиться, умолять небеса и тем самым всё вокруг делать лучше?
– Я, а-хм, – преподобный Гринтисл прочистил горло, – я знаю, что вы не просили, чтобы я пришёл...
– Не просил. Но всё равно знаю, зачем вы здесь. Я грешник, в этом нет сомнения. А вы – человек божий, вьющий круги вокруг больных, убогих, параличных и немощных. Как дважды два четыре, а? Один только вопрос: вы хороший божий человек или плохой? Я скажу вам, что не дал бы и цента, чтобы слушать плохого. Вы ведь знаете, что господь затыкает уши ватой, когда молятся плохие: "Ой, блин, только не этот и не его скулёж, у меня сегодня так болит голова..."
– Безусловно, у вас свой путь понимания вещей, мистер Дэниелсон, – сказал преподобный, глянув в окно на бухту Милл-Коув. – Простите мне мой голос. Сегодня я был занят и так много говорил, что хриплю, как лягушка-бык.
– Предупреждаю вас, святой отец, в церковь я не хожу. Религия мне нужна, как старой шлюхе очередной перепихон. Я ясно выражаюсь?
– Церковь вас чем-то обидела, мистер Дэниелсон?
– Скажем так: она разочаровала меня, оказалась лишней в моей жизни...
– Очень жаль...
– Ну, я лишь предупреждаю. Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы молиться за меня и спасать мою грешную душу. За мой счёт вам не заработать ни одного очка в пользу обожаемого стройняшки Иисуса. Знаете, даже когда я был мальчишкой, я не очень-то доверял проповедям со всякими жуткими прикрасами, что любят сочинять ваши проповедники, только чтобы загуртовать стадо в загон. Я просто не могу поверить, чтобы бог мог создать нас и за какую-нибудь провинность отправить жариться в аду на веки вечные – без надежды на искупление.
– Нет-нет, я здесь не для того, чтобы спасать вас, не поймите меня превратно... Просто я слышал, чтС сегодня с вами случилось в море. Это ужасно! Беда! Вы счастливчик, мистер Дэниелсон, настоящий счастливчик. Само небо вам улыбнулось. Я верю, что лишь благодаря божьему промыслу вы до сих пор живы.
– Может быть. Каждый день случаются чудеса, а теперь и я одно из этих чудес. Такова реальность, как тот фокус с хлебами из Библии, а, святой отец?
– Да, да, – хихикнул преподобный Гринтисл, – как из Библии.
Маленький старичок с белым воротничком, одетый в чёрное с головы до ног, с Библией в одной руке и палкой в другой, носил такой огромный горб на спине, что при ходьбе сгибался пополам и смотрел в землю. Лицо его усеивали безобразные шишки: эту кожную болезнь, похожую на сухую проказу и, вероятно, неизлечимую, он заработал, будучи миссионером в чёрной Африке.
– Пути господни неисповедимы, так, преподобный?
– Да, мистер Дэниелсон, именно так.
– Послушайте, святой отец, если мы будем продолжать в том же духе, то мне нужно вам кое-что сказать. Прежде всего, давайте говорить не о религии, а о духовности. О высшей силе, а не о боге.
– Официальная религия, мистер Дэниелсон, несёт веру в массы и имеет единого бога.
– Да, точно так, как Макдональдс снабжает массы гамбургерами и имеет единого председателя правления. И Макдональдс обесценил слово "гамбургер" так же, как официальная религия стремится обесценить некоторые самые святые слова.
– Когда вы слышите слово "бог", с чем вы его ассоциируете, мистер Дэниелсон?
– Я соотношу его с лицемерием официальной религии. Это слово так затаскано и потрёпано, что ничего уже не значит для меня.
– Что же сделала вам церковь?
– Меня никогда не заботило ни фарисейское мнение о "них" и о "нас", о посещающих воскресную церковь христианах и о грешниках, ни самодовольная мысль о том, что спасутся только те, кто ходит в церковь, а кто нет, тот будет проклят. Я ненавидел церковь за это, но с тех пор я примирился, и нет больше во мне той страстной неразбавленной ненависти к ней, как бывало. Но я не вернусь к ней. Когда я ушёл, то ушёл навсегда. И возврата нет. Не войти больше в дом...
– А как же принципы? Вы их тоже оставили?
– У всех религий хорошие принципы. У всех схожие идеи любви. Они все желают помочь человечеству чрез упорядочение духовной жизни. И посему надеются, что их-то цветы будут к лицу человекам. И Иисус, и Будда, и Кришна, и Конфуций, и Магомет – все проповедовали принцип любви к ближнему.
– Хм-м-м-м...
– Но основополагающие принципы – это всего лишь дорожные знаки на духовном пути к просветлению, по которому мы все идём, и ты должен усвоить эти принципы, прежде чем начать поиск смысла. Религии – это разные дороги к одному – к единому богу: там все они сходятся. И в отличие от конкретных религиозных конфессий богу наплевать, каким путём ты приходишь к нему, он не делает различий. Кто-то приходит с помощью "Анонимных алкоголиков". А кто-то – через дзен-буддизм.
– Я помогу вам: есть ли у церкви – скажем так – какие-нибудь слабости? Да, конечно, вот то слово, которое я пытался подыскать...
– Вы читали "Письма Баламута" Клайва С. Льюиса, роман в назидательных письмах от старого чёрта Баламута к племяннику Гнусику, юному чёртику, чья задача состоит в искушении и развращении духовной жизни молодого человека?
– Нет, не припоминаю...
– Вам бы понравилось, полагаю. Это хорошая книга, вам стоит её прочесть, потому что в ней дан мудрый и глубокий анализ сильных и слабых сторон христианства.
– Мы все грешники, мистер Дэниелсон. Все попадаем впросак, делаем ошибки и путаемся, принимаем решения, основываясь на собственной воле, вместо того чтобы полагаться на того, кто добр, справедлив и любит нас.
– А когда вы удаляетесь от света высшей силы – это так вы понимаете его – вы попадаете во мрак, правда?
– Да, конечно, быть грешником – это единственная предпосылка принадлежности к церкви...
– Вот именно, даже вы грешник. Безгрешным нечего делать в церкви. И если признаёшь свои грехи и раскаиваешься, то грехи стираются, господь выбрасывает их из головы, разве не так?
– Да-да, конечно. И вы правы, я тоже грешник...
– А раз грехи прощены, то можно пойти и снова совершать те же самые прегрешения. Снова и снова. Затем ты раскаиваешься, причащаешься, господь тебя прощает и выбрасывает твои прегрешения из памяти, словно компьютер после перезагрузки. Подумайте, что это означает. Можно жить жизнью, полной греха, а на смертном одре покаяться, заявить, что сожалеешь, – и твои грехи аннулированы. Подумайте, в каком мире мы бы жили, если б можно было поступать так в суде и о твоих преступлениях стирались бы записи из судейских голов, только потому, что ты повинился. Поразмышляйте над этим, преподобный! Но знаете ли, что особенно смущало меня, когда я рос?
– Поделитесь же со мной, мистер Дэниелсон, скажите, что вас смущало, представьте, что я ваш отец, поведайте мне, сын мой, может быть, я смогу помочь...
– Иисус той церкви, в которую я ходил, был нудным тихоней, добряком в тапочках. Приятный человек с красивым лицом, длинными волосами, нимбом над головой и с вечной, запечатлённой на губах улыбкой. Помню, он всегда гладил детей по головкам, как делают прожжённые политиканы во время избирательных компаний. Но в Евангелии он изображён человеком: в расстройстве и дурном настроении, в грусти и печали, в тревоге и страхе, иногда в ярости и страшном одиночестве. Он был настоящий и имел человеческий облик, как вы и я. Он был человеком, к которому я мог бы обратиться. Но попы в своих проповедях преподносили мне Иисуса не как человека, а как символ, как чертовски скучного картонного идола. И я никогда не знал, было ли у него чувство юмора, я никогда не слышал о его сексуальных пристрастиях. Хотел бы я знать, была ли у Иисуса какая-нибудь мелочь за душой, о которой никто понятия не имел. Хотел бы я знать, ходил ли он к проституткам, чтобы подточить рога, как это делал я во время войны. Не секрет, что ему нравилась Мария Магдалина, а она, скорее всего, была шлюхой. И ещё он любил апостола Иоанна. Занимался ли Иисус сексом? И если так, был ли он гетеро– или бисексуален? Мне хотелось бы знать...