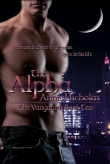Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Покамест он занимался переделкой, к нему приходили мужчины перекинуться словом и посмотреть, как идут дела. Иногда по утрам у входной двери он находил завёрнутые в газету яйца чаек или свежую треску, – радушные подарки ближайшего соседа-рыбака Чарли Фроста, с которым едва был знаком.
Однако не все были рады тому, что он купил дом старика Элли. Хотя Эрик и родился в Джонспорте, на дальнем побережье, и был почти такой же, как они, его всё-таки считали чужаком. Островитяне терпели пришлых, но не доверяли ни им самим, ни тому, как они ведут дела.
К тому же Эрик оказался единственным холостяком в деревне, жизнь в которой вертелась вокруг рыбы и семейных интересов. Но ему было всё равно.
Сюда он приехал только за тем, чтобы спокойно работать и пребывать в одиночестве.
На пристани, за его спиной, рыбаки смеялись между собой над ним и говорили, что он сделал громадную ошибку, поселившись здесь. Они служили морю и не могли и подумать, что кто-нибудь сможет свести концы с концами на острове, если не будет вкалывать на морских промыслах. Естественно, они ничего не смыслили в искусстве и, само собой, не понимали художников.
На острове Рождества Эрик прослыл чудаком, человеком, бросившим хорошую работу в Большом Яблоке ради прозябания в уединении на каком-то куске гранита у чёрта на куличках в Северной Атлантике. Этого никто не был в силах понять, и когда он говорил, что собирается зарабатывать на жизнь кистью вместо лодки, люди только отводили глаза и улыбались, тем не менее, никто и никогда не обронил ни единого худого слова.
– Да-а, давай действуй, сынок, удачи тебе...
В то же время в нём было нечто, что их привлекало. Его выдержка, его твёрдый характер во многом напоминал их собственный. Итак, они судачили с ним о погоде, о рыбалке, иногда даже шутили, но при этом почти все чувствовали себя неуютно рядом с ним из-за того, что он был художником; были на острове и такие, кто его просто боялся. Боялся безо всяких веских причин. Только потому, что он был другим...
Слово "живопись" звучало для островитян так же, как фраза "тривиал персьют", поэтому многие были склонны видеть в Эрике бедную, заблудшую душу, праздного обывателя с материка со звёздной пылью в глазах, человека, у которого аллергия на тяжёлую ручную работу и нет ни опыта, ни мореходных навыков, чтобы по шестнадцать часов в день проводить в море. Меж собой они решили, что его желание рисовать и перебирать тюбики с красками было лишь глупой слабостью, детской забавой, из которой нужно вырасти; лишь неким самооправданием, чтобы не участвовать в серьёзном деле жизни. И чтобы не вкалывать.
– Ты только посмотри, как он бродит здесь вокруг, Мэйнард, клянусь, этот парень ленивей шелудивого пса, – бывало, шептал один рыбак другому, в то время как Эрик проходил по пристани мимо.
Они не понимали, как это тяжело напряжённо писать у мольберта по шестнадцать часов в день и растягивать работу на трое суток подряд и даже д?льше, как это часто с ним случалось.
Несмотря ни на что, Эрик влюбился в остров и жизнь на нём. Здесь он отдалился от механистического мира, от суматошного мельтешения континента. Здесь, сосредоточившись на работе, год за годом он оставался один, наслаждался душевной и физической свободой, ибо понял давным-давно, что не сможет написать хорошую картину, если вокруг будет толпа.
Ему нравился ритм жизни на острове Рождества, определяемый не временем, но ветром, приливами и погодой. Здесь он жил по другим правилам. Здесь была настоящая жизнь, а не бледная её имитация.
В какой-то мере жизнь здесь была не просто жизнью на острове. Она больше была похожа на обладание собственной страной, и ему это нравилось. Из жителя материка он окончательно превратился в островитянина. Остров пробудил в нём какие-то ощущения детства, может быть, детства чужого, и, скорее, даже не физические ощущения, а какое-то состояние души, какое-то чувство места, которого не коснулось время, места сродни волшебной стране «Небывальщине».
Эрик искал тихой жизни в красивом месте и нашёл её здесь.
Огромная еловая чаща на дальнем конце острова, возле бухты Ворчуна, напоминала ему сказочный лес, в котором запросто можно наткнуться на тролля, собирающего плату с проходящих по мостику. Волшебство острова пришлось бы по душе даже Уолту Диснею.
Почти год Эрик приноравливался к здешней жизни: учился обращаться с дровяной печью, орудовать цепной пилой, валя и распиливая деревья, учился разбираться, какие дрова жарче горят, как их заготавливать, где искать лучший топляк, когда поленница уже почти пуста; как длинными зимними вечерами переносить одиночество, как обходиться без городских удобств, как разводить огород и натягивать верёвки для трески, чтобы скопить в кладовой запасы на чёрный день, когда денег ожидать будет неоткуда.
Перед тем как его полотна пошли в продажу, он говаривал Чарли Фросту, что желает только одного – выставить свои работы в картинной галерее Бутбэя и скромно на это жить, поскольку он может писать лишь то, что ему интересно. Временами, впадая в уныние, он вспоминал годы, потраченные на работу художником по рекламе, и шутил, что было бы неплохо испробовать свои силы в ней заново и нарисовать, скажем, обложку для каталога компании "Л.Л.Бин" в обмен на приличные деньги, на которые можно купить муку, кофе и краски.
Иногда Эрик попадал под летний дождь, тогда он складывал этюдник и полотно и тащился назад в хижину. Порою ему казалось, что он вернулся во Вьетнам. В грохоте штормовой ночи он слышал рёв артиллерии; оказавшись под дождём, вспоминал патрули в сезон муссонов. По пути домой между деревьями бессознательно искал проволоку растяжек.
Война закончилась давным-давно, но страшные ночные кошмары остались. Ночами он вскакивал в поту, не понимая в первые мгновения, что это всего лишь сон. Когда его работы начали покупать, кошмары оказались одной из причин того, что он купил пса. Они становились не столь мучительны, когда рядом с койкой растягивался Моряк. Теперь среди ночи он просыпался, тёр глаза, наливал чашку крепкого чёрного чая, садился и разговаривал с собакой.
Но снился ему не только Вьетнам. Иногда являлась Бекки, школьная подружка, которая умерла от лейкемии, когда он учился в школе живописи. Ему снилось, что они сидят в её гостиной, в большом мягком кресле, в комнате полумрак, родителей нет. Снилось, что она садится к нему на колени, они обнимаются и целуются.
Эрик никогда не имел привычки разговаривать с самим собою, но год назад, когда появился Моряк, он стал это делать часто. Как правило, поблизости не оказывалось никого, кого это могло бы обеспокоить, но однажды один рыбак услышал, как он, выбирая продукты в магазине, весело разговаривает вслух; рыбак, показывая на него пальцем, громко зашептал своему сыну: "Это художник с холма. Опять разговаривает сам с собой; как бы бедняге не свихнуться..."
До Эрика дошло замечание рыбака, и его захлестнула волна смущения. Он совершенно забыл, где находится, забыл, что вокруг люди, что его размышления вслух могут их обескуражить.
– Кому какое дело, что думает человек? – печалился он Моряку в тот же вечер в хижине. – Если он живёт один, это не значит, что ему не с кем перекинуться словом. Рыбаки всё время разговаривают в море. Блин, мне нравятся звуки моего голоса, точно так же как кому-то нравится своя подпись или вонь кишечных газов под одеялом. Когда я задаю себе вопросы, то даю на них очень хорошие ответы, очень хорошие. Кроме того, Моряк, я скорее буду разговаривать с тобой или сам с собою, чем со многими известными мне людьми. Верь моему слову!
Моряк понимающе смотрел на хозяина и вилял хвостом.
Когда он приезжал в город, художники на материке тут же начинали поддразнивать его, называя "Крузо с острова Рождества", а его пса Моряка "Пятницей". Но все эти насмешки были в шутку, и он не придавал им значения. Прозвище ему даже нравилось. Оно подошло, как старый башмак. Как он жил, как работал... всё это на самом деле немного напоминало старика Робинзона.
На острове Моряк повсюду сопровождал его и, если море оставалось спокойным, даже плавал с ним в лодке на другие острова делать зарисовки. Многие из этих островов слишком малы, чтобы быть обитаемыми, но на них можно чудесно устроить пикник и рисовать целый день, и Эрик не упускал случая. В бухточках этих шхер для ловли и хранения сельди рыбаки соорудили загоны из жердей и мелкоячеистых сетей.
Со стороны сердцеобразные загоны напоминали сетчатые спортивные площадки, соединённые с берегом длинными рядами столбиков, переплетённых канатами и называемых оградой. Сельдь, следуя за волной прилива, сталкивалась на своём пути с оградой загона и поворачивала от берега в море, чтобы обойти препятствие. Но вместо этого ограда направляла её к устью загона, а уж в загоне сельдь безостановочно накручивала восьмёрки, отбрасываемая к центру изгибами загородки.
Многие загоны годами простаивали без работы, но по-прежнему оставались чудом формы и содержания. Эрик находил их очаровательными; ему нравились повторяющиеся, абстрактные орнаменты, которые оставляли их тени на мелкой воде во время отлива.
Эрик любил использовать узнаваемые образы так, как использовал бы художник-абстракционист; он верил, что в реалистическом искусстве важна абстракция, в то время как лучшее абстрактное искусство передаёт потрясающее ощущение реальности. И очень любил потолковать об этом с Моряком.
"Собака – вот вся моя семья, никого больше мне не надо", – думал он. Мужчина прекрасно может обойтись без жены. Но если у него когда-нибудь водилась собака, то жить без неё уже невмоготу. Казалось, пёс так заполонил его сердце, как никогда не удавалось ни одной из женщин.
На четвёртом году пребывания на острове Эрик стал наведываться на материк примерно раз в месяц. Его уже знали как живописца восточного Мэна, и кое-кто из находящихся на отдыхе попечителей искусств из Бостона или Нью-Йорка проявляли интерес к его работам. И хоть писать он мог только по одной картине в месяц, деньги замечательно помогали ему сводить концы с концами.
Эрик понимал, что отсутствие женской любви приносит боль и одиночество, особенно когда не ладится работа. Он не умрёт от этого, конечно, но опасался, что полное отсутствие секса осушит источник его искусства, и потому заводил связи с женщинами с материка. Ни одна из этих связей не переросла в длительные отношения. Иногда женщины оставались рядом с ним по нескольку дней, и ему нравились эти периоды, потому что ему были нужны перерывы и потому что ему необходимо было побыть с женщиной. Но он не хотел, чтобы женщины задерживались на долгий срок, даже если они ему очень нравились, и радовался, когда они возвращались в Бутбэй и можно было вновь сосредоточиться на живописи.
Эрику понадобились годы, чтобы научиться писать в строгой манере. Он учился рисовать в художественной школе, с годами мастерство его росло, но когда из иллюстратора он стал живописцем, именно дисциплина далась ему особенно тяжело.
То была не просто дисциплина каждодневного рисования. Оно-то как раз давалось с лёгкостью. То была дисциплина руки и кисти. Дисциплина ума, глаз и воображения. Дисциплина сердца и дисциплина духа. Это означало сочетать в себе все эти дисциплины, собрать весь опыт, все знания, всё, что в нём было, и отдать работе.
Всё глубже погружаясь в работу, он стал более требовательным к тому, чтобы заставить руку передавать именно то, что хотелось. Наконец, он нашёл, что из него получается дисциплинированный и трудолюбивый художник. И это придало его жизни новое значение и указало новое направление.
Он помнил, как впервые приехал на остров. Как быстро и бесцельно переходил от одной картины к другой в отчаянных попытках найти себя, но не сконцентрировав, не сосредоточив свой ум и тело на том, чтобы написать то лучшее, что ему предназначено, чтобы наполнить полотна настроением и душой.
Эрик чувствовал, что не всего ещё достиг, что познал не всё, что нужно знать о живописи. Напротив, он постоянно искал и не находил каких-то абсолютных истин. Но он выучился полностью отдаваться каждому своему начинанию, и это проявилось в его работе так же, как и сам остров. Всё это теперь уже казалось ему таким простым.
Здесь у него было всё, чего он мог желать, и он был счастлив как никогда. Он ездил в магазин на покрытом ржавыми пятнами грузовичке-пикапе по нескольку раз на неделе: купить продукты, забрать почту, пообщаться с соседями. Он готовил еду в дровяной печке и освещал дом керосиновыми лампами, но не потому, что экономил на электричестве, а потому что ему нравилась такая романтика. И у него был первоклассный нужник с двумя толчками, который юный Том в минуту озорного патриотизма размалевал звёздами и полосами, добавив полумесяц на двери. Уборная стояла над скалами, и в хорошую погоду Эрик любил оставить дверь открытой и любоваться оттуда океаном и снующими туда-сюда рыбачьими лодками, почитывать каталог компании "Сирз", выдирая из него страницы на подтирку, или просто сидеть и размышлять о своих грехах, наслаждаясь свежим морским воздухом.
Зимой, когда бушевали шторма и всё дышало холодом и сыростью, он обогревал хижину огнём камина, в котором жёг топляк. С западной стороны дома он набросал большую бесформенную кучу из коряг. Из дерева, выбеленного солнцем и отшлифованного ветром и водой. Были в нём куски – не на что смотреть, но попадались настолько замечательные фигуры, что он отказывался их жечь. Но он знал, что бури выбросят на скалы ещё больше дерева, и он будет собирать его, распиливать бензопилой на чурбаки и складывать там, где его высушат ветер и солнце.
Иногда по ночам он гасил лампу, ложился поближе к камину и смотрел, как в сгорающих поленьях играют красками морская соль и песок. Приятно смотреть на соль и песок, но сколько же проблем от них для режущей цепи!
В самой хижине Эрик переделал общую комнату в изостудию. В доме было три окна, способных впустить достаточно света, и пол из широких неструганых половиц. Когда он забывал надеть башмаки, то всегда вгонял занозы в босые ноги. Была там маленькая спальня, где он спал, в ней помещалась только железная койка с грязным голым матрацем, укрытым старым армейским одеялом, знававшим лучшие времена и исполнявшим роль и покрывала, и мохнатой наволочки. Кухня была самой большой комнатой в доме, всегда светлая, тёплая, уютная. Там Эрик поставил кушетку и растягивался на ней, ожидая, когда закипит чайник. Имелись у него два стула, тяжёлый стол и во всю стену от пола до потолка книжная полка, сколоченная из найденных в дровяном сарае обрезков. Вся полка была забита жизнеописаниями знаменитых писателей и художников, множеством романов, сборниками стихов и рассказов да ещё книгами, повествующими о работе таких известных и авторитетных мастеров, какими были Гомер, Уайет, Сезанн, Моне, Дега, Ренуар, Писсаро, Пикассо, Ван Гог, Рембрандт, Да Винчи, Гоген, Милле, Брейгель, Босх, Гойя, Дали, "Группа семи", Эмили Карр и Роберт Бейтмен. Кроме того были книги о море, созданные Конрадом, Мелвиллом, Вилье, Карсоном, Кусто, Хейердалом, Дейна, Моуэтом, Лондоном и Хемингуэем.
К одном углу стоял холодильник, рядом с ним – старая печь Франклина, вся изъеденная ржавчиной, но с блестящей никелевой отделкой. К кухне примыкали маленькие сени, рядом с которыми на второй этаж вела лестница, где находились четыре нетопленные спальни: их он использовал как склад для рисовальных принадлежностей и полотен различной степени завершённости.
Воду для умывания и питья Эрик брал из неглубокого колодца в пятидесяти ярдах от дома, сразу за дровяным сараем. Колодец был небольшой, и дожди почти всегда наполняли его до краёв; цветом вода напоминала светлый спитой чай, но была чиста, и со временем он к ней привык.
Вечерние субботние омовения были ритуалом утомительным: набрать воды оцинкованным ведром из колодца, тащить ведро в хижину, греть воду на печке и лить кипяток в деревянную бочку, потом принести ведро холодной воды, чтобы смешать холодную воду с горячей до приемлемой температуры. На это уходило немало времени, и он приноровился мыться, как он говорил, "в чайной чашке". Увлёкшись рисованием или чувствуя себя больным и усталым, или в сильные холода на дворе, он грел воду в тазу и обтирался губкой. Он старался поддерживать чистоту тела и регулярно питаться, но порой, когда шла напряжённая работа над картиной, он забывал и еду, и сон. Некогда было даже сходить в уборную, и потому для облегчений он ставил яркий весёленький горшок возле мольберта.
Мусор он сжигал в старой 200-литровой бочке из-под бензина, и, подобно остальным островитянам, когда зола наполняла бочку, он втаскивал её в кузов своего грузовичка и вёз на другой конец острова, на свалку.
Телефона он не имел. Он ненавидел телефоны и не хотел, чтобы ему докучало безумное изобретение Александра Белла. Даже на материке он не пользовался телефоном. Он чувствовал себя неуютно, разговаривая по телефону с теми, кого не было с ним рядом. К тому же, он считал, что, если поставить аппарат, его подключат к общему телефонному проводу и будут беспокоить звонками днём и ночью. Если возникала необходимость поговорить, он предпочитал идти прямо к человеку. Электронным хитростям и дьявольским звонкам он предпочитал контакты с глазу на глаз. Помимо прочего, телефоны всегда приносили дурные вести и вторгались в личную жизнь. Он мог замечательно обойтись и без телефона. Если нужно было связаться с кем-нибудь, всегда можно было воспользоваться телефоном-автоматом в магазине. Но такая необходимость выпадала редко.
ГЛАВА 7. «СУРОВОЕ МОРЕ»
"Нантакет! Разверните карту и найдите его. Видите? Он расп о ложен в укромном уголке мира; стоит себе в сторонке, далеко от бол ь шой земли, ещё более одинокий, чем Эддистонский маяк...
Что же удивительного, если теперешние нантакетцы, рождённые у моря, в море же ищут для себя средства существования?"
По утрам дюжие небритые мужчины в шерстяных куртках, высоких, скатанных вниз резиновых сапогах и непромокаемых плащах собираются на причалах Тюленьей бухты, чтобы переговариваться друг с другом смачным, как суп из моллюсков, языком, сдобренным акцентом восточного Мэна, и готовить смаки к ещё одному длинному дню, полному изнурительного труда, ибо только море даёт жизнь этому острову.
В самодостаточности, что позволяет чинить упрямый двигатель и латать сеть, сквозит гордость. Есть множество людей, которые из огромного разнообразия профессий к своей приходят случайно; есть люди, которые профессию выбирают, и совсем немного таких, которые рождаются для какой-либо деятельности. Рыбаки принадлежат к последней категории, они рождены для рыбалки, потому что в бедных прибрежных сообществах, где выбор невелик, работать в сырость и стужу, забрасывать сети и ставить ловушки всё-таки лучше, чем пухнуть с голоду.
Здесь мальчики девяти-десяти лет в крохотных непромоканцах и резиновых сапожках становятся на деревянные ящики, чтобы достать до разделочного стола, но держатся при этом маленькими мужчинами. К тому времени, как их состарит жизнь, проведённая в таскании снастей из моря, их руки скрутит артритом так, что они едва будут способны держать иголку для латания сетей или ставить своё имя на чеках. Всегда можно узнать рыбака-северянина по опухшим пальцам и вялому рукопожатию, по задубевшим, огрубевшим от постоянного воздействия воды ладоням. Изумление вызывает факт, что на острове Рождества вообще кто-то остаётся, исключая, конечно, тех, кто слишком упрям, чтоб уехать, или слишком стар, чтобы менять что-либо.
Однако нравится это жителям или нет, но остров меняется.
Главная неприятность заключается в том, что связанные омары и потрошёная треска, доставляемые к воротам рыбозавода в Бутбэе, могут дать лишь несколько центов за фунт. А потребителям в Бангоре их продадут уже в двадцать с лишним раз дороже. Низкая цена на улов всегда была удавкой на шее рыбака, поэтому в наши дни островной экспорт состоит не только из рыбы и омаров, но также из детей. Маломерный флот умирает, на смену ему приходят ведомые компаниями траулеры и драггеры. Это значит, что меньше юношей смогут стать, подобно отцам, самостоятельными рыбаками. Но и из тех, кто не сможет, лишь малое количество получит койку на больших промысловых судах.
Рыбалка приносит человеку удовлетворение от того, что он сам себе голова и никому не обязан давать отчёта кроме себя самого. Вот отчего на острове Рождества до сих пор существует бешеное противостояние переменам. Такое уж это место...
Именно поэтому здесь привычны чих и кашель движков, звон роняемых на палубу отвёрток и гаечных ключей, гомон голодных чаек над головой, высматривающих вкуснятину на завтрак, боязливые стенания пролетающих гагар, шум ветра, поющего в такелаже шлюпов, и пронзительный вой взлетающих с сине-серой воды гидропланов. Бриз наполняет грудь острым пряным ароматом океана, и флот из пятидесяти судов выходит из бухты и сквозь жуткую синь тумана устремляется к районам промысла, где мужчины забрасывают сети и устанавливают омаровые ловушки и где ветер и солёные брызги исхлёстывают лица до красноты сырого мяса.
Работа монотонна, но тут и там случаются неожиданности: то шквалы тебе, то зори; сети то пустые, то полные, или, например, аварии бросают вызов изобретательности. На промысле, стоя борт к борту, мужчины травят анекдоты, обмениваются новостями, обсуждают погоду, жалуются на трудные времена и без устали изучают палубы соседних смаков, ведь чужой улов всегда так хорош, а собственная удача так редка.
– Меня выводит из себя каждый подъём, – жалуется шкипер одного из судёнышек. – Господи, пора заканчивать с такой работой. Всё что я поймал – каких-то 45 рыбёшек. Дайте мне два приличных замёта, и, честное слово, я буду счастлив, как полная ракушек моторная лодка...
Игра в плачь по горькой судьбе стара, как сама рыбная ловля; викинги, китайцы и островитяне южных морей играли в неё ещё две тысячи лет назад.
Зачем же, в таком случае, люди выходят на рыбалку в море?
Эта игра мало имеет отношения к жизни. В жалобах рыбак обретает утешение и скорее зачахнет и умрёт, если ему придётся работать на фабрике на большой земле. И ещё: здесь – свобода. Северо-восточный ветер дует со скоростью двадцать узлов, этого хватает, чтобы взбаламутить море, и море хлюпает в шпигатах и брызжет пеной на лодыжки рыбака. Ноги широко и твёрдо упираются в палубу, челюсти пережёвывают табак, а шхуна качается и скачет по волнам, и ветер свистит в спутанных солёных волосах. Может быть, этого не так уж много, но здесь рыбак – бог и вольный человек. И во всём Портленде не сыскать клерка, который мог бы заявить такое о себе.
Искать омаров всё так же трудно, ибо эти воды коварны; иные рейдовые рыбаки утверждают, что нужно точно знать, куда идти и где находиться на случай, если подует сильный ветер и придётся подавать сигнал бедствия. Тем не менее, рыбак всегда готов бросить работу – пусть даже посреди подъёма сети, пусть в ущерб себе, – чтобы поспешить на помощь попавшей в беду лодке товарища, зная, что и его двигатель может заглохнуть во время бури и его беспомощное судно понесёт ветром на мель. И потому шхуны, даже совсем старые и деревянные, оснащены радарами, эхолотами, радиосвязью и системой дальней радионавигации. Некоторые рыбаки осовременились настолько, что используют лодочные корпуса из стекловолокна, механические подъёмники ловушек, буйки из пенопласта и ловушки из проволоки, и это сильно изменило технологию ловли омаров; но большинство островитян до сих пор предпочитают суда, построенные традиционным образом: с кедровой обшивкой на дубовых шпангоутах и с килем. И любят верши для омаров из крепкого дуба.
Ловцы омаров с острова Рождества по одной ловушке посвящают своим жёнам. Омары из этих ловушек отсортировываются, а их стоимость идёт жёнам "на булавки", когда те соберутся на пароме в Бутбэй за покупками.
Омароловы не любят говорить о том, сколько зарабатывают за год, даже не заикаются об этом. Летом же отдыхающие задают этот вопрос постоянно, и рыбакам это страшно не нравится. Но зарабатывают они всё-таки прилично и поэтому ездят на легковушках и грузовичках последних моделей.
Омаровые буйки пестрят дорогими специфическими красками. Буёк – герб омаролова, он делает его из чистого кедра и придаёт ему самую разнообразную форму и окраску: толстые цилиндры с коническими концами, шестигранники и прямоугольники; оранжевые, и жёлтые, и красные, и зелёные с замысловатыми белыми полосами. В туман и ненастную погоду яркая расцветка хорошо заметна в море.
Верши по форме напоминают крошечные куонсетские ангары и, наверное, были позаимствованы у индейцев, так же как ловушки на угрей и запруды. Верши делают из тщательно подогнанных дубовых перегородок, арок и перекладин. Балластом в них служит цементная плита с нанесённым чёткими печатными буквами именем владельца. И поднятие двухсот таких ловушек при штормовом ветре да при сильных придонных течениях и противотечениях стоит омаролову немалых нервов.
Манильский трос – линь, соединяющий ловушку с буйком, – очень дорог. Для ловли на больших глубинах у островитян уходят сотни бухт и тысячи морских саженей такого троса. На промысле омаров дёшевы только бутылки с шарнирами, – поплавки, прикреплённые в одном-двух местах к тросу, чтобы тот не ложился на дно во время отлива или при перемене течения. Поплавками служат пустые бутылки из-под виски, затыкаемые резиновыми пробками, – побочный продукт весёлых пирушек и проведённых взаперти ненастных дней.
Вокруг острова чрезвычайно много подводных скал и рифов, поэтому даже на лодке-дори выходить в море опасно. Имя легион тем судам, что за многие годы потерпели здесь крушение; затонувшие корабли остаются предметами ужаса в туманные дни и чёрные ночи бушующих бурь, несмотря на изощрённое электронное навигационное оборудование. Повсюду скрытые выступы и камни, всюду вихри и водовороты, злые течения и мели, а весной и летом, даже в безветрие, прибрежные туманы застилают солнечный свет днями напролёт, а то и неделями. Рыбаки не знают точного расположения всех камней, зато точно знают, где их нет. В доках, на доске объявлений, под стеклом, висит карта кораблей, затонувших в водах вокруг острова Рождества. Карта испещрена маленькими безжалостными крестиками, за каждым из которых – судно. Крестики целыми архипелагами разбросаны по карте.
В этом гибельном море несчастные случаи привычны, коммерческое рыболовство – опаснейший национальный бизнес; смерть здесь случается в семь раз чаще, чем в среднем по стране, и в два раза чаще, чем в горном деле, второй по опасности отрасли после рыболовства. Частично причина кроется в недостатках техники безопасности в рыбодобывающей промышленности.
Редкий день море вокруг острова Рождества спокойно. Даже летом сильные шторма вспенивают море внезапной яростью. Ещё утром океан лежит плоский, как плита полированного мрамора, а в полдень в ближние шхеры врывается воющий ураган, неся потоки дождя, шквалистый ветер и высоченный прибой. Дурной сон для мореплавателя.
Страшно тогда оказаться в море, потому что помимо прочего остров Рождества – это ещё и край "историй с привидениями", это сцена с коварными сюрпризами для моряков, застигнутых яростным ураганом и ослеплённых внезапными встречными туманами, быстро наступающими из открытого моря. Вечный холод, туманы и вздымающиеся океанские валы держат рыбаков в постоянном напряжении, всегда на нервах; и в задумчивом молчании они возносят молитвы о благополучном возвращении с уловом домой, к семьям. В такую пору Финниганз-Харбор становится не просто точкой на карте, но скорее неким душевным порывом.
Конечно, есть те, кто не возвращается, и потому море в этих краях – каменистое кладбище лодок и рыбаков, погибших в водах, редко прогреваемых до 50 градусов и способных за несколько часов убить несчастного, смытого за борт, если на нём нет термокостюма. Островитяне уверены, что призраки погибших моряков бродят по этим унылым, исхлёстанным ветром берегам. И всё же для рыбаков острова Рождества море является не столько предметом великой красоты и великой опасности, сколько рабочим местом, в высшей степени реальностью жизни. Они относятся к морю и как к возлюбленной, и как к господину. Море может быть добрым и даровать жизнь, и оно же может быть холодным, жестоким, безжалостным и отнять её. Так было и так будет. И потому рыбаки благоговеют перед Творением и преклоняются перед его грандиозной мощью.
Зимой здесь постоянно и с необузданной яростью дуют ветра, они рождаются над Южной Америкой и проникают до Ньюфаундленда, до залива Святого Лаврентия и дальше на север. Зима приносит сильнейшие шторма, многие из которых начинаются в Карибском море. Можно сказать, что с сентября по май ветер дует непрестанно. Свистящий ураган налетает с юга, и затем, месяц за месяцем, ураган сменяется ураганом, неся дождь, и град, и снег, и слякоть.
Во время жесточайших североатлантических бурь не редок ветер до пятидесяти и даже шестидесяти узлов, иногда зашкаливает и за сто. Вздыбившееся море вскипает громадными бурунами в тридцать футов высотой, и день за днём они пенятся, разбиваясь о гранитные кручи и шипя в каменных щелях. За долгие годы остров искрошился под натиском неослабевающих ударов, и во время отлива обломки былых времён обнажаются, словно только и ждут случая вспороть брюхо неосторожному кораблю.
Когда ожидается особенно сильная буря, то шхуны в бухте привязывают дополнительными швартовыми канатами и все стараются не показывать нос из дому, если только не случится что-нибудь совсем уж непредвиденное. Хрипящий юго-восточный ветер всегда злобен и так силён, что приносит с собой аромат самого Гольфстрима.
Конец зимы – самое грязное время, ибо тогда открытые пространства побережья завалены не только древесным топляком и костями китов, но и неразлагающимся мусором людей: пластиковыми бутылками и пакетами.
Со стороны похожий на клин, остров Рождества в длину тянется на шесть миль и имеет три мили в поперечнике в самом широком месте; он входит в состав небольшого архипелага. В архипелаге он самый большой, к западу, югу и северу от него лежат ещё двадцать два островка, местами образуя естественную защиту от ветра. Архипелаг – это замысловатый рой островов с изрезанными мысами, укромными заливами и бухтами в форме полумесяца, которые, между прочим, служат птичьими заповедниками, местами гнездования арктических и обыкновенных крачек, буревестников и гагарок. Защищённые воды лучших промысловых банок кишат огромным количеством планктона, рождённого мощными приливами и стремительными холодными течениями. Изобилие пищи привлекает не только косяки промысловых рыб, но и поразительное разнообразие морских млекопитающих, включая бурых дельфинов и несколько видов китообразных. Помимо горбачей и финвалов в этих водах временами можно встретить даже такую редкость, как гренландский кит.