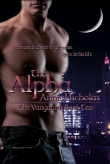Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
– Она кружит в этом районе всё лето и не собирается уходить. Скорей всего, это старая одинокая акула, которая больше не может соперничать в открытом море. Кто-то же должен что-то с ней сделать!
– Мы лишь простые моряки, Эрик.
– Я понимаю, Чарли, но...
– Мы каждый день выходим в море и рискуем. Такова судьба рыбака. Мы принимаем эти опасности. На этих просторах всегда появлялись большие акулы, и всегда они как-то исчезали, даже если задерживались здесь надолго. С этой акулой будет точно так же, вот увидишь, она мигрирует на юг – только мы её и видели. Сдаётся мне, у нас хватает своих опасностей, чтобы искать на задницу ещё каких-то приключений.
– Я должен найти способ...
– Ты можешь убить эту, сынок, но приплывут другие и займут её место. Ты не можешь уничтожить всех акул в море. Акулы – это мусорщики океана, они часть естественного порядка вещей...
– А что если она не уплывёт? Что если вернётся в следующем году?
– Они водились здесь миллионы лет, сынок, и будут водиться здесь и после нас с тобой.
– Что если она решит напасть на твоё судно?
– Надеюсь, не решит, ну да я ничего не могу с этим поделать. Может быть, тебе нанять какое-нибудь промысловое судно в Бутбэе? Они охотятся на акул.
– Они маленькие. Нельзя будет поднять акулу таких размеров на их тали. Эту сволочь надо загарпунить, но у меня нет для этого денег.
– Хм, думаю, это будет стоить кучу денег: три сотни зелёных в день без всяких гарантий...
Как бы то ни было, никто не захочет связываться с этой работой.
Смешно, а ты думал, что Бутбэй что-нибудь да предпримет: наймёт кого-нибудь, то бишь, эксперта, чтобы прикончить её, как это сделали в "Челюстях"? Я слышал, есть капитаны чартерных судов, которые ни за чем больше не гоняются, а только за акулами – аж до самого Монтока, что на оконечности Лонг-Айленда.
В пятницу я разговаривал о ней с Боппом. Он говорит, что город не собирается ничего делать... что акула – это хороший бизнес и что многие торговцы хотели бы, чтобы она оставалась здесь. Если б сюда приезжали люди, чтобы искупаться, это было бы другое дело. Только вода слишком холодная. Сюда приезжают поесть, порыбачить да покататься на лодках. Всё лето люди выходят в море на круизных судах, чтобы только увидеть большую акулу, о которой им все уши прожужжали. Вот если б она напала на экскурсионное судно, тогда бы что-нибудь изменилось.
М-да, нет ничего необычного в том, что большая белая завелась в этих водах. Ты знаешь это так же, как мы все. Может, всем нам нужно лишь чуточку больше быть настороже, когда мы тянем сети и проверяем ловушки...
Пришла пора заканчивать с выпивкой. Чарли сказал, что ему ещё нужно повозиться с магистральным насосом, потом починить несколько омаровых ловушек, и что до ужина, если останется время, он намерен покрасить буйки.
Эрику не удалось найти никого, кто взялся бы вместе с ним охотиться на большую рыбу, поэтому он загнал свою ярость внутрь, глубоко, чуть ли не в самые ботинки, и, пытаясь наладить свою жизнь, затаил её там. В конечном итоге он решил, что снова начнёт писать всерьёз.
Хелен, услышав эти новости, вздохнула с превеликим облегчением.
ГЛАВА 16. «ПРЕКРАСНОЕ БЕЗУМНОЕ НАВАЖДЕНИЕ»
"Как он исчах и ослабел за эти несколько долгих, медлительных дней! В нем теперь почти не оставалось жизни, только кости да тату и ровка. Он весь высох, скулы заострились, одни глаза становились все больше и больше, в них появился какой-то странный мягкий блеск, и из глубины его болезни они глядели на вас нежно, но серьезно, озаренные бессмертным душевным здоровьем, которое ничто не может ни убить, ни подорвать".
Лето неторопливо перетекло в осень, акулу больше никто не видел, и на острове высказывались предположения, что на зиму она ушла на юг и уже не вернётся.
Эрик работал усердно и настойчиво, и дни его пролетали незаметно. Упрямая решимость влекла его сквозь тернии, мужественно и целеустремлённо он встречал неудачу за неудачей, но в картинах его не было пока ни лучика, ни тени надежды – того качества технических навыков и проницательности, которое отличало его предыдущие работы. Он не мог заставить свою правую руку выполнять то, что хотел. Он продолжал смотреть на новые предметы "старыми" глазами, не умея отбросить прежние идеи и ухватить свежий образ окружающего, который сработал бы на него. Несмотря на разочарования, он наслаждался сложностью задачи и напряжением сил, которого вновь требовало от него искусство. К нему вернулось мужество, а вместе с ним и вера в себя, вера в то, что он, в конечном счёте, добьётся прорыва, если только будет неколебим в своём намерении писать правой рукой так же хорошо, как писал левой. Суровые зимние месяцы сменились весной, а он всё работал и работал и каждую неделю встречался с Хелен, чтобы выслушать либо одобрение, либо критику своих картин.
Незадолго до Дня поминовения один рыбак из Бутбэя сообщил, что большая акула много миль преследовала его баркас. Неделю спустя другой рыбак сообщил о схожем происшествии; тогда, как и в прошлом году, береговая охрана передала сигнал тревоги всем морякам.
4-го июля, в день официального открытия летнего сезона, пост береговой охраны в Бутбэе получил известие, что огромная белая акула напала на два рыболовецких судна у острова Монхеган. Затем в первую неделю августа рыбак из Саут-Бристола передал, что большая акула сожрала скумбрию в его сети, прокрутилась несколько раз вокруг себя и, щёлкая острыми, как бритва, зубами, изодрала сеть в клочья.
Однако настоящая беда случилась возле острова Рождества вскоре после Дня труда. Всю ту неделю дул крепкий юго-восточный ветер и бушевал шторм, такой сильный, что можно было уловить запахи Гольфстрима, а за этим ударом последовали три дня жестокого северо-западного ветра. Наконец непогода улеглась, наступила череда тихих безмятежных дней, и в Финниганз-Харбор с материка зашёл смак, по всему видать, не очень искусный. Два покупателя со смака приобрели восемь тысяч фунтов омаров, уже с колышками и уложенных в ящики, и расплатились за них чеками. Не успело судно отойти и на пять миль, как его атаковала большая акула. Был подан сигнал бедствия, но, прежде чем кто-либо из рыбаков смог туда добраться и оказать помощь, судно затонуло и оба человека погибли. Чеки, которые утонувшие моряки намеревались оплатить, быстро продав груз, вернулись с пометкой "недостаток средств на счёте", и единственным положительным моментом было то, что все омары разбежались и, с колышками в клешнях, вновь стали попадаться рыбакам.
Эрик подозревал, что это была та же рыба, которая откусила ему руку и проглотила его собаку, но полной уверенности не было. Сведения об этих случаях были противоречивы: один рыбак сообщал, что в длину акулы достигала примерно двадцати двух фута, другой же утверждал, что всего лишь около шестнадцати.
Лето снова сменилось осенью; Эрик отдавал работе всё своё время. Он, как обычно, вставал рано и спускался от своей избушки вниз по тропе и со стороны был похож на пожилого хиппи. День за днём он надевал одну и ту же одежду: латаные заляпанные джинсы, поношенный шерстяной свитер, старые резиновые сапоги и красную бандану на лоб, чтобы длинные русые пряди не болтались на ветру и не мешали глазам. Его тёмно-рыжая борода, год уж как не стриженая и отмеченная сединой, топорщилась плотными густыми прядями во все стороны и полностью скрывала шею. Рисовальные принадлежности и этюдник он таскал на спине и подчас путь к пирсу проделывал на пару с Чарли Фростом, повествуя тому о живописи и своих целях, и при этом взволнованно размахивал руками и отчаянно жестикулировал. Чарли мало смыслил в том, о чём толковал ему Эрик, ну да это не имело значения. Он понимал, что живопись вновь заняла важное место в жизни Эрика, и был счастлив за него. А Эрик, исполненный надежд, просыпался в пять утра и начинал свой день; порой он уходил из дому ещё до восхода солнца, чтобы уловить дивную утреннюю игру света и теней, и, пытаясь поймать изменчивые оттенки моря и неба, не возвращался до самого заката.
Эрику нравились и зима, и весна, и лето, но среди всех времён года осень была его любимицей, в особенности тот её отрезок, что зовётся бабьим летом. Осень всегда бывала чудесна на острове Рождества, эта же осень была по-особенному красива. Тёплые дни стояли полны истомы, солнце светило мягко, и воздух был напоён неуловимыми колыханиями бриза. Суда либо неподвижно стояли в гавани, либо медленно дрейфовали с отливом в открытое море. На востоке клубились тучи и плыли в сторону земли, предвещая бурное дыхание зимы. Трава на окрестных полях была ещё зелена, но местами уже начинала желтеть и сухо шуршала на ветру. Густые рощи клёнов, берёз и сумаха наполнились яркими пятнами алого, оранжевого и золотого – ни один художник не мог и мечтать повторить эти краски. В воздухе витали настроения тач-футбола, а по ночам преобладающий юго-юго-западный ветер освежал и бодрил, уже вея еле уловимым предчувствием заморозков: дул мягко, но настойчиво. Листья дымились в кучах на задних дворах подобно дымарям, а над головой раздавались клики канадских гусей: большие стаи правильными клиньями летели на юг по необычайно глубокому синему небу. Казалось, каждый дом, где есть дети, в ожидании Хэллоуина выложил у дверей по яркой оранжевой тыкве с вырезанной на ней смешной рожицей. А универмаг Била торговал восхитительными яблоками в сиропе.
Лето близилось к концу, хотя и задержалось в этом году; оно незаметно замирало и перетекало в ноябрь. Зима же на острове Рождества означала на просто отсутствие лета. Напротив, она бывала сурова и жестока.
Иногда вместо занятий живописью Эрик отправлялся на материк на грузовичке и, чтобы запастись дровами, углублялся в леса Мэна. Он разыскал прекрасную ольховую рощу и так валил в ней деревья цепной пилой, рубил сучья и грузил чурбаки в пикап, словно у него было две руки. Он возвращался на остров, колол дрова и укладывал под навес просохнуть до зимы. В другие дни он отправлялся на небольшой пляж на острове и набивал кузов пикапа лесом, прибитым к берегу. Единственная загвоздка состояла в том, что ил и песок покрывали топляк сплошняком, а это никуда не годилось для цепной пилы, ибо потом приходилось уйму времени тратить на то, чтобы править её, и потому на берег он ездил нечасто. Но ему нравилось готовиться к холодной зиме, и когда среди рубки дров хотелось отдохнуть, он присаживался на чурбак, смотрел в небо, ощущал текущие по волосатой груди капли пота и с наслаждением подставлял лицо тёплым солнечным лучам. Любуясь поленницей, он обретал спокойствие и радовался, сознавая, что независимо от того, будут у него деньги на еду или нет, он всё равно будет согрет, потому что в достатке припас берёзы и ольхи, чтобы камин его пылал во все грядущие зимы. Однако порой ему нравилось устраивать себе день отдыха: тогда он бродил по острову просто так, без цели, ступал по листьям, павшим на лесную почву, и прислушивался к их шуршанию под сапогами. Ярость его немного улеглась. Уже больше года прошло с тех пор, как он потерял руку; несчастье теперь казалось таким же далёким, как Луна.
Неслышно подкралась поздняя осень, дни стали короче, воздух холодней, но Эрик не разводил огня в камине и не пребывал уютно в студии, рисуя по слайдам и полевым наброскам. Нет, подобно рыбакам, он уходил на волю, чтобы писать на ветру, в дождь, сырость и туман. Порой яростные ноябрьские бури, налетавшие внезапно и терзавшие остров дни напролёт, захватывали его далеко-далеко от дома. Песок и каменная крошка тогда попадали в непросохшие масляные краски и его холсты становились шероховаты, как наждачная бумага, и покрывались налётом соли, так что трудно было на ощупь определить, где заканчивал он и где начинала природа – так тесно переплелись они вместе. Дождь мочил его, ветер пробирал до костей, иногда настолько деревенели пальцы, что он не мог удержать кисть в руке и ронял её. Но он не обращал внимания ни на холод, ни на песчинки, хлещущие по лицу; он полностью забывал о себе во время работы и упивался каждым её мгновением.
Ему бы только заработать на жизнь, на самую простую жизнь своими трудами – вот всё, чего он добивался. Тогда б он смог пойти дальше, смог бы снова стать независимым, лишь этого желал он от жизни. Эрик жалел каждый грош, который тратил на житьё. Он охотнее тратил бы деньги не на пищу, а на тюбики с краской: на титановые белила, на берлинскую лазурь, на кадмий жёлто-оранжевый да коричневый пигмент, как у Ван Дейка, – вкупе с холстами, кистями, рамами покрупнее и этюдниками попрочней. Каждое утро он устремлял стопы прочь от хижины в надежде, что напишет сегодня такую картину, которая ознаменует для него прорыв, картину, которую немедленно купят в галерее Хелен. И каждый вечер устало брёл назад, неся в душе горькое сознание того, что ему ещё ох как далеко и до желанного мастерства, и до картины, которую захотят приобресть.
Все его старые беды оставались при нём, как и прежде. Он не мог отстраниться от своей работы и разглядеть, где выбран верный путь, а где нет. Работал он теперь быстро, и счета за краски и холсты стремительно росли. Он вдруг понял, что не может писать детально, не может работать медленно и скрупулёзно, как раньше. А писал он до десяти картин в неделю.
Он слишком торопился вернуться к тому, чем уже владел однажды, и что, как он считал, ему следует обрести сейчас.
– Я закоснел в своей технике. Я не могу всё начать сначала. Что же делать? Что из меня выйдет? Целый год я пахал как проклятый, а вернулся туда, откуда начал, – бормотал он про себя. – Наверное, я слишком мало понимаю природу красоты. Мне бы только добиться бСльшего понимания. Мне б только увидеть свои промахи. И не полагаться на случай в работе, которую делаю. Я работаю словно в темноте. Нужно сбавить обороты и всё обдумать...
Но у него не получалось.
Он видел предмет, и предмет живо отражался в его мозгу, но он не мог заставить себя сесть и подумать, как достичь желаемого результата. Он кидал краски на холст широкими мазками, пытаясь изобразить то, что видел в голове, но когда заканчивал, понимал, что вышло совсем не то. В самые мрачные минуты он решал, что у него вообще нет никакого собственного суждения. Что он всего лишь обманывающий себя самоучка. Он сравнивал себя с другими, и ему становилось горько. И что самое противное, он до смерти боялся неудач.
Тогда он обращался к клочку бумаги, прикреплённому им к стене ещё тогда, когда он приехал на остров, – клочку, всегда его вдохновлявшему.
"Если станешь сравнивать себя с другими, тщета и горечь могут овладеть т о бой, поскольку всегда найдутся люди лучше или хуже тебя.
Радуйся достижениям и планам своим. Уделяй внимание делу своей жизни, пусть даже скромному; оно твоё подлинное достояние в изменчивых перипетиях судьбы".
Он каждый день пробовал новые цветовые комбинации и видел, что снова не попадает. Он доработался до исступления, отказывая себе в пище и отдыхе. Чем меньше он ел, тем больше работал. Чем упорнее работал, тем больше терпел неудач. От этого он возбуждался ещё сильнее и становился ещё более твёрд в желании достичь успеха. И лицо его озарялось творческим румянцем.
Он терял в весе, от него почти ничего не осталось. Хелен, навестив его как-то раз, советовала ему побольше есть и покупать более калорийную пищу.
– Эрик, ты не сможешь хорошо писать, если не будешь питаться, как положено. Постоянное голодание вредно для здоровья, это ненужный стресс...
– А я не смогу есть, как положено, если не смогу хорошо писать, – отвечал он ей. – Чёрт возьми, почему всегда приходится выбирать между пищей для желудка и пищей для души?
– Но у тебя должны были оставаться деньги на еду. Вспомни те картины, что ты уже продал...
– Я не касаюсь тех денег, Хелен. Неизвестно, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем я научусь писать так хорошо, что можно будет говорить о продаже картин.
Хелен глядела в его глаза, глаза цвета моря, запавшие так глубоко и горевшие так воспалённо. Она смотрела на высокий лоб и крепкий, обросший бородою подбородок, на небольшой нос со шрамом посередине и, наверное, в который раз понимала, что значит живопись для этого мужчины, понимала боль и смятение, которые он испытывал, если работа не удавалась.
"Крепи силу духа , чтобы она стала тебе защитой во внезапных невзгодах. Но не тревожь себя смутными грёзами. Много страхов родится от усталости и одиноч е ства. Не забывая о здоровой дисциплине, будь добр к самому себе. Ты такое же дитя вселенной, как деревья и звёзды; у тебя есть право быть здесь. Осознаёшь ты или нет, нет сомнений, что вселенная открывается тебе, как дСлжно. Потому живи в м и ре с богом, каким бы ты его себе ни мыслил..."
Когда возникала необходимость покупать краски, он садился на утренний паром, уходивший в Бутбэй, и там прямиком шагал в портовый супермаркет на Таунсенд-авеню. Юная продавщица случайно касалась его руки, показывая только что поступившие товары, а он вдыхал запах дорогих духов, сквозь свитер чувствовал горячую девичью кровь, и сознавал, как ему, отдающему работе неделю за неделей по шестнадцать часов в день, одиноко без Хелен и как много времени прошло с тех пор, когда он в последний раз был с женщиной.
Работая над картиной, он редко ел. Дома в студии не хотел даже терять времени на туалет. И мочился в старое ржавое ведро, стоявшее возле мольберта, и опорожнял его в конце дня.
Время шло, он всё неистовей приступал к картинам и писал со всё возраставшей скоростью и упорством. Он развивал бешеную активность и писал дни напролёт исключительно за счёт нервной энергии, так что даже из-за недосыпа начинались видения. Тогда он выходил глотнуть свежего воздуха и пройтись пару раз до пирса и обратно, разговаривая с самим собой и видя предметы, которых на самом деле не существовало. Рыбаки со своими жёнами считали, что он сошёл с ума, чего, собственно, от него и следовало ожидать, судя по тому, что жил он в одиночестве и работал так, как работал.
Неделями Эрик трудился без остановок, пока, в конце концов, не валился на пол и не забывался глубоким сном на целые сутки. Затем он приходил в себя, встряхивался, несколько дней отъедался для восстановления сил, и набрасывался на следующую картину, чтобы повторить весь цикл сначала. И так – снова и снова. Он работал, не выходя из дому. Он что-то ел – обычно несколько ломтиков хлеба с сыром, – запивал холодным кофе, но в какой-то миг мысль о еде начинала вызывать лишь тошноту, и в его кровеносной системе бушевало столько адреналина, что он перевозбуждался и не мог спать. Казалось, чем чаще у него не получалось, тем отчаянней и возбуждённей он становился, и потому он работал всё упорней и быстрей, падал с ног, рыдал и проваливался в сон.
– Нет, нет, вся картина неверна... – кричал он, пробудившись. Взмахом крюка кромсал холст и начинал всё сначала.
Хелен убеждала его, что духовное значение живописи в тысячу раз важнее правильного изображения. И потому если он считал, что души в картине не было, то впадал в ещё большее отчаяние.
– У меня опять не получилось. Никогда не получится, я попусту трачу время, во мне этого больше нет, – мучился он. – Эта работа мертва, как зеркальная поверхность.
Временами Эрик терял свою веру. И клялся, что бросит всё насовсем, но короткие промежутки без живописи приносили ещё больше мучений, и потому он снова начинал писать.
– Быть импрессионистом нормально, – говорила ему Хелен. – Не страшно, если твои картины грубы и несовершенны и смотрятся иначе, чем те, что ты писал раньше. То, чему ты сейчас учишься, – это смотреть на жизнь по-новому, пропускать мир через свою душу, через свой уникальный взгляд на вещи. Вот что такое импрессионист. Никто не может писать как ты, поэтому забудь о правилах и не сравнивай себя с другими...
– Но рука моя изменяет мне, Хелен! – восклицал он и изо всей силы ударял кулаком по столу, словно пытаясь размозжить её кости.
– Всё образуется.
– Мне уже за сорок! Сколько ещё нужно времени? Сколько ещё потребуется лет, чтобы работы мои стали достаточно приличными и снова могли выставляться?
– Просто поверь. То, чего ты добиваешься, со временем придёт...
Посему он продолжал, множил ошибки и заполнял пропасть в четыре тысячи оплошностей, которые, по словам Хелен, ему следует совершить, прежде чем он снова научится писать и заставит свою кисть делать то, что замыслил.
Незаметно мелькали месяцы, и с течением времени он научился глядеть на предметы по-новому. И писать он стал по-другому: широкой кистью, резкими мазками, густыми красками; стал пользоваться в пейзажах такими оттенками, о которых раньше и не мечтал. Он словно видел всё третьим глазом, и по мере того, как он старался, его бывший стиль гиперреализма трансформировался во что-то более импрессионистское. Он больше не стремился запечатлеть реальность с фотографической точностью, но создавал настроение и разными способами обнаруживал духовные качества своих сюжетов.
Но будут ли покупать эти полотна?
Он не был уверен. Но считал, что, по крайней мере, есть прогресс, и надеялся, что последующее полотно схватит то, что постоянно ускользало от него. Он работал на эту победную картину, жаждал её и надеялся, что, в конце концов, придёт и благополучие. Придёт. Придёт...
Он ясно понимал, что каждую конкретную картину можно рассматривать с разных уровней. Что люди не просто видят то, что видит и чувствует он, но что они также видят и чувствуют то, что сами привнесли в картину. И это как раз то, чем должно быть искусство. Люди должны не просто рассматривать картину. Они должны быть лично причастны к ней.
В начале февраля случилась оттепель, Эрик вышел рисовать, едва одевшись, промок под дождём и простудился. Он не придал этому значения, но вечером в хижине у него свинцом налилась голова и разболелись мышцы.
Он улёгся в постель пораньше, но к утру его уже ломал грипп вкупе с высокой температурой. Тут-то он понял, что имел в виду Чарли, когда говорил, что едва не умер здесь от гриппа. Его только поразило, как внезапно всё началось. Температура росла, а он никак не мог согреться. Он надел шерстяное бельё и свернулся калачиком под одеялом на гусином пуху, которое когда-то подарила ему Хелен, но только трясся и стучал зубами. Болезнь крепко принялась за него; он понимал, что от вируса нет лечения, ─ всё должно идти своим чередом. Он потерял счёт времени и не разбирал, день ли на дворе или ночь. Есть он не мог. Дом выстыл, но он был слишком болен, чтобы разжечь огонь в камине или в печи. Давило грудь. Лёгкие наполнились мокрСтой, и, лёжа в постели, он едва мог дышать. Ему пришло в голову, что он умирает и что могут пройти недели, прежде чем кто-нибудь его обнаружит. Он налегал на аспирин, но толку от него было чуть. Инфекция проникла в носовые пазухи, и боль была столь сильна, словно голову раскалывали топором. День проходил за днём, но ему становилось только хуже. Он пил много воды, но когда зараза набилась в уши, он вдруг обнаружил, что совсем оглох.
В то же самое время изменилась и погода. За окном завыл ветер, похолодало, и стены избушки занесло полуметровым слоем снега. Он подумал, что пища должна придать ему сил; он пополз на кухню и кое-как развёл огонь в печи. Бросил на сковороду три сосиски из холодильника. Он стоял у стены и смотрел, как шипят они и брызжут. Вдруг жир загорелся, но он, как заворожённый, лишь глазел на языки пламени.
"Ага, посмотрите-ка на огонь, – подумал он. – Это горит мой ужин. Какое красивое пламя".
Тут до него дошло, что огонь на кухне – не к добру.
"О нет, огонь. У меня на кухне пожар. Может сгореть моя избушка. Нужно что-то делать, но что?"
Лихорадка мешала соображать, а огонь меж тем уже лизал стену возле печи. Наконец он схватил сковороду, открыл дверь и швырнул её и скрюченные на ней сосиски в снег. Но при этом сам плюхнулся с крыльца, и казалось, назад в хижину ему уже не вернуться. Он полежал так, лицом в снег, и додумался, что здесь оставаться нельзя; тогда он попробовал встать и подняться по ступеням. Но ноги, обутые в кожаные мокасины, скользили на снегу, и он снова слетел с крыльца. Одно возникло желание – уснуть на снегу. И будь что будет. Он слишком устал. Он сделал несколько попыток и поднялся-таки по ступеням и вполз в дом. На следующий день он попробовал запечь картофель, но при этом уснул, а когда пошёл проверить печь, огонь уже погас и от еды осталась лишь обгоревшая кожура. Он пришёл в отчаяние; он вынул из печи то, что осталось, сунул в рот и попробовал разжевать, но оно оказалось жёстким как камень, и он чуть не обломал себе зубы; тогда он лёг на пол и снова уснул. Когда он проснулся, раскалывалась голова, тошнило и хотелось в уборную по-большому. Позже, когда он добрался до постели, у него от жара начался бред. На всех стенах ему чудился Вьетнам. Он видел перестрелки и лица погибших парней из своего взвода. Потом померещилось приступающее к нему отовсюду страшное лицо Майка Тайсона. Он перевернулся на другой бок и забылся сном, жалея, что беду эту перемогает в одиночку. Как было бы здорово, если бы Хелен была рядом, разводила бы огонь в очаге и готовила еду, чтобы поддержать его силы – ну, может быть, какой-нибудь куриный супчик с сухариками – да помогла бы сходить до уборной. Он решил, что совсем не смешно валяться больным гриппом в мёрзлой хижине на острове Рождества, где нужник так далеко отстоит от постели. Никогда в жизни своей он так не болел, иногда ему даже хотелось поскорей умереть. Его поразило, насколько он поглупел, и одна лишь мысль занимала его: когда же кончится эта напасть?
Через десять дней после начала болезни он почувствовал себя лучше и понял, что выздоравливает, а спустя ещё несколько дней он опять бродил по хижине. Теперь он уже мог принимать пищу, но болезнь ушла не совсем; он покрывался потом от слабости всякий раз, когда шёл в уборную. Голова работала медленно, и о живописи пока он даже не помышлял.
К середине марта он уже работал вовсю, а там и лето наступило. Его как человека двигали тысячи внутренних чёртиков, и потому чем больше он уставал, тем упорней работал. А работал он неистово, в состоянии какого-то возбуждения, так, словно мозг его охватывало пламенем. Он наносил чёткие контуры на полотна, изображал свет без теней и использовал чистые краски: сверкающую красную, ослепительную изумрудно-зелёную, насыщенную русскую синюю и сияющую священную жёлтую. Его приводило в восхищение китайское искусство. Его картины сочились золотым солнечным светом, а пейзажи стали почти бредовыми: вздыбливающиеся холмы, лучащиеся небеса, вихрящиеся солнечные диски, шишковатые утёсы и деревья, искривлённые нескончаемыми ветрами, терзающими остров. Хелен подарила ему тайский шёлк ручной работы, и он так восхитился расцветкой ткани, что, украсив ею хижину, часами изучал её и любовался.
Хоть со времени мрачнейшего периода его жизни прошло уже больше двух лет, он по-прежнему очень много работал, перемежая работу выездами на материк, и, как и раньше, страдал галлюцинациями, из которых выходил голодным и больным, изумлённым и ошеломлённым. Настоящий отдых он получал только на выходных вместе с Хелен. На острове же, оставаясь в одиночестве, он писал без остановки, пока не заканчивал полотно. Всё это не проходило бесследно: он переутомлялся, у него случались короткие промежутки болезненного изнеможения, когда он не находил в себе сил даже подняться утром с постели. Словно бы писал он для того, чтобы заглушить какую-то внутреннюю борьбу, рвущую его на части. Живопись была его убежищем, и он погружался в неё с головой.
Но однажды его краски снова начали меняться. Жёлтая стала медно-красной, голубая потемнела, а пунцовая превратилась в коричневую. Но, словно взамен, ритм его работы ускорился. Не стало больше ни блужданий на ощупь, ни переделок, ни едва заметных изменений в пейзажах и полотнах, что изображали рыбаков за работой в море; как будто он теперь точно знал, чего хотел достичь, и знал наверняка, как достичь желаемого.
Во вторую пятницу декабря, спустя семь лет после поселения на острове Рождества, он пригласил Хелен пообедать и выпить вина на Рыбацкой пристани. Он говорил о своих картинах, о том, как ему не хватает Моряка; выглядел он измученным, и Хелен настояла, чтобы он задержался в Бутбэе на неделю и поднабрался сил.
Через несколько дней ему вдруг в голову пришла одна мысль. Чувствуя себя достаточно отдохнувшим, он сделал несколько новых набросков для картины, над которой бился уже много месяцев. Чуть отстранившись от окружающего, он задумался, поразмышлял, как-то мысленно себя подстегнул, и что-то будто щёлкнуло в голове. День ото дня стал учащаться пульс, и вот уже безумное, но великое наваждение, сладчайшее из всех наваждений – лихорадка художественного созидания – охватила его, и он отдался ей весь, без остатка.
Он принялся за работу поначалу неторопливо, словно без интереса, потом всё быстрей и быстрей. Его энергия постепенно наливалась мощью, мысли одна за другой приходили в голову и находили своё отражение на ткани холста. На этот раз у него хватало времени и на сон, и на пищу, но обнаружилось, что с каждым днём работается всё дольше и увлечённей. Он попробовал сдерживать свою страсть, но лишь убедился, что чем больше пишет, тем трудней ему остановиться. Первым его покинул аппетит, потом начались перебои со сном. По ночам он то лежал без сна и думал, что ещё нужно сделать, то, засветивши фонарь, писал подробные примечания о том, чего пытался добиться.
Чем больше красок клал он кистью на холст, тем суровей становились его требования к самому себе. Лихорадочные дни потянули за собой бессонные ночи, и по мере того как убывали силы, возбуждение его, как в прежние времена, росло, словно приливная волна. Прежняя искра вернулась, и он бросался на холст с яростью, чувствуя, что приближается к точке, в которой теряется власть над собой. Стремительные струи адреналина держали мозг в напряжении, зато теперь он по три дня кряду мог обходиться без сна, пища вызывала отвращение, а ржавое ведро вновь заняло своё старое место, ибо жаль было терять время на походы в уборную. Кроме того, он как раз перешёл к тем мучительным временным промежуткам, когда, добиваясь реалистичности, нужно выводить тонкой кистью мелкие детали. А поскольку прибрежный пейзаж был восхитительно пустынен и уныл, то и холсты его выглядели пустынно и уныло или, как выражались рыбаки на острове, мёртво. Он использовал в работе минеральные краски: чёрные и коричневые, белые, зелёные и синие – всё только для того, чтобы добиться неуловимых оттенков серого. Он почти не пользовался яркими красками, и так как мазки кисти были малы, прорисовка утомляла и продвигалась медленно. Правой рукой он не мог писать так же точно, как писал раньше левой. Кисть в правой руке всё ещё лежала неуютно, неловко, но смотрел на предметы он уже по-новому. Детали он лишь неясно намечал, всё внимание обращая на дух предмета, на его скорее внутренние, нежели внешние свойства. Мазки кисти пошли шире, писалось гораздо трудней, и на просушку красок уходило больше времени.