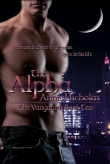Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Он уже научился по-новому пользоваться цветом, даже если тот не всегда отражал действительность, и кисть его вновь обрела силу. Более яркие цвета придали предметам правдоподобия, какого ранее не наблюдалось. Отойдя от фотографической точности, он сделал упор на свободу экспрессии и темы. Он разбросал пятна цвета и света – намёки на очертания и форму – и тем сообщил настроение и атмосферу, то "нечто", что радовало его глаз.
Он работал словно одержимый. Он ощущал движение собственных соков и чувствовал импульс, который заставлял мысли обретать очертания на холсте, быстро и точно. Вдруг картина вспыхнула ярким пламенем, жаркие языки потянулись к нему, и он отпрянул, чтобы не обжечься, и зажмурился, но когда открыл глаза, пламя исчезло. Спустя несколько минут зелёная чешуйчатая лапа какой-то рептилии с длинными острыми коготками выметнулась из полотна к его лицу. Он даже отскочил.
"О нет, опять это происходит со мной", – подумал он.
Он подбежал к зеркалу на стене, желая присмотреться к своему лицу и найти признаки ненормальности, но стекло укрылось таким толстым слоем пыли, что отразило лишь смутный, неясный силуэт. Он стёр пыль старой футболкой и присмотрелся.
Глаза смотрели устало, но они всегда выглядели усталыми, когда он работал вот так. Возле носа он заметил маленький прыщ и выдавил его. Из ранки выбежал паучок, потом ещё паучки, десятки, сотни паучков; они разбегались по бороде, они тащили странные маленькие коконы из этого отверстия, и коконы были липкие и застревали в волосах. Вдруг огромная мохнатая паучиха выползла из дыры на лице. Он боялся пауков и хлопнул по ней; в тот же миг гигантский паук взорвался звёздным фейерверком из паучков, и они побежали во все стороны – сотни и тысячи – по бороде, по бровям, по волосам на груди. Он стряхивал их, но чувствовал, что они всюду: в глазах, в паху, спускаются по ногам. Он закричал, ударил по зеркалу и, шатаясь, выбежал на свежий воздух, дрожа и еле держась на ногах, и, словно пьяный, хватаясь за всё, чтобы не упасть. Он сделал глубокий вдох, потом выдох, и так несколько раз. Он отжался, постоял на голове, дав крови прилить к мозгу, постучал немного лбом о стену хижины и поорал от души, из самого нутра, как дикий зверь. Зачерпнул в пригоршню снега и растёр им лицо, и только когда снег, растаяв и смочив бороду, начал пощипывать кожу, он почувствовал себя немного лучше и вернулся в дом.
Всё кончилось, что бы это ни было. Он поднял кисть и снова накинулся на холст изо всех оставшихся сил.
Он писал теперь блестяще, держась только за счёт нервов и силы воли. Он замкнёт круг, и не важно, сколько потребует от него эта картина. Он облегчился в ведро и пошлёпал ладонями по лицу.
– Давай, Дэниелсон... нужно собраться... нет времени слетать с катушек... больше ни-ни, держись, надо закончить, старина, надо закончить. Не отключайся...
Он подхлёстывал себя, пока не сделал последний мазок. В этом трансе он был почти несокрушим. Пусть "калашников" гука10 прошьёт ему грудь, он не бросит писать. Пусть наступит на мину, но и тогда, стоя на кровавых обрубках, он доведёт работу до завершения.
В конце концов, потратив весь день, работу он закончил. Он свалился на пол, смотрел на мольберт снизу вверх и бился как в экстазе. Он был опустошён, и ему было хорошо. Он скомкал старые штаны, подложил под голову прямо на дощатый пол, и, перевернувшись на живот, заплакал. Проплакав долго, больше часа, забылся глубоким, спокойным сном.
Всё-таки он добился своего, наконец-то...
ГЛАВА 17. «ЯВЛЕНИЕ МИСТЕРА СТАРБЕКА»
"Коротко говоря, Квикег был убеждён, что если человек примет решение жить, обыкновенной болезни не под силу убить его; тут нужен кит, или шторм, или какая-нибудь иная слепая и неодолимая разруш и тельная сила.
Так что вскоре мой Квикег стал набираться сил, и наконец, прос и дев в праздности несколько дней на шпиле (поглощая, однако, всё это время великие количества пищи), он вдруг вскочил, широко расставил н о ги, раскинул руки, потянулся хорошенько, слегка зевнул, а затем, вспры г нув на нос своего подвешенного вельбота и подняв гарпун, провозгласил, что готов к бою".
Поутру, проснувшись и кривясь от ударившего в нос тошнотворного запаха скипидара, он перетащил мольберт с картиной в угол, лицом к стене и поближе к открытому окну. Как всегда, выпил холодного кофе и пропихнул в глотку пару ломтей чёрствого хлеба с сыром. Он знал, что мало-помалу силы вернутся, а с ними и душевное равновесие; что на следующий день он придёт в себя настолько, что сможет приготовить чай и горячий бульон. И что будет слоняться вокруг дома, прибираться, читать, отдыхать и делать свои заметки, набрасывать эскизы и размышлять, пока, словно из ниоткуда, не явится та искра и не подвигнет его на новый сумасшедший круг.
Еле волоча ноги, он подошёл к восточному окну студии и посмотрел на широко раскинувшееся море. Падал снег, было почти темно, но он заметил восход какой-то очень яркой звезды. Он следил за ней несколько минут, сдерживая дыхание, пока не зарябило в глазах.
Неожиданно раздался стук в дверь.
– Эрик, это я...
– Иду...
Он открыл дверь; на пороге в синем шерстяном пальто с серым кашемировым шарфом, стояла Хелен, её волосы и ресницы были запорошены снегом, а руки заняты коробками и пакетами – такая молодая, свежая, невинная и чуть-чуть озябшая.
– Ты опять неважно выглядишь. Помнишь, какой сегодня день?
– Нет, я...
– Ну, ладно, помоги мне. Холодно здесь сегодня.
– Хелен, на дворе такая темень, что не выбраться. Как тебя занесло сюда? Ведь сегодня суббота?
– Пустили дополнительный паром. Эрик, да ведь сегодня сочельник. Разве ты не празднуешь рождество на острове Рождества?
– Не знаю, я...
– Да-да, я знаю, чем ты занимался. Стоит только посмотреть на тебя...
– Рождество – семейный праздник. Сам по себе я его никогда не праздную.
– Хорошо, твоя жизнь отныне изменится. В этом году мы его отпразднуем. Помоги мне разобрать пакеты. Там ещё две коробки остались за дверью.
– Как тебе удалось всё это донести?
– Твой друг Чарли помог. Ты не слышал разве его грузовик?
– Нет...
– Иди умойся, причешись, надень самую чистую из всех несвежих рубашек. Я привезла нам с тобой индейку, печёную картошку, клюквенный соус, приправы, тыквенный пирог – всё, что душе угодно.
– Ух ты! Сколько времени утекло. Огонь почти угас, пойду-ка принесу дров из-под навеса...
– Да ладно, я сама принесу. Раздуй пожарче огонь в печи – мы разогреем наш рождественский обед.
Эрик подбросил щепок в печь и немного навёл порядок. Хелен привезла с собой две красно-зелёных праздничных свечи и белую льняную скатерть, и, как только Эрик укрепил керосиновую лампу на шкафчике у холодильника, накрыла стол. Достала два бокала, откупорила бутылку очень хорошего вина, и они сели за стол. Огонь полыхал уже вовсю, хижина наполнялась теплом.
– Эрик, я выйду на минутку, а ты закрой глаза, хорошо?
– И что тогда?
– Просто подыграй мне...
– Будь по-твоему, обещаю...
Хелен вернулась, и ему послышалось какое-то сопение и стук когтей о дощатый пол и даже как будто поскуливание.
– Вот теперь смотри.
Эрик не верил своим глазам. Рядом с Хелен на красном поводке стоял пухлый чёрно-белый щенок-ньюфаундленд.
– Весёлого рождества, господин Крузо...
– О, Хелен... – пробормотал он, потому что ничего такого не ожидал и был захвачен врасплох. Он задрожал, подбежал к щенку и подхватил его на руки, вдыхая запах шерсти и разрешая собачьему языку лизать его в уши, щёки, шею. Выпитое вино шумело в голове, на прекрасные синие глаза навернулись слёзы.
– Так не честно, Хелен, это так неожиданно, что я, э-э-э... не знаю, что и сказать. Мне страшно и я счастлив одновременно. Я так хотел собаку, но боялся того, что с ней здесь может случиться. Спасибо тебе...
– Ты совсем потерялся без своего Моряка.
– Но я даже и не мечтал...
– Это мальчик, маленький ньюфи. Он тебе нравится? Я привезла фото его матери...
Эрик захлюпал носом, солёные слёзы затуманили взор; он обнял Хелен и вконец разрыдался. Он плакал и плакал, словно не было слезам конца, словно рвались на волю давно сдерживаемые рыдания по безвозвратной потере. Наконец, он смог говорить.
– Он очень мне нравится, – сказал он, гладя и поднимая щенка к лицу. – Привет, дружище. Мы с тобой станем хорошими друзьями, правда? Ты такой тёплый и мягкий...
– У него пока нет имени.
– Я дам ему хорошее имя. Хорошее имя для хорошего пса, который живёт вместе с художником на окружённом со всех сторон морем острове. Он прекрасен, Хелен. Где ты его нашла?
– У одного заводчика в Нью-Брансуике. Несколько дней он пожил у нас с мамой. Ему восемь недель, ему уже сделали все прививки, но из дома ещё не выпускали.
– Эй, мне нужно будет подумать о хорошем имени для тебя. Завтра тебе уже нельзя будет шастать вот так, без имени.
Щенок лизнул Эрика в нос. В избушке будет новая жизнь. Он больше не одинок.
– Хочешь погулять по новому дому? Здесь столько незнакомых запахов...
Эрик опустил щенка на пол, обнял Хелен и поцеловал.
– Господи, как я люблю тебя, Хелен...
– И я тебя. Я давно тебя люблю, Эрик...
– Правда? Какой же я бестолковый...
– Для того, кто многое повидал, ты точно не самый сообразительный.
Снова уста слились в долгом поцелуе. Эрику хотелось заманить её в постель и съесть обед позже, но он не смел и заикнуться, о чём думал. Было ещё нечто, что он хотел сделать в первую очередь.
– Теперь твоя очередь зажмуриваться, Хелен. Я хочу показать тебе кое-что, – Эрик направился в студию. – Иди сюда и крепко зажмурь глаза.
Эрик снял керосинку с кухонного шкафчика и поставил её на стол в студии, потом осторожно передвинул мольберт со свежей картиной на середину комнаты, где освещение было лучше.
– Ну вот, дорогая: сезам, откройся...
Хелен долго и придирчиво всматривалась в картину. Глазами пристально изучала полотно, но лицо при этом оставалось бесстрастным, так что Эрик уже начал сомневаться, понравилось ли оно ей вообще.
– Ну? – ему не терпелось услышать хоть что-нибудь. – Ну?
Хелен лишь взглянула на него и опять вперила взор в полотно, сморщив при этом грозно верхнюю губу.
– Давай же, Хелен, ради бога, не томи меня; что ты о ней думаешь?
"О, нет, – пронеслось в его голове, – мог ли я ошибиться? Что если картина ей не нравится? Может быть, она не так хороша, как я о ней думаю. О, дьявол..."
Тут широкая улыбка озарила её лицо, она потянулась к нему и обвила руками шею. Эрик обнял её и закружил по комнате; оба смеялись.
– Так что вы скажете, мисс Хэтт?
– Ах, Эрик... она прекрасна... это то... это то, чего ты так долго добивался. И вот она здесь. Ты написал её, ты победил, дорогой...
– Ты так думаешь?
– Да, да; она хороша, Эрик, она очень, очень хороша. Я так за тебя рада!
– Хвала господу... а то сердце моё совсем остановилось... ты до ужаса напугала меня, – сказал он, опуская её на пол и целуя.
– Это осенний пейзаж, и назвал я его, конечно, "Бабье лето на острове Рождества". Я, должно быть, двадцать полотен извёл, прежде чем вывести всё как надо, так, как отпечаталось в моём мозгу, и оно того стоило. Когда вчера я закончил картину, я понял, что это будет что-то вроде вехи для меня.
– Я же говорила, говорила, что в тебе это есть.
– Ты-то знала, да я не ведал...
После того как обед был съеден, Эрика вдруг осенило, что парома назад не будет, как не будет его и на рождество. Он усмехнулся в усы.
– Э-э... гм... э-э...
– Так-так, ты что-то хочешь сказать, Эрик?
– Хелен, я только что сообразил, я хочу сказать... ты останешься у меня на ночь?
– Ну вот, – с улыбкой вздохнула она. – Я думала, ты никогда не спросишь. Держи, – она подала ему небольшой, упакованный, как подарок, пакет, – это тебе.
– Что это?
– Открой и посмотри, глупыш...
В то же миг щенок надул на пол.
– Оп-ля, сначала я здесь приберу, – сказал Эрик. – Вот ведь, как только пустил его на пол, он тут же всё обежал и обнюхал.
– Так ты уже придумал ему имя?
– Старбек, мистер Старбек, сегодня на острове Рождества объявился мистер Старбек. Мне кажется, это хорошее морское имя. А он будет морским псом.
– А что, мне нравится. Давай-ка, Старбек, сходим на улицу и сделаем свои делишки, пока папочка наводит порядок.
Когда Хелен со Старбеком вернулись, Эрик затеял возню со щенком, на прыжки и ужимки ушло чуть не двадцать минут. Острыми молочными зубами Старбек осторожно прикусывал пальцы Эрика.
– Острые, как иглы, эти клыки его... легче, Старбек, легче. Слишком уж ты разошёлся, как бы тебе снова не сделать аварию.
Эрик подхватил разыгравшегося щенка ладошкой под пузико и прижал к груди. Старбек извивался и вырывался, а он склонял голову и тёрся бородой о щенячью шёрстку; они тёрлись носами, и маленький тёплый язычок облизывал Эрику щёки, и ему это нравилось. Он опустил щенка на пол, и тот бросился бежать: вертелся и кувыркался, гонялся за собственным хвостом, пока не рухнул как подкошенный возле стола и не уснул сладким сном.
– Ну вот, а теперь открой подарок, – сказала Хелен.
Осторожно Эрик распаковал пакет и в замешательстве посмотрел на неё.
– Занавески?
– Муслиновые шторы, Эрик. Белые муслиновые шторы.
– Но зачем? Мне не нужны шторы...
– А я говорю, нужны.
– Нужны?
– Слишком долго вместо штор на твоих окнах висела паутина. Следовало бы назвать этот дом "Паучьим трактиром". Но теперь всё будет по-другому...
Эрик всё ещё был озадачен.
– Я знаю, как тебе здесь уютно, но если я собираюсь иногда оставаться на ночь в этом доме, мне хочется уединения.
И шторы были немедленно вывешены в спальне.
– Не возражаешь, если я переоденусь? – спросила Хелен, присаживаясь на кровать.
– Конечно, нет.
Эрик поставил лампу на маленький прикроватный столик, отвернулся, взял книжку с рассказами и притворился, что читает. Раздеваясь, Хелен говорила с ним мягко и вкрадчиво. Шорох падающего на стул белья волновал его.
– Хорошо, милый, теперь можешь смотреть, – промолвила она.
Он медленно обернулся.
"Боже, как она красива", – подумал он.
Улыбаясь ему, Хелен стояла в ногах кровати в неровном и неярком свете лампы. Ослепительно белая полупрозрачная ночная рубашка ниспадала почти до пят, обтекая чувственные изгибы тела. Длинные чёрные волосы разметались по плечам, во влажных синих глазах отражались танцующие язычки пламени.
Трещали дрова в камине, отблески огня скользили по лицам, и они слышали дыхание друг друга – глубокие, учащённые вдохи.
Хелен сделала шаг навстречу, и он заметил, как качнулась полная упругая грудь и как проступили сквозь тонкую паутину рубашки розовые соски. Сделав два шага, он обнял её, и она, подавшись, обхватила его плечи, плавно перевела руки на шею, затем на спину. Оба, как слоны в темноте, неуклюже изучали друг друга. Эрик сорвал с себя рубаху, отвязал крюк и, порывисто прижав её к груди, ощутил её тело и услышал запах её кожи.
– Ты такой славный и тёплый, – лепетала она.
– А ты вкусно пахнешь, – шептал он в ответ, тыкаясь носом ей в щёку.
Он чувствовал, как её груди тёрлись и катались по его животу, как руки её трепетно и нежно, едва касаясь, ходили вверх и вниз по спине.
– О, Хелен...
– Тс-с-с, молчи... – прошептала она.
Они пылко целовались; она положила голову ему на грудь, он поднял её на руки, и в его руках она ослабела и разомлела от желания.
– Эрик, ах Эрик, мы с тобой так долго ждали... – едва выдохнула она.
Он осторожно опустил её на постель, лёг рядом и снова всем телом прижался к ней. Торопясь, она сбросила рубашку и потянула за пряжку на его джинсах.
– Скорей, милый, скорей, я не могу больше ждать...
Тела их словно плавили друг друга.
– Обними меня, Эрик, крепче, крепче...
Эрик целовал её, и она запускала ногти глубоко-глубоко в плоть на его спине, словно обнимали они друг друга на дне маленькой лодки, несущейся по бурным волнам к далёкому берегу.
Тот шторм продолжался всю ночь, маленькая лодка рвалась вперёд, поднималась и падала, а они метались, стонали, извивались и льнули один к другому, не в силах насытиться друг другом.
– Родная, я очень тебя люблю...
– О боже, Эрик... о бо-о-о-о-же!
КНИГА ВТОРАЯ: ПОДВИГ ОТМЩЕНИЯ
ОДЕРЖИМОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ
– Видишь ли, – продолжал он, помолчав, – нужно быть готовым ко всему. Вот почему у моего Коня на ногах браслеты.
– А это зачем? – заинтересовалась Алиса.
– Чтобы акулы не укусили, – ответил Белый Рыцарь. – Это моё собственное изобретение...*
– ЛЬЮИС КЭРРОЛ
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
И спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
– КНИГА ИОВ
* Перевод Н.Демурова
ГЛАВА 18. «ТАИНСТВА ВЕСНЫ»
"Почему всякий нормальный, здоровый мальчишка, имеющий но р мальную, здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему сами вы, впервые отправившись пасс а жиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду? Почему древние персы считали море священным? Почему греки выделили ему особое божество, и притом – родного брата Зевсу? Разумеется, во всём этом есть глуб о кий смысл. И ещё более глубокий смысл заключён в повести о Нарциссе, который, будучи не в силах уловить мучительный, смутный образ, ув и денный им в водоёме, бросился в воду и утонул. Но ведь и сами мы видим тот же образ во всех реках и океанах. Это – образ непостижимого фа н тома жизни; и здесь – вся разгадка".
Весь январь Эрик со Старбеком ездили в Бутбэй на выходные и останавливались у Хелен и её матери. Если погода позволяла, в пятницу утром Эрик шёл на главную пристань Финниганз-Харбора и поднимался на борт парома, а щенок тенью следовал за ним.
Старбек рос как на дрожжах и сопровождал Эрика всюду, и если останавливался на пути, чтобы побрызгать на дерево или обнюхать что-нибудь интересное, то тут же, суетясь, подхватывался со всех лап и догонял его. Пухлый щенок, смесь чёрно-белой шерсти, виляющего хвоста и влажного носа, становился большим и неуклюжим и всё время налетал на предметы, в особенности на этюдник Эрика.
Незадолго до закрытия галереи они встречали Хелен у выхода и все вместе шли домой ужинать. Двор за домом Хелен был огорожен, и Старбек не мог вырваться в город, как проделывал на острове, но ему там было достаточно места для возни. Обычно Эрик и Старбек возвращались на остров в понедельник утром, но не всегда. Вместе с зимой в галерее наступил мёртвый сезон, и Хелен открывала её с десяти утра до трёх пополудни или лишь по предварительной записи. Правда, иногда, особенно в начале недели, она не открывала галерею вовсе, и они отправлялись или кататься, или на эскурсию в Портлендский музей, или за покупками в универмаг "Л.Л.Бин", что во Фрипорте, или уходили в поля на лыжах, если погода стояла ясная и снег был достаточно глубок.
Возвращаясь на остров, Эрик всё так же продолжал усиленно работать и, как и раньше, складывал наброски и картины в одной из спален наверху; отдельные же полотна прятал в одной из каморок на тайной полке, о которой Хелен ничего не знала. И продолжал вести беседы с собакой, иногда чтобы просто развлечь себя звуками собственного голоса, но чаще чтобы нарушить тишину и напряжённую сосредоточенность у мольберта.
– Если я закончил и картина остыла, – вещал он Старбеку, – и если мне всё в ней нравится и исправлять больше нечего, тогда можно её и Хелен показать, но не раньше. Если раньше, то это плохая примета; это будет наш с тобой секрет, Старбек. Понимаешь меня?
– Гав-гав!
– Молодец, хороший мальчик, схватываешь на лету. Ты ведь уже всё знаешь про художников? Ну, почему иногда они должны быть такими хитрыми?..
– Гав-гав! – лаял в ответ пёс, лёжа на полу хижины и глядя снизу вверх на хозяина.
– Это потому что я не хочу, чтобы здесь кто-нибудь крутился, когда я работаю. Это меня нервирует, я становлюсь мнительным, а кончается тем, что картина буксует, воображение и непосредственность восприятия иссякают. Вот такие дела, Старбек...
Большой чёрно-белый пёс поскуливал, клал голову на пол и закрывал лапами уши.
– Старбек, ты должен всё знать об удаче. Очень важно знать об удаче. Это может спасти тебе жизнь. Улавливаешь?
Пёс смотрел на него телячьими глазами и по-птичьи склонял голову набок.
– Да, да... Сначала я должен всё обдумать, потом – нанести на холст. Если я начну болтать о своём замысле, пусть даже с Хелен, всё может расстроиться. Плохая примета много распространяться о картине. Она растворится у меня на глазах, импульс пропадёт. Бог дал мне кисть и мольберт, чтобы сохранять душевное здоровье, а не для того, чтобы платить деньги мозгоправам. Понимаешь? Если я начну болтать, я всё разрушу. И тогда точно сойду с ума. Немногим дано это понять; и когда так происходит, я больше не могу писать картину, не могу её закончить, я должен выбросить её вон. Так получается, что словно бы картина больше не принадлежит мне. Один скажет "делай так", другой скажет "делай эдак" – и изначальный замысел бледнеет так, что я вовсе его теряю.
Старбек, если ты собираешься стать приличной собакой художника, нужно уяснить вот ещё что: если я закончил картину, значит, я покончил с ней навсегда и должен выбросить её из головы куда подальше. Но сделать это нелегко. Понимаешь, очень часто я продолжаю дописывать её в голове... и здесь только одно помогает, насколько я знаю, – начать новую картину. Нравится тебе это или не нравиться, но таково положение вещей, старина... боюсь, ты застрял тут у меня... ну да есть места и похуже. Порой я не хочу ни смотреть, ни думать о картине, которую написал, и ещё меньше говорить о ней. Так-то, брат...
И Эрик пускался в объяснения, почему ему становится тоскливо после окончания полотна.
– У меня всегда противоречивые чувства к только что написанной картине, Старбек. Одна часть меня её ненавидит, но другая любит её. Одна часть меня хочет убрать её с глаз долой, а другая хочет выставить её, и знаешь, выставление картины немножко похоже на прилюдное спускание штанов, а если ты известный мастер, так и того хуже. Тогда это напоминает снятие штанов в витрине "Мейсиз" перед рождеством, когда толпы людей любуются, как ты сверкаешь голым задом. Вот именно! Риск есть всегда. Ты можешь выставить её слишком рано. Тебе может показаться, что ты её закончил, а потом вдруг понимаешь, что нет. Стыдно выставлять картину до того, как закончил, до того, как готов её показывать. Мне может казаться, что работа хороша, что она, может быть, одна из лучших моих работ, но не мне судить об этом. Дьявол, даже после того, как она остыла, я ещё рядом, я ещё слишком близко к ней и вижу все её трещинки. Долго я искал способ справиться с этим, да так и не нашёл. Но вот когда её вывешивают в галерее Хелен и продают за хорошую цену, вот тогда, Старбек, ах... у меня появляется ощущение, что мне всё-таки удалось кое-что создать.
И хочется браться за другие вещи. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время, почивая на лаврах. Каждый день – это дар. Знаю, не так уж весело быть поблизости, когда я работаю, Старбек, но и к этой мысли тебе нужно привыкать...
Пёс хлопал глазами и смотрел на Эрика так, словно всё понимал и соглашался с каждым словом.
Там, где поначалу рыбаки со своими половинами были склонны бросать косые взгляды и отпускать остроты, за долгие годы сложилось общее мнение по поводу работы Эрика, и его больше не беспокоили праздным любопытством. Хотя Эрик часто заглядывал в магазин, чтобы запастись продуктами и набраться местных сплетен, большинство островитян больше не мешали ему, когда он рисовал, даже если он ставил свой этюдник на главной пристани.
Безусловно, встречались выдающиеся исключения, те немногие, что упрямо полагали, будто богом дано им право безвылазно торчать у него за спиной и брюзжать, критикуя в особенности его манеру письма.
Эрик лишь улыбался и старался не обращать на них внимание. Когда же оставаться равнодушным становилось невмоготу, он складывал этюдник и холсты и шёл искать другое место.
– Нельзя мешать ему за работой, – выговаривал однажды Сойер Бил одной рыбачке. – Это дурная примета, а муж ваш рыбак, и вам известно, что такое приметы, ведь так?
– Ага, как не знать, что такое эти приметы...
– Вот я и хочу кое-что объяснить вам, миссиз Робинсон...
– Не нужны мне от тебя никакие объяснения, Сойер Бил.
– А я думаю, не помешают. Вот мне бы никогда не пришло в голову заглядывать Эрику через плечо, как делаете вы. И вряд ли придёт кому-нибудь ещё. Сегодня мы знаем Эрика лучше, чем несколько лет назад, и могу заявить вам, мэм, что ему до лампочки всякие там зеваки...
– Он не говорил мне ничего подобного...
– Непрошеные зрители лишь расстраивают ход его мыслей, как вы не поймёте. Господи боже, да если картина не закончена, а вы стоите над душой и даёте советы, то так можно всё испортить! Он сам мне об этом говорил. Чёрт возьми, мадам, это сродни оскорблению – глазеть на нечто очень личное, ещё не готовое к тому, чтоб на него глазеть. Разве вы не знаете, что такое живопись и живописцы?
– Занимайся своими делами, Сойер Бил...
– Миссиз Робинсон, – сказал Сойер, поднимая правую руку, словно собираясь принести клятву. – Это истинная правда, богом клянусь...
– Да, да, а теперь оставь-ка в покое божью истину да подай-ка мне мешок картошки из погреба, слышишь?
– Конечно, миссиз Робинсон, но я всего лишь хотел помочь...
– Ага, ага, нужна мне твоя помощь...
– Опять двадцать пять...
– Сойер Бил, мне кажется, я старше тебя...
– Да, самую малость...
– И на острове живу дольше тебя, я права?
– Ну да, чуть-чуть...
– Вот и хватит об этом. Я в своём праве, и мне будет, что сказать о его живописи, так и порешим! Всё понятно?
– Да, мэм.
Так всё шло и дальше. Она себе не изменяла.
Иногда на остров являлись журналисты из газет Портленда и Бангора, надеясь на интервью с Эриком. Они все рассчитывали на очерк с кучей фотографий, где бы повествовалось, как художник-самоучка учится снова писать после того, как большая белая акула оттяпала ему левую руку ниже локтя, напав на него три года назад поблизости от острова Рождества.
Таким посетителям не приходилось ожидать радушного приёма. Все соседи Эрика уходили в глухую оборону, особенно друг Сойер.
Сойер просто отправлял их на другой конец острова, а сам поспешал на холм предупредить Эрика, и только белый фартук бился на ветру. Если кто-нибудь приближался близко к хижине, Эрику сигналил Старбек – тот всегда лаял на приходящих; тогда Эрик мчался вниз по крутому склону, а незваному гостю маячил лишь неясный, спускающийся к морю силуэт. Раз он даже выскочил из окна и прятался в новеньком нужнике Чарли Фроста, пока непрошеный посетитель не убрался. Другой раз рубил дрова и, потрясая топором в правой руке и угрюмо насупив лицо, объяснял человеку, что очень занят и не хочет, чтобы его отвлекали.
– Насколько я могу судить, молодой человек, вы нарушили границы моих владений; заявляю вам: я не желаю с этим мириться...
По иронии судьбы, чем толще возводил он стены вокруг своей частной жизни, тем больше "этот интересный местный затворник" притягивал к себе помыслы редакторов окрестных газет, тем чаще молоденькие журналисты в один из нерабочих дней отправлялись паромом выслеживать его. Это быстро превратилось в игру "кошки-мышки", поэтому ради собственного душевного спокойствия Эрик, в конце концов, стал встречаться с репортёрами, но давать интервью упорно отказывался.
Вместо этого он уходил в дом и поверял свои мысли и чувства Старбеку, а тот слушал всё, что ему говорили, едва ли понимая хоть слово.
С живописью теперь всё обстояло благополучно. Он отдавался ей полностью, он был одержим ею. Всё, что хранил в душе, он изображал на своих картинах, и хотя стиль его, медленно развиваясь, менялся, его никогда не покидала забота о равновесии и порядке. Если выпадет ему испытать триумф, он знал, что произойдёт это не в силу везения или волшебства, но через дисциплину, тяжёлый труд и серьёзные размышления. Успех придёт ценой многих потерь и преодоления многих препятствий. Он сохранил любовь к простоте и гармонии и искал согласованности цвета и формы, искал абстрактного переложения окружающего мира. Сам себе определил он принципы и правила, чтобы писать и достигать своего художнического идеала. Его осеняли минуты глубокой проницательности. Каждая картина являлась плодом раздумий, решений, стремления к ясности, к чему-то спокойному и радостному, реалистичному, хоть и написанному с чувством; к чему-то лаконичному, синтетическому, упрощённому и сосредоточенному, полному тишины и чистой гармонии. Он был страстным творцом и вполне ясно видел то, что видел. Уверенность его руки снова сравнялась с уверенностью его воли. Не осталось ни блужданий на ощупь, ни переработок, ни малейших переделок: почти всегда пейзажи переносились непосредственно на холст, в японской манере.
"Человек достигает величия, не только подчиняясь своим порывам, – писал Ван Гог, – но и терпеливо пробивая стальную стену, которая отделяет то, что он чувствует, от того, что он способен сделать" .
Так Ван Гог выразил внутренний поединок, который, в конечном счёте, истощил его силы. Теперь же Эрик прилагал все усилия, чтобы писать в традициях Ван Гога, ибо именно Ван Гог раскрепостил цвет, доведя его до максимальной глубины и выразительности. В его картинах цвет усилил рисунок, подчеркнул форму, создал ритм, определил пропорции и густоту, явив отраду и для души, и для глаз.
Он выражал чувства с помощью цвета в резкой, сухой, агрессивной манере, внезапными цветовыми гармониями, пронзительно, сдержанно, без теней, без полутонов, с почти жестокой откровенностью, дерзко и прямо. Но всегда воздерживался от принесения цвета в жертву форме.
Его этюды изумляли простотой и точностью выражения, уверенностью и стремительностью линий, – эти трепетные элементы слились в уникальном видении окружающего мира. Видение Ван Гога теперь стало его собственным и обладало неоспоримой глубиной и оригинальностью.
Эрик писал на ветру, любовался красками моря и находил их постоянно изменчивыми. И в конце дня, когда в сумерках он брёл домой, свет звёзд и луны настраивал его на мечтательный лад. Хотелось уехать куда-нибудь и писать: то в Центральную Африку, то к истокам Амазонки, то на берега Юго-Восточной Азии, где рыбаки с кожей цвета красного дерева, как и пять тысяч лет назад, забрасывают древние сети в нефритовое море.
В своих картинах Эрик старался проникнуть вглубь предметов, чтобы не только показать их уникальность и отличия, но и чтобы подчеркнуть их сходство, чтобы выразить мысль, что всё живое есть часть целого, часть единой вселенной, которая связывает все объекты, живые и неживые, с планетой Земля, живым дышащим организмом.