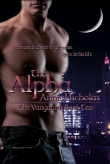Текст книги "Крузо на острове Рождества (СИ)"
Автор книги: Брэд Брекк
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– А что под тем брезентом, Эрик? Что-нибудь интересное, чего я ещё не видела и что можно прихватить с собой на выставку?
– В июле ты и так забрала двадцать полотен...
– У меня такое чувство, что ты что-то скрываешь. Что там, под брезентом, я этого не видела?
– Гм, да...
– Дай посмотреть.
Эрик достал большой холст с чайкой, сидящей на чёрном, торчащем из моря камне.
– Я бился над этой картиной три или четыре месяца, она получилась более или менее такой, как задумывалась. Я сделал чайку больше, чем собирался, и понял, что с картинкой что-то происходит, и мне пришло в голову, что море образует как бы отголоски, или, лучше сказать, параллели, вокруг головы чайки. Если посмотреть, то видно, что голова птицы находится в той самой точке, в которую устремился бы взгляд, если бы всё полотно изображало только голову чайки. Я добавил немного белого на этот участок... и получились как будто параллели вокруг головы чайки, – видишь?
– Да, да...
– Я хотел придать картине эффект падения с высоты, хотя сама она, конечно, статична. Я приподнял немного белое небо, которое проглядывает вот здесь, а отвлечённые идеи для картины пришли от самой птицы. Я нанёс на всю картину слой белой краски. Я расплескал на ней тонкий слой белого, смешав его чуть-чуть с акриловым лаком, чтобы всё изображение получилось ровным. В этом был риск, но это придало вещи изящества и матовости, а я и добивался такого эффекта. Я не хотел, чтобы картина имела сильное воздействие. Есть чайка на камне, и море, и небо, и лёгкий туман, и всё изображение выглядит спокойным, призрачным, эфемерным. Когда я смотрю на него, меня не покидает мысль об очаровательных картинах Уистлера, который использовал белое на белом, очень тонкую гамму светлых тонов...
Я изрядно намаялся с этой картиной. Над ней бы ещё поработать, но она мне почти нравится и такой, как есть. Никогда не знаешь, как будет восприниматься картину, пока её не закончишь. Одна картина отняла у меня целых два года. Однако, важно не то, как быстро ты пишешь, но – насколько умело. И я надеюсь, что каждая моя картина получится и понравится и мне, и тебе – понравится любому, чьим мнением я дорожу. Моя философия такова: начинай с такой картины, как эта. Я никогда не знаю, каким будет Д, пока не выполню A, Б и В... но как только готово Д, оно может испортить A... поэтому нужно переделывать A, которое повлияет на Б и так далее. Обычно так и продвигается картина – слоями; почти во всех моих основных полотнах можно найти следы переделки. Что ты думаешь об этой картине?
– Отличная работа, Эрик, я её забираю.
– Правда?
– Правда.
– Знаешь, каждая моя картина была каким-то экспериментом, начинанием. Я всегда жаждал чего-то, что ускользает из рук, чего никто не делал прежде, а если и делал, то совсем не так, как я.
Вся живопись в основе своей говорит о любви. Цель жизни художника – выкладывать на полотно краски и страсть, и потому пишу ли я рыбаков, выставляющих сети из открытых 17-футовых лодок-дори на зимнем ветру, таком жестоком, что рукавицы примерзают к вёслам, или еловую рощу на противоположной стороне острова, или морского ястреба, хватающего рыбу, – всё это о любви. Потому я и приехал сюда, потому и живу здесь, потому и пишу здесь, что всё, что мне наиболее дорого, что люблю больше всего на свете, – всё вокруг меня. Море, земля, люди – всё.
Если художник любит то, что пишет, работа его обретает правдивость и теплоту, а эти качества необходимы всякому искусству. Сколько полотен надуманных, холодных, мёртвых. Но только эти два качества ведут полотно к жизни, заставляют картину жить, дают блистательной картине что-то вроде бессмертия. Я хочу только, чтобы картины мои говорили и чтобы ничто им не мешало. Порой это очень непросто осуществить. Иногда я сам себе помеха. Захламляю картину, теряю исходное ощущение и видение её, и усложняю то, что изначально должно быть простым.
Наверное, именно поэтому я всегда любил рисунки и картины детей. У них есть свой взгляд на мир, особенное, весьма необычное видение. Часто рисунки бывают плохи, техника неправильна, в них отсутствует пространственная перспектива, но знаешь... некоторые из этих рисунков всё-таки очень хороши. Есть в них что-то, что учит нас, что-то, что мы всегда знали, но чьи следы растеряли по мере взросления. Их работа смела, честна и искренна до чрезвычайности. И если они не всегда схватывают суть избранной темы, то всегда выказывают сердце и схватывают дух, как они видятся глазами невинности. И я говорю это потому только, что сам пытаюсь опираться на те же принципы, на то, чем обладал я сам, когда рос: на воображение, открытый, пытливый ум, способность проникнуть в то, что видишь, способность увидеть то, что ясно, прямо и свежо, и выполнить простой рисунок, в котором достаточно воздуха и открытого пространства, придающих ему равновесие.
Всегда, всем своим существом, Хелен, я стремлюсь к совершенству; иногда мне кажется, оно уже в руках, но в итоге оно лишь ускользает от меня... потому что совершенство – лишь идеал, лишь направление, то, к чему нужно стремиться, и когда я думаю, что поймал его, я понимаю, что на самом деле его потерял. Совершенство – это безграничный идеал, замысленный ограниченным умом.
Живопись говорит о любви. И труд писателя говорит о любви – всё искусство, всё оно о любви, о поиске себя. И как только ты обрёл себя и начал глубже себя понимать, только тогда ты способен понимать других. Я не могу распознать качества, или пороки, или добродетели в других, покуда не распознаю и не осознаю их прежде всего в себе. Я жажду понять себя, когда добиваюсь совершенства, хотя знаю, что мне никогда его не достичь. Но это не так уж плохо, потому что любовь – золотой плетёный канат, в котором нитями слагаются человеческие страсти, и если мы честны, то должны признать, что любим людей скорее всего... а может быть даже больше всего... за их недостатки и пороки, нежели за добродетели. Изъяны и грехи – это людская ранимость, людская человечность.
Остров Рождества – совершенное место для живописца. Я всегда ищу ритмичные формы и контуры. Здесь же у тебя есть и морской туман, и само море, и сильные, мощные образы. Есть чёткие вертикали и горизонтали, скалы и выброшенный на берег лес, прекрасные берёзовые и тополиные рощи, источенные сваи пирса, рыбачьи лодки, ритм волн и изменчивые настроения моря, красивый рассеянный свет... здесь всё готово для художника и уже само по себе столь возвышенно, что тебе и делать-то особенно нечего.
Я ненавижу правила. Когда кто-нибудь создаёт правила, меня тянет их нарушать. Я всегда ищу то, что меня возбудит, зажжёт во мне огонь, заставит мчаться мой адреналин. Знаешь, я словно старая шлюха, которая всегда на работе, даже в выходной. Я пишу каждый день. Пишу даже тогда, когда не пишу, потому что живопись продолжается в моём подсознании все 24 часа в сутки. Если я сплю, картина складывается в мозгу, и только потом я переношу её на холст. Порой она приходит ко мне через муки и напряжение. Порою лучшие свои работы я пишу по памяти, переплавляя фотографическую реальность явления в его духовную сущность. Есть в моей работе какое-то духовное одиночество, физическое величие подчас сталкивается с душевной болью, и в этом для меня есть опыт очищения, подобный содранной коже раскаявшегося грешника. Это приносит боль, но одновременно приносит и радость. А в конце я пуст. Я добиваюсь того, чтобы забраться под объект и за объект, всегда стараюсь проникнуть вглубь, стараюсь так обнажить свои объекты, – будь то жизнь человеческая или натюрморт, – чтобы добраться до кожи, укрывающей их душу. И как только я её вижу, изображаю всё так, как вижу.
Я всегда много работал с альбомами, использую также цветные слайды, библиотечные материалы, неодушевлённые образцы, порой собственные скульптуры. Кое-что добавляю, кое-что убираю и получаю нечто новое, обладающее ощущением сверхреальности. Я обожаю скалистые берега в бухтах, наполненных плавучими водорослями, сквозь которые пробивается свет... люблю наблюдать, как резвится тюлень, как плавно и лениво скользит он мимо меня... всё это так оживляет пейзаж, забыть который уже невозможно.
Знаешь, Хелен, мы живём в очень важное время в истории планеты Земля. Между временем нынешним и началом нового столетия нам суждено стать свидетелями исчезновения явлений числом гораздо бСльшим, чем исчезло за любой предшествующий равный промежуток времени или исчезнет впоследствии. Я имею в виду наше природное наследие: образ жизни людей – местных рыбаков, например; мир растений и животных, морскую живность. Знаешь ли ты, что каждый день исчезает один вид дикой природы и что если такое положение вещей сохранится, то к началу 90-ых один вид будет исчезать каждый час? Мы их словно сдуваем, и так происходит в каждом уголке Земли: в океанах и лесах, в горах и степях, в воздухе и здесь, на нашем берегу.
Я вот что хочу сказать: мне кажется, мы живём в одном из самых вдохновенных мест на планете, и я пытался отразить его в своих картинах, чтобы... чтобы люди, может быть, встрепенулись, и посмотрели, и задумались над тем, чем мы здесь владеем. Основной вред был нанесён за несколько последних сотен лет, и когда я вижу, что мы наделали... ради выгоды, и алчности, и жажды крови... когда вижу агрессию и жестокость, которые, судя по всему, запрограммированы нашим генетическим кодом... меня охватывает тоска.
Наш мир умирает, но, похоже, немногих это волнует. Мы творили такие гадости, которые ни в коем случае нельзя повторить. Я просто надеюсь, что мы сможем остановить бойню, пока ещё не слишком поздно.
Машины заполонили мир. У нас есть техника, чтобы доставить человека на Луну, но наши человеческие проблемы ширятся день ото дня. Мы становимся расой искусственных, синтетических людей, у которых есть всё, что есть у обычных людей за исключением одного...
Души.
Мы превращаемся в расу Франкенштейнов.
На прошлой неделе мне даже приснился об этом сон. Будто бы люди подключены к биоэлектронному оборудовании с мигающей световой сигнализацией, как на панелях машин, и она отображает биологические и психологические неполадки. В глаза установлены датчики перегрузки, и как только человек сердится по-настоящему, белый цвет глаз меняется на красный, зрачки загораются белым и ярко мигают, и раздаются слова: "Осторожно, перегрузка". А на груди у людей кнопки, чтобы показывать проблемы тела, каждый важный орган к ним подведён, и ещё какие-то психологические лампочки, работающие от определённой эмоции: они загораются и мигают, сообщая, что ты ощущаешь подавленность, жалость к себе, похоть, голод, корысть и тому подобное.
Ещё помню, будто я в кафе где-то на аллее, ко мне подходит официантка-робот и говорит, что я толще человека, который сидел здесь до меня. Я решаю, что она невежлива, плохо запрограммирована и что ей должен преподать урок человек, имеющий душу. Поэтому я встаю, хватаю сервировочный столик и с силой швыряю в неё, а она в это время идёт на кухню с заказом. Столик падает на неё. Прямое попадание. Все её бионные члены отскакивают, как бампер от автомобиля, и она шлёпается, разваливаясь на куски, и весь ресторан смеётся и ликует. А потом я проснулся...
Смешно, но кажется, только вчера вся жизнь была впереди. И вот половины уже нет как нет. Куда же, чёрт побери, она подевалась? Если я и нашёл какой-нибудь смысл за всё это время, то это моя живопись. Моим девизом были слова "Я есть и я буду, я могу, я хочу, я должен...". Я писал, потому что хотел писать, должен был писать... не размышляя, будут ли продаваться мои работы или нет. Чёрт, я не продал ни картины, пока не встретил тебя. Я их просто раздаривал. Но я и не помышлял о том, чтобы не писать. Я считал, что буду писать до самой смерти. Я чувствовал, что так мне предназначено судьбой. Мне никогда и в голову не приходило, что может что-то произойти или измениться. И всё-таки произошло, и я не знаю, что мне делать. Я растерян. Ты права, я потерял свой путь. Я больше не знаю, кто я такой. Я пробовал отнестись к этому философски, но всё, что я чувствую, это...
Боль. Страшная, непереносимая боль. Мне больно, я ранен, я растерян, и я зол как чёрт. С другой стороны, я рад, что хоть какое-то время посвятил тому, что мне нравилось, и что мне это удавалось...
Однажды я был орлом, я парил. Когда я брался за кисть, ты была ветром в моих перьях и мужеством в моём сердце. Каждая картина была моим автопортретом, отражением моего духа, потому что шла изнутри, от того, что я есть. И лучшие работы кровью просачивались сквозь моё подсознание в новое, порой мучительное понимание. И с твоей поддержкой, Хелен, я пробивался к глубинам своего мозга и видел там чудеса, о которых не подозревал. Я верил тебе. Ты научила меня изображать предметы так, как я их видел, – и я писал. Я был человеком, который знает, кто он и что он. Который ведает смысл своей жизни, чего хочет и куда идёт. И мне было хорошо, Хелен, чертовски хорошо. А сейчас... всё кончено, и я кончился – так, ещё один шут с суровым и скорбным лицом.
Иногда ещё бывают шуты с разбитыми сердцами...
Я знаю, что так не должно быть. Просто я потерял свой путь.
– То, что ты потерял свой путь, ещё не значит, что нет другого пути, Эрик.
– Знаешь ли ты, что мне страшно ночью ложиться в постель, Хелен? Иногда я тихонько скулю в темноте. Я боюсь, что злая ведьма в чёрной островерхой шляпе, с длинным крючковатым носом и жутким хохотом явится вдруг из темноты, вломится через окно в спальню и воткнёт мне в спину мясницкий нож. Почему я боюсь этого? Ведь это детские страхи...
– Не всегда легко понять нашу тёмную сторону, Эрик.
– Я по-прежнему чувствую себя шутом с разбитым сердцем. Я больше не могу быть тем, кто я есть, кем родился быть...
– Сердца шутов исцеляются, а хорошие живописцы учатся писать заново. Скажи: «Я есть и я буду...»
– Да, легко сказать.
– Эрик, у тебя есть ещё секреты от меня? Я знаю, что ты складываешь картины и наброски как поленья.
– Да, есть одна заначка, тайный клад из законченных полотен там, наверху, если это то, к чему ты подбираешься...
– Почему ты такой скрытный?
– Хелен, чем больше глаз наблюдают за тем, как ты работаешь, тем больше истощается твоё воображение, поэтому приходится хитрить.
– Даже со мной?
– Даже с тобой. Я очень закрытый. Когда я закончил писать, работа остыла, я удовлетворён и не нужно больше вносить правки, тогда ладно, смотри, но не раньше... если раньше, то я считаю это дурным знаком. Писатель может, сидя в баре, заболтать книгу вместо того, чтобы её написать. То же самое с живописью. Если я поделюсь с тобой замыслом, над которым работаю, то сам разрушу его для себя, и тогда придётся либо остановиться, либо совсем бросить его. Обычно если я слишком распространяюсь о работе, то уже не могу её закончить... порыв проходит, а я остаюсь оглушённым, поглупевшим и потому очень сержусь.
Но как только я заканчиваю картину, она тут же отходит в прошлое. Я больше не хочу ни видеть её, ни думать, ни даже говорить о ней. Мне уже хочется приступать к следующей. Я должен придерживаться такой стези, иначе мне не создать ничего. Когда я заканчиваю, картина становится частью прошлого. Я, может, и мог бы понять, что картина хороша, может быть, одна из лучших моих работ, но не мне судить о ней. Ведь даже когда она отстаивается, я нахожусь слишком близко, практически вплотную к ней, чтобы разглядеть её изъяны. Но если картину вывешивают в твоей галерее и пускают на продажу, только тогда я понимаю, что создал-таки нечто приличное.
– Многие твои работы имеют потаённые мотивы, которые проявляются странным, неожиданным образом. Люди смотрят на твои полотна и наслаждаются ими, но всегда отходят с таким чувством, словно в картине осталось нечто большее, чего они ещё не поняли; это и привлекает их в твоей работе. Эрик, пообещай мне одно...
– Что?
– Обещай мне, что завтра... не послезавтра, не на следующей неделе и не в следующем году... что завтра ты возьмёшь кисть и снова попробуешь писать.
– М-м-м-м, ну не знаю, Хелен...
– Просто обещай.
– Хелен...
– Обещай попробовать...
– Ладно, хорошо.
– Произнеси это.
– Обещаю.
– "Обещаю" что?
– Обещаю попробовать писать снова.
– Завтра.
– Да, да, – засмеялся Эрик, – клянусь честью бойскаута, провалиться мне на этом месте!
– Ты был скаутом?
– Я был скаутом-орлом.
– Жаль только, отец мой не увидит твоих картин, – произнесла Хелен, любуясь выбранным полотном. – Вот эта ему бы обязательно понравилась.
– Сколько было твоему отцу, когда он умер?
– Примерно как тебе. Мне было семь лет, я плохо его помню; знаю его только по вещам, что остались после него, по старым фотографиям да по маминым воспоминаниям.
– Как он умер?
– В автокатастрофе. Он возвращался ночью из Портленда с художественной выставки; стояла зима, было холодно, шоссе обледенело, он съехал с дороги и врезался в дерево.
– Как жаль.
– Мама так тебя любит! Она говорит, что ты во многом напоминаешь ей моего отца. Тот же идеализм, те же мечты, тот же ясный взгляд на жизнь. Он был высокий и голубоглазый, и шевелюра на его голове, казалось, никогда не знала расчёски. Он любил и море, и сушу, и всё, что там живёт. И, как у тебя, живопись составляла всю его жизнь.
– Я бы хотел узнать его поближе.
– Уж вы двое нашли бы общий язык. О, смотри, сколько времени! Уже поздно, а мне ещё нужно успеть на обратный паром. В твой тайник загляну в следующий раз, Эрик. Поможешь донести картину до пристани?
– Пошли! Поспешим, а то опоздаешь...
Эрик проводил её до парома, устроил картину в укромном местечке и, заглянув в страстные, мерцающие глаза Хелен, поцеловал её и, удивляясь собственной дерзости, отступил назад на пристань.
– Эрик... ты будешь у нас в пятницу? – прокричала она сквозь рёв дизельного двигателя.
– Я буду в галерее до закрытия.
– И ты расскажешь мне, как идёт работа над картиной?
– Обязательно... – улыбнулся он.
Паром отвалил, но Хелен, перейдя на корму, смотрела на пристань, не отрываясь. В стране Крузо она была совершенной женщиной на все времена, крепкой и упорной, как стайка берёз в зимнем лесу.
– До свидания, старый пират! – помахала она рукой, и свежий океанский бриз разметал её волосы.
Эрик поднял крюк и с болью во взоре смотрел ей вслед. Паром медленно растворялся в тумане.
ГЛАВА 14. «МОРЯК В ВОЛНАХ ПРИБОЯ»
"И я буду преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за м ы сом Горн, и за норвежским Мальштремом, и за пламенем погибели, и н и что не заставит меня отказаться от погони. Вот цель нашего плавания, люди! Гоняться за Белым Китом по обоим полушариям, покуда не вып у стит он фонтан черной крови и не закачается на волнах его белая туша. Что скажете вы, матросы?"
На следующий день Эрик, как и обещал, вытащил на свет краски, этюдник, кисти и прочие рисовальные принадлежности, закинул всё это на спину, забрался в скалы на противоположной стороне острова и на краю чистого полотна незатейливо набросал море. На другом краю нарисовал человека, висящего на кресте. Крест, сбитый из старых деревянных корабельных балок, вставил в груду валунов, окружённую низкими водами отлива. Он хотел нарисовать холодное бурное море в клубах тумана, а сверху нанести слой белой краски, чтобы придать изображению призрачный, неброский эффект. И чтобы вокруг креста кружили акулы и щёлкали зубами в молчаливом предвкушении, что океанский прибой с приливом поднимется выше, выше...
Он не знал, зачем он это рисовал. Идея пришла в голову ещё летом, когда он вернулся на остров. Он пытался отделаться от неё. Но она исподволь торила дорожку к его сознанию, пока он не стал одержим ею. Писал ли он портрет себя самого? Хотел ли выразить свою тяжёлую утрату посредством красок? А если бы получилось создать рисунок правой рукой, это обернулось бы важной победой. И тогда бы окрепла его уверенность.
Он словно бы слышал слова: "Отец! для чего Ты меня оставил?" И чувствовал, что подобен фигуре на кресте, будто сам висел на нём.
Жизнь полна маленькими Голгофами. У каждого наступают времена, когда приходится бороться и истекать кровью, страдать и терять веру. Это часть человеческого естества. Страшное отчаяние охватывает человека перед падением на самое дно. Жизнь, полная мучений, становится сродни распятию; но если улыбается счастье, тогда является способность уступить и принять, затем восстать, подобно Фениксу, и, исполнившись мужества, обновиться. Это тяжкий труд...
В устах же Хелен всё звучало просто. Дескать, возьми кисть и учись всему заново. Знай себе упражняй другие мускулы, другую часть мозга и сделай то, что делал раньше. Он считал, что она ошибалась. Но что если она права? Трудней всего учиться простым вещам.
Карандаш лежал в правой руке неловко, неуклюже. Ему казалось, что линия идёт по полотну неверно, и потому он стирал её и начинал сначала. Но другая линия тоже выходила неточно, он стирал и её и проводил новую... ещё и ещё. В конце концов, после многих мук и попыток появлялся эскиз, не совсем удачный, но с которым уже можно было иметь дело.
А Моряк оставался рядом и требовал игр, поэтому Эрик забрасывал палку как можно дальше в надвигавшийся прилив, и большущий чёрно-белый пёс устремлялся за ней сквозь грохочущий прибой, возвращался назад и лаял, виляя хвостом, до тех пор, пока Эрик не закидывал палку снова.
С началом прилива водоросли, метавшиеся у берега под послеполуденным солнцем, начали исчезать в воде. А с утра было пасмурно, дневной свет лился ровно, не создавая теней, и казалось, что оловянно-серое небо и голубовато-серое море сливаются друг с другом далеко-далеко на горизонте.
Почему всё должно было кончиться вот так? Чем он провинился? Он никого не обидел, всегда держался от людей подальше. Его считали чуточку странным, но он ни к кому не навязывался. Старался быть добрым соседом. Хотел заниматься только своими картинами. Порой он сожалел, что не может отделаться от случившегося, просто выскочить из кожи и скрыться. Быть простым молочником или мчаться в Ном в аляскинском Идитароде, рулить таксистом в Бостоне, искать золото в Колорадо – быть кем угодно, только не художником.
Что ещё можно было сделать? Оставаться с Сарой? Господи, вот была бы жуть. Интересно, чем она сейчас занимается? "Клянусь, она бы рассмеялась, узнай только, что произошло. Наверняка бы смеялась, если б знала, что случилось. "Так тебе и надо, – сказала бы, – за то, что бросил меня". Она умела быть язвой". Как его угораздило на ней жениться? Должно быть, стал полным придурком после войны. Ведь война проделывала и более странные штуки с солдатами, чем просто смерть. Маленькая Сара-Солнышко, испускающая лучи радости. В какую же психованную и оплывшую от джина грымзу чикагских окраин превратилась она.
Вдруг пришло в голову: что если он умрёт на острове, истлеет, скажем, или сгорит? Конечно, можно оставить завещание: тело – кремировать, пепел – развеять с высокого обрыва в волны прилива. Но кому оставить хижину? Кому она вообще нужна? Что за идиотские мысли...
"Во мне всё ещё таится какое-то зло, – подумал он. – Наверное, что-то дурное проникло в меня во время войны, когда корёжило мою душу. Если б только переродиться и вернуться в этот мир..."
"Нет, чепуха, – решил он (подобные мысли рождались у него чуть не каждый день), – Через десяток-другой лет не останется никакого мира. Нас всех взорвёт бомба. Род людской вымрет, как динозавры. Никаких вам перевоплощений. Не здесь, по крайней мере. Может быть, на другой планете в какой-нибудь далёкой галактике, потому что исследователям космоса приспичит же где-нибудь как-нибудь приземлиться, да? Но из первичного радиоактивного болота возникнет нечто. Раз существует уничтожение, значит, обязательно будут и новые формы жизни: мутирующие виды животной и растительной жизни, может быть, даже человеческой жизни.
Что за тоскливые мысли лезут в голову, когда вокруг такая красота. Но только вдумайся: в каждой клетке есть цепочки памяти и знаний, называемые ДНК или генетическим кодом, которые спланировали и выстроили моё тело и разум. Эти древние цепочки молекул хранят память всех предшествующих организмов, внесших вклад в моё существование. Например, генетическую историю матери и отца, и так далее – через все поколения. Запись всего, что случилось с момента зарождения в виде одноклеточного организма. Я – целая экосистема, – думал он, – я сам – целый мир, живая история энергетических трансформаций, начиная с божьей молнии, запустившей процесс жизни в докембрийские времена более двух миллиардов лет назад".
Иногда казалось, что он видит образы предшествующих воплощений, пусть случившихся давным-давно. В том не было ничего мистического или сверхъестественного, простая генетика. Если б ради выживания можно было только прикоснуться к древней энергии и мудрости, присущей его нервной системе, тогда, наверное, он смог бы писать снова. "Я уже бывал в нужном месте". Нужно выйти из этой родовой игры. Общество подобно продуваемой муравьиной куче, в которой красные и чёрные муравьи всегда находятся в состоянии войны.
Вся материя, вся её структура энергично пульсировала. И не важно, была она живой или мёртвой. Она пульсировала, и он видел пульсации и пытался положить на холст. "Но может быть, – размышлял он, – ничего и нет кроме моего сознания". Эта мысль лишь мелькнула. Но проникла до самой первичной сущности материи. Кит, которого он рисовал, был мёртв, а акула, оттяпавшая его руку, была жива. Однако и акула, и кит, и он сам по-прежнему оставались в гармонии с изначальным космическим ритмом, с первым толчком жизни на планете Земля. Ах, почему б не выбросить ему всю эту чушь из башки и не сосредоточиться на обучении письму по-новому...
С северо-востока задул бриз, он посмотрел на небо: вдали собирались грозовые облака. Воздух насыщался влагой, предвещая дождь. Он вернулся к полотну и начал писать. С кистью дело обстояло даже хуже, чем с карандашом. Она больше не являлась его продолжением, но стала жёстким, чуждым предметом, с которым он едва мог управиться. Однако он не отступал и, тихонько чертыхаясь, клал серую краску слой за слоем. Между тем прилив наступал, и ему всё время приходилось отодвигать этюдник от воды и не забывать забрасывать в воду палку для Моряка.
В конце концов, швырять он мог и правой рукой. Завтра она будет болеть, ну так что из того? Ему было на удивление хорошо, и картина получалась не такой уж плохой, как ожидалось.
Каждый штрих кисти был нетвёрд и неуверен, и всё-таки постепенно холст принимал очертания. Оттенки серого превращались в облака и волны, которые обретали форму и ритм, однако краски делали всю работу – деревья, коряги, скалы – безжизненной и холодной, скорее похожей на застывшую чёрно-белую фотографию, чем на картину маслом.
Эрик следил, когда Моряк выходит из воды с палкой в зубах, и забрасывал её снова как можно дальше. Ему нравилось наблюдать, как большой пёс преодолевает накаты прибоя и уверенными, мощными гребками возвращается, крепко держа палку во рту. В очередной раз Эрик закинул палку, и она улетела дальше, чем он хотел. Когда он оторвал взгляд от холста, Моряк плыл уже в тридцати ярдах от берега – и всё ещё далеко от палки, хотя прилив медленно гнал её назад. А потом он увидел то, чего никак не ожидал...
Большой тёмный треугольный плавник резал воду, направляясь к собаке.
– Моряк! Назад! Вернись! – закричал он, бросая кисть на гальку и вбегая в воду.
Эрик махал руками, и пёс, почуяв, вероятно, опасность, загребал по дуге назад изо всех сил к берегу. Но треугольный плавник мчался уже в двадцати пяти ярдах и быстро шёл наперерез вдоль линии прибоя.
– Скорее, Моряк! Скорее же! Давай!
Глядя на плывущего пса, Эрик ощутил такое бессилие, какого не испытывал во всей своей жизни.
– Поторопись, Моряк! Быстрее! – вопил он что есть мочи.
Команды его пропали впустую.
Огромная рыба чувствовала вибрацию в воде и распознавала её как добычу. Она чуяла собаку и ускоряла удары серповидного хвоста, и трепет сотрясал её тело; затем большой чёрный плавник скользнул под воду. Рыба ушла на глубину, чтобы через несколько мгновений, широко раскрыв пасть, помчаться наверх, прямо на пса. Когда она ударила из глубины, страшные чёрные глаза вдруг побелели. Она выскочила из воды, держа Моряка в пасти, и с шумным плеском упала вниз; на короткий миг и акула, и собака скрылись из виду. Потом над водой показалось коническая голова, и Эрик увидел, как Моряк бьётся в безжалостных челюстях. Пёс визжал, его пасть изрыгала красноватую пену, ибо громадная рыба усилила хватку. Зубы акулы обагрились кровью, хлынувшей из прокушенного пса, тело её содрогалось, и бешено колотился хвост. Акула судорожно дёрнула головой, и зазубренные, острые как бритва зубы разрезали пса надвое. Наплаву от Моряка остались лишь голова да передние лапы.
Возбуждённая кровью и вкусом животного, которого она, скорее всего, приняла по ошибке за старого тюленя, акула как чёрт защёлкала зубами, кромсая собачью плоть и кости. Вдруг она легла на бок, скользнула по воде подобно гидроплану и, вильнув хвостом, ушла на глубину с большим куском измочаленного тела Моряка, бессильно повисшего в её зубах. Через несколько секунд большая рыба вынырнула вновь и схватила то, что ещё от него оставалось, и, жадно заглатывая, скрылась в глубине.
Вскоре вода улеглась. Эрик вглядывался в море – и не видел ничего. "Нет, нет, нет!" – восклицал он.
Уже перед самым акульим нападением слишком поздно было что-либо предпринимать. Пять минут он ждал, не желая верить настойчивым сигналам, посылаемым мозгу глазами, и надеясь, что Моряк каким-то чудом всплывёт, но гладь моря оставалась пуста. Словно короткой яростной атаки и не бывало.
– Я УБЬЮ ТЕБЯ, БЛЯДСКАЯ СУКА! УНИЧТОЖУ! ДАЮ СЛОВО...
Эрик побежал назад к этюднику, прорвал крюком холст, подцепил его, зашёл в море по пояс и зашвырнул в воду как мог дальше.
– БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА! БУДЬ ТЫ НАВЕКИ ПРОКЛЯТА! – рыдал он.
Проклиная акулу, он зашёл в море ещё глубже, по самую грудь. Акула действовала слепо и инстинктивно, без логики и эмоций. Он же отныне будет ненавидеть её осмысленно и убьёт по-умному. Большая белая забрала его руку, разрушила его искусство, разбила его жизнь, вот сейчас и пёс его был мёртв. Еле сдерживая бледные дрожащие губы, он ещё раз поклялся в смерти огромной рыбине. Он будет неумолим в своей цели. Он будет преследовать чудовище в самых дальних уголках земного шара, будет гнать её по всем морям от мёрзлых вод Арктики до штормовых широт Северной Атлантики, от безветренных районов душных южных Тихоокеанских морей до тёплых вод Индийского океана. Да, он будет идти по её следам до самых пылающих адовых врат, сколько бы это ни заняло времени. Придёт его день. Он выследит акулу, и будет страшный бой. Выживет только один. Акула умрёт, торжествовать будет он. Смерть акуле! Смерть акуле! Смерть акуле!