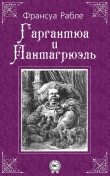Текст книги "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Автор книги: Борис Дубин
Соавторы: Дина Хапаева,Сергей Фокин,Уильям Дюваль,Михаэль Кольхауэр,Жан-Люк Нанси,Михаил Ямпольский,Жизель Сапиро,Вера Мильчина,Доминик Рабате,Сергей Зенкин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕСНОСТИ: Франция в мировой интеллектуальной культуре
Введение
Стоящее в подзаголовке этой книги понятие «интеллектуальная культура» не имеет широкого хождения в современной науке и может показаться странным, даже противоречивым. Действительно, в идее «культуры», как ее понимают ныне, заложено начало множественности – «культурной относительности», «мультикультурализма». Напротив того, «интеллект», разум традиционно мыслится как всеобщая, априорная способность человека, превосходящая местные и исторические вариации, которые она способна принимать. Однако история учит иному: у мировых идей бывает специфическая местная окраска, при всей важности межкультурного обмена и перевода они, мигрируя из одной культуры в другую, получают или теряют те или иные свои черты и по-разному развиваются на старой и новой почве. Таким образом, вопрос об интеллектуальной культуре, культуре мышления той или иной страны (или эпохи, социальной группы и т. д.) оказывается оправданным.
Франция представляет собой, пожалуй, исключительно выгодный, привилегированный материал для постановки такого вопроса – отчасти именно потому, что для нее он составляет нерв, сквозной сюжет национальной самоидентификации. Долгое время эта страна была склонна считать себя изъятой из мирового механизма интеллектуальной относительности. Лозунгом французской мысли со времен классической эпохи XVII–XVIII веков был рационалистический универсализм, который мог принимать различные исторические формы – просветительства, позитивизма, структурализма и т. д. Полагая себя, и не без оснований, интеллектуальным центром западной цивилизации, Франция поддерживала в своем сознании раздел между относительной, богатой своею множественностью «культурой» (антропологической, фольклорной, артистической) и незыблемым, «здоровым» единством абстрактной мысли (философской, социальной, научно-теоретической, а также и литературной). Увлеченно ища во всем мире «местный колорит», она в самой себе видела «общечеловеческую норму»; свой культурный национализм она расценивала как универсализм разума.
В последние десятилетия эти претензии если не рухнули, то переживают серьезный кризис. Франции все труднее поддерживать свою идею «французской исключительности», рассматривать себя как уникальную цитадель интеллектуального достоинства. Традиционные мифологизированные формы, которые принимало в обществе это самосознание, существенно утратили свой авторитет, будь то репутация французского языка как прозрачного и оптимально приспособленного медиума мысли или же фигура новейшего культурного героя – «интеллектуала», занимающего промежуточное положение между наукой, литературой и политикой.
Такая ситуация уже не первый год служит объектом рефлексии в самой Франции и за ее пределами. Кризис французского интеллектуального универсализма заставляет обращать больше внимания на сложные, не всегда вполне сознаваемые самой культурой связи между разными ее факторами и уровнями – например, на единство «светской» теоретической и философской рефлексии с литературным творчеством, которое еще в классическую эпоху оформилось во Франции в понятии «республики словесности», или же на смешанный, не вполне научный характер так называемой «французской теории», порожденной во второй половине XX века на волне структурализма и постструктурализма. В разных странах появляется все больше публикаций – как собственно научных работ, так и литературных эссе, публицистических реплик и т. д., – где с различных сторон исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества.
Ряд таких работ, принадлежащих авторам из самой Франции, а также России, США, Германии, составили настоящую книгу. Она не может претендовать на полное и всестороннее освещение заявленной в заголовке темы, однако представляется, что несколько аспектов, которым посвящены ее разделы, имеют первостепенную значимость. Прежде всего, это уже упомянутая проблема французского языка, который драматически теряет свое лидирующее положение языка мировой науки и интеллектуальной традиции (статья Антуана Компаньона) и видится ныне проводником специфического, даже одностороннего способа мыслить (о том, как мыслится им художественная словесность, пишет Михаэль Кольхауэр, сравнивая французскую литературную теорию с немецкой), но все-таки по-прежнему остается, в самых мелких и «технических» своих деталях, тончайшим инструментом интеллектуальных построений (как это показывает Жан-Клод Мильнер в своем философско-лингвистическом анализе творчества Ролана Барта).
Сегодня, в начале нового столетия, и особенно после кончины в октябре 2004 года выдающегося философа Жака Деррида, своевременным предстает вопрос о судьбе «французской теории» 1970–1980-х годов, как в самой Франции, так и в других странах, где она получила распространение ценой существенных модификаций и адаптаций. Дискуссия по этому вопросу, по-видимому, еще впереди, здесь же печатаются некоторые предварительные материалы к ней. Итоги развития «французской теории» в США глазами французского критика подводит Франсуа Кюссе; в самой Америке разные аспекты этого процесса освещают в научно-полемическом или мемуарно-публицистическом ключе его прямые участники – Сэнд Коэн и Сильвер Лотренже; наконец, восточное, российское направление рецепции «французской теории» вкратце рассматривает Александр Дмитриев.
Тема следующего раздела книги – традиционно тесное и открытое взаимодействие французской литературы и интеллектуальной культуры с политикой. В историко-литературных работах этого раздела разбирается ряд моментов такого взаимодействия в XIX веке: выработка литературной и исторической репутации послереволюционной Франции, в связи с ее парадоксальным «универсалистским национализмом» (статьи Михаила Ямпольского и Веры Мильчиной), социально-политический образ России в творчестве Бодлера (статья Сергея Фокина), политическая «ангажированность» писателей-романтиков (статья Татьяны Соколовой). О том, как уже в XX веке во французской литературе возникло и функционирует по сей день политическое разделение на «правых» и «левых», подробно пишет социолог Жизель Сапиро.
Особый аспект политизации культуры – характерная для Франции фигура «интеллектуала», ангажированного и/или независимого писателя, активно вмешивающегося в общественную жизнь. Спорам об этой современной «духовной власти» уже не один десяток лет, первые значительные тексты на эту тему появились еще до второй мировой войны («Измена клириков» Ж. Бенда, «Социология клирика» Р. Кайуа); о «конце интеллектуалов» много спорили в 1990-е годы. Настоящее издание включает в себя некоторые из новейших выступлений в дискуссии: Уильям Дюваль размышляет об исторических иллюзиях французских интеллектуалов и об их новых возможностях в XXI веке, Дина Хапаева на основе бесед с рядом современных французских ученых показывает, как кризис фигуры «интеллектуала» связан с ситуацией в гуманитарных науках, наконец, Мишель Сюриа выступает с философско-сатирическим памфлетом, обвиняя интеллектуалов в новой «измене», моральной капитуляции перед лицом властной системы, которой они должны были оппонировать.
Последний раздел книги образуют материалы российско-французского коллоквиума «Морис Бланшо, неумолкнувший голос», который состоялся в Москве, в РГГУ, 20 февраля 2004 года и был посвящен годовщине со дня смерти Мориса Бланшо (1907–2003) – замечательного представителя плеяды французских интеллектуалов, писателя, критика и мыслителя, умевшего, когда это было нужно, и занимать непримиримую общественно-политическую позицию. Участники коллоквиума – философ Жан-Люк Нанси, социолог и критик Борис Дубин, литературоведы Доминик Рабате, Сергей Фокин, Сергей Зенкин – каждый по-своему показывают, как философская мысль Бланшо, его понимание творческого опыта, смерти, поэзии, романа, зрительного образа вырастают из литературного творчества, как его книги вписываются в круг проблем, волнующих не только французскую, но и мировую «республику словесности».
В последние десять-пятнадцать лет труды французских писателей-эссеистов, философов, ученых-гуманитариев активно публикуются в русских переводах, образуя достаточно интенсивный процесс взаимодействия двух интеллектуальных культур. Промежуточным итогом этого процесса, полезным подспорьем для исследователей призван стать библиографический указатель «Французская гуманитарная мысль в русских переводах, 1995–2004», составленный Татьяной Вайзер и заключающий собой книгу.
Первоначальный замысел данного издания возник из опыта подготовки 13-го номера «Нового литературного обозрения», который был посвящен литературе и гуманитарной культуре Франции и вышел в 1995 году под редакцией С. Зенкина и В. Мильчиной. Хотя в дальнейшем замысел во многом трансформировался – отчасти по своей внутренней, концептуальной логике, отчасти под давлением современных процессов в науке и культуре, влиявшим на отбор проблем и текстов, – настоящая книга, выходящая в издательстве «Новое литературное обозрение», сохраняет тесную связь и солидарность с его журнальным проектом, в частности, с «французским» спецномером журнала десятилетней давности. Эта связь проявляется в ее композиции, которая следует традиционной структуре журнала: «теория» – «история» – «практика» – «библиография», – и, как хотелось бы думать, в общих принципах отбора и представления текстов, сотрудничества разных гуманитарных дисциплин, включения их в равноправный межнациональный диалог.
Моим приятным долгом является поблагодарить всех авторов книги, любезно предоставивших свои статьи (иногда уже публиковавшиеся за рубежом, иногда написанные специально) для публикации в ней, переводчиков, выполнивших русскую версию этих подчас весьма непростых текстов. Ряд коллег – Нина Брагинская, Вера Мильчина, Алексей Берелович, Кристоф Бидан, Александр Дмитриев, Сильвер Лотренже, Жан-Люк Нанси, Сергей Фокин – давали мне ценные советы, позволявшие расширять круг авторов книги или помогавшие в ее редактуре. Наконец, Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, где я работаю, и Российско-французский центр общественных и гуманитарных наук в Москве по праву должны быть упомянуты как соорганизаторы коллоквиума о Морисе Бланшо, чьи материалы стали одним из разделов книги.
Задуманная еще в 2002 году, эта книга ныне выходит в рамках одного из первых научно-издательских проектов Комиссии по литературе и интеллектуальной культуре Франции, созданной в 2004 году при научном совете «История мировой культуры» Российской академии наук. Хочется верить, что этот первый опыт окажется удачным и повлечет за собой другие коллективные и индивидуальные труды, создаваемые под эгидой комиссии.
Сергей Зенкин
1. ЯЗЫК И МЫСЛЬ
Антуан Компаньон
Почему французский становится таким же иностранным языком, как и все прочие?
В последние годы положение программ «Французских исследований» радикально изменилось. До недавнего времени почти во всем мире французский язык, литература и культура обладали необыкновенным, исключительным и уникальным статусом, иначе говоря, пользовались умопомрачительным престижем. На протяжении многих веков все французское, «французскость» были знаком отличия – сначала классового или социального, впоследствии интеллектуального и теоретического. Я совсем не уверен, что ситуация не изменилась, равно как не уверен и в том, что отличие является приемлемой в современном мире ценностью.
Желая поставить вопрос ребром, я хочу сразу предупредить, что мое выступление будет провокационным. Я буду опираться в основном на пример Соединенных Штатов, где я долго преподавал и заведовал кафедрой французского языка. Разумеется, мой опыт не может стать основой для широких обобщений, тем не менее его можно сравнить с положением французской культуры в других странах. Мой диагноз не столько мрачен, сколько реалистичен.
* * *
До недавнего времени французский язык считался – как в Соединенных Штатах, так и во всем мире – не иностранным языком, а языком культуры, вторым языком всех культурных людей. В университетах многих стран французский язык занимал то же положение, что и национальный язык или философия, неизменно отличаясь в этом плане от других европейских языков – испанского, итальянского или немецкого. Эта непохожесть, или неравенство, объясняется тем, что с XVIII века французский язык традиционно отождествлялся с культурой, однако в Соединенных Штатах к этому добавлялось отсутствие массовой франкоязычной эмиграции, благодаря чему язык отождествлялся с таким национальным сообществом, которое не подвергалось дискриминации. Зато итальянский и испанский, родные языки и культуры итало-американцев и Hispanics, долгое время страдали от этого отождествления с национальными сообществами, подвергавшимися этнической и социальной дискриминации. Что касается немецкого языка, который на рубеже веков, во время формирования американского университета по германской модели, был главным соперником французского, то его распространению воспрепятствовали Первая мировая война, в которой американцы выступили против немцев, – в некоторых штатах в 20-е годы преподавание немецкого было даже запрещено – и нацизм.
Как это ни удивительно, необычайно высокий престиж французского языка ничуть не пострадал на двух основных этапах демократизации американской системы высшего образования. Первый из них приходится на конец XIX века, когда построенные по английской модели конфессиональные колледжи свободных искусств были преобразованы в исследовательские университеты, двери которых были открыты для детей эмигрантов из всей Европы, в том числе и Восточной. Гюстав Лансон, который был visiting professor в Колумбийском университете в 1911 году, констатировал высокий «standing» французского языка в эту эпоху, когда он идентифицировался с универсализмом, с правами человека и ценностями Просвещения: прогрессом, справедливостью и терпимостью. Учить французский, внушал он американцам, значит открывать для себя «язык культуры par excellence, язык, изучение которого может содействовать становлению и формированию современного культурного человека» [1]1
Lanson Gustave.Trois mois d’enseignement aux Etats-Unis. Notes et impressions d’un professeur frangais. Paris: Hachette, 1912. P. 203.
[Закрыть]. В те годы, что предшествовали Первой мировой войне, крупные американские университеты стали полем битвы между немецкой и французской пропагандой. И несмотря на то что американский университет следовал германской модели, ценности Третьей республики больше отвечали американской демократии. В ответ на европейское варварство, с которым столкнулись американские солдаты во время войны, были созданы первые Great Books Courses западной цивилизации: американцами владело чувство, что это они должны стать защитниками западной цивилизации, то есть своего рода мультикультурного канона, отвечающего уровню Европы. Поскольку эти университетские программы были в основном классическими, французские писатели никогда не выходили в них на первое место, ибо – вот вам еще одно общее место, которое невозможно счесть заблуждением и которое необходимо принимать во внимание, – французская литература отличается от других европейских литератур тем, что она не породила своего Данте, Шекспира, Гёте, этих божественных гениев, воплощающих в себе национальный язык и культуру. Тем не менее Рабле, Монтень, Декарт и Руссо в этих программах всегда присутствовали, поочередно, а порой и все вместе.
Период между двумя войнами был счастливой порой для французской культуры в Америке. В это время стали переводить писателей круга «НРФ» [2]2
Журнал «Нувель ревю франсез», основанный в 1909 году; из него выросло издательство «Гéаллимар». – Примеч. ред.
[Закрыть], творчество которых сразу же изучалось в элитных колледжах. В ноябре 1921 года Бернар Фай, которого ожидала незавидная судьба, поскольку при Виши он стал коллаборационистом, писал Прусту: «В прошлом году многие мои студенты из Колумбийского университета выразили желание писать работы или диссертации по вашим книгам» [3]3
Proust Marcel.Correspondance / Ed. Ph. Kolb. Paris: Plon, 1993. Т. XX. P. 523.
[Закрыть]. Другим знаком укрепления французского языка в американских университетах было упразднение в большинстве из них германской модели Romanisches Seminar. Например, в Колумбийском университете в ходе преобразования отделения новых языков и зарубежных литератур из кафедры романских языков, которая была основана в 1890 году одновременно с кафедрой германских языков и литератур, выделились три секции, названия которых указывают на своего рода дисбаланс: «Романская филология и французский язык», «Итальянский язык», «Испанский язык» [4]4
См.: Torrey Norman L.Romance Philology and French // A History of the Faculty of Philosophy, Columbia University. New York: Columbia University Press, 1957. P. 204–220.
[Закрыть]. Французский язык наследовал благородной дисциплине – филологии, приобретая таким образом научную легитимность. Количество студентов, изучающих французский, не шло ни в какое сравнение с количеством студентов на других отделениях: 1065 академических часов в 1917 году, 2078 в 1927 году, 2095 в 1937 году, 1833 в 1947 году. В последнее указанное десятилетие, когда количество студентов, изучающих французский язык, снижается на 10 %, количество изучающих испанский увеличивается втрое, с 290 в 1937 году до 992 академических часов в 1947 году, то есть с 14 до 54 % по отношению к количеству студентов, изучающих французский язык. Таким образом, новый соперник французского языка обозначился еще до Второй мировой войны. Сегодня испанский язык намного опережает французский во всех американских университетах, однако испанский никогда не пользовался особым культурным престижем и его преподавание всегда носило утилитарный характер.
Второе преобразование социальной структуры американских университетов приходится на послевоенные годы. На первый взгляд, отпечаток аристократизма, свойственный «французскости», не мог сохранить своей привлекательности для выходцев из средних классов, молодых людей и девушек, которые в 60-е годы получили доступ к высшему образованию благодаря уже не семейному положению, а личным заслугам, а также стипендиям и процедурам приема, более или менее нейтральным по отношению к финансовому состоянию семьи (need-blind admission). Тем не менее в силу счастливого совпадения престиж французского языка в Соединенных Штатах получил поддержку от различных влиятельных интеллектуальных и теоретических движений, нахлынувших из Франции на американские университеты. Все это очень хорошо известно, и я не буду на этом долго останавливаться. Экзистенциализм, «новый роман», структурализм, постструктурализм, феминизм, школа «Анналов» – все эти течения французской теории содействовали тому, что «французские исследования» продолжали оставаться на высоте благородных или мажоритарных дисциплин – философии и английского языка. Более того, зачастую они оказывали на них существенное влияние, сохраняя свое отличие от других европейских языков как по статусу, так и, как мы уже видели на примере испанского, по количеству академических часов.
* * *
Мне представляется, что сегодня французский уже не имеет ни былого влияния, ни ауры знака отличия – как теоретического, так и социального, ни в Соединенных Штатах, ни где бы то ни было. После выборов в Национальное собрание 1997 года Стенли Хофман писал в «New York Review of Books»: «Представления о собственной особенности, свойственные французам, заключают в себе несколько элементов: они считают свой язык, свою культуру и свою историю проводниками общечеловеческих ценностей; они считают, что республиканское государство, с одной стороны, определяет, а с другой, соблюдает общечеловеческие интересы; наконец, ими все время движет какое-то неявное стремление к первенству на мировой арене. В настоящее время, в силу посредственного политического положения страны и ослабления традиционных способов ассимиляции, все эти три элемента воспринимаются как угрозы» [5]5
Цит. по: Le Monde. 1997. 4 juillet. P. 30.
[Закрыть]. Иначе говоря, после нескольких веков известной исключительности ситуация становится, так сказать, нормальной, и французский язык является таким же иностранным языком, как и все прочие. Хуже того, в отличие от прочих иностранных языков, он не имеет ресурсов для того, чтобы защитить себя в современном мире. Чему также есть свои причины, связанные как с современным положением самой французской культуры, так и с контекстом ее рецепции.
Что касается первых, то можно констатировать, что положение французского языка отнюдь не блестяще во всем мире, причем в Европе гораздо хуже, чем в Северной Америке. Вплоть до самого последнего времени в Великобритании действующие правительства оказывали давление на университеты, принуждая их вместо литературного французского языка и культуры вводить курсы технического и делового языка. Насколько мне известно, французский не вызывает особого энтузиазма ни в Италии, ни в Германии, ни в Испании. В ходе моего пребывания в Москве и Санкт-Петербурге, где я выступал с рядом лекций, я убедился, что и там нет какого-то особого влечения к французскому языку. Что касается Африки, то политика Франции в широкой мере способствовала тому, что французский язык уже не связывается с теми ценностями, проводником которых он некогда выступал. Хофман увязывает падение влияния Франции с «французским фундаментализмом», то есть со своего рода сопротивлением процессам социальной модернизации, коль скоро последние предполагают отказ от идей французской исключительности. Тем же самым он объясняет презрение, которое многие наблюдатели – бывшие франкофилы и разуверившиеся франкофоны – демонстрируют по отношению к стране, которой нечем подкрепить свои грезы о величии. В интересующей нас области в 80-е и 90-е годы не появилось ни одного сколько-нибудь притягательного литературного или теоретического движения, которое можно было бы сравнить с теми, что некогда обеспечивали успех и моду на Францию. Это действительно небывалая ситуация, в результате которой культура и литература уже не отождествляются с «французскостью». Итальянские издатели сетуют на современные французские романы, которые слишком абстрактны и слишком интеллектуальны для заальпийских читателей. Самые интересные парижские публикации последнего времени относятся к области политической и моральной философии, после десятилетий господства марксизма, экзистенциализма и структурализма в них заново открывается либеральная традиция (от Токвиля до Раймона Арона). Проблема в том, что такая мысль плохо экспортируется. Глядя из Соединенных Штатов, в ней невозможно увидеть ничего нового, более того, принадлежа, по существу, к интеллектуальному мейнстриму, она кажется банальностью. Тогда как былая привлекательность французской мысли основывалась именно на ее радикализме, якобинстве, терроризме или даже перверсивности. Французская культура дышала парфюмом, в котором смешивались ароматы Старого режима – социального отличия – и Террора, салонов и гильотины, деконструкции и «Шанель № 5».Французская мысль ассоциировалась с разного рода эксцессами, возбуждая ужас и вожделения. Понятно, что вы не поднимете массы, посоветовав им перечитать Токвиля, тем более что в Америке они только это и делали. Очень может быть, что как раз в силу того, что современная Франция чужда любых эксцессов, обожает идею сосуществования, бережно хранит приобретенные права, «французскость» никого особенно и не интересует. Но главное, получается, что Франция, показывая, с каким трудом удается ей преодолевать всякого рода кризисы, никого и ничему больше не может научить; я уже слышу, как мои американские, итальянские и японские коллеги-романисты заявляют, что им пора рассуждать о собственных культурах.
Итак, прошло уже немало времени с тех пор, как до американских, но также британских, русских и японских университетов докатились последние волны французской культуры. Оказавшись жертвой собственного успеха, французская мысль проникла во все гуманитарные дисциплины, привилась на кафедрах истории искусства, английского языка, кинематографа, феминологии, антропологии, архитектуры, но она существует здесь на элементарном, так сказать, уровне, в форме просеминаров,предваряющих основные образовательные программы, как это происходит на кафедрах английского языка, а не в виде самостоятельных исследовательских семинаров. Французская мысль просочилась в базис образования, однако она утратила былое духовное превосходство, интеллектуальное лидерство, многие американцы полагают, что передовой отряд современной теории, ее cutting edge, пересек просторы Атлантики. Такая точка зрения подтверждается прессой (Times Literary Supplement, London Review of Books) и британской издательской политикой, следующей основным тенденциям американской академической жизни. Когда я был в Москве, самые интересные вопросы, которые мне задавались, касались постхайдеггерианца и постлаканианца Славоя Жижека, который стал властителем дум в США и до сих пор почти не переводился на французский язык. Похоже, что в настоящее время в области теории произошло нечто аналогичное переходу эстафетной палочки от сюрреализма к абстрактному экспрессионизму и перемещению столицы современного искусства из Парижа в Нью-Йорк, которые в сфере эстетического авангарда пришлись на первые послевоенные годы. Если сюрреализм стал последним авангардом в искусстве Старого Света, то постструктурализм, по всей видимости, оказался последним авангардным течением европейской теории.
К тому же в настоящее время в сфере гуманитарных наук теория приобрела опасного соперника в лице так называемого мультикультурализма, cultural studies, которые, зародившись в Великобритании, в силу очевидного сродства с postcolonial studies широко развернулись в Соединенных Штатах и распространились в Азии и Южном полушарии, почти повсюду, за исключением Западной Европы и особенно Франции. Я не собираюсь вторгаться здесь во франко-французские дебаты по поводу мультикультурализма: в диатрибах парижской прессы постоянно обнаруживается известный французский антиамериканизм, который мне малоинтересен. Зато для меня важно, как обстоят дела с университетскими дисциплинами в Соединенных Штатах или где-то еще и как это сказывается на общих курсах по литературе и, в частности, по французской культуре. Ибо современный мультикультурализм является в общем и целом внутренним или даже домашним мультикультурализмом. Он учит нас вниманию к другому или другой, живущим скорее среди нас, а не у себя дома, вниманию к тому чужому, что живет в нас, а не чужому как таковому, самому по себе. К тому же он опирается на постхайдеггеровскую герменевтику, согласно которой мы, имея дело с другим или другими, не способны отрешиться от наших предустановленных схем понимания и мышления, теоретических гипотез и прочих предрассудков. Если следовать такой предпосылке со всей строгостью, что, судя по всему, и происходит в случае с identity politics, поскольку идентификационная политика нацелена на то, чтобы представлять сообщества на всех уровнях общественного пространства в точной пропорции с их численностью, то американский мультикультурализм является собственно внутриамериканским мультикультурализмом, то есть мультикультурализмом этносов и национальных сообществ, существующих на федеральной территории и использующих американский язык (или языки). Понятно, что, в отличие от итальянского или испанского, французскому здесь нет места, поскольку ни одно из внутренних сообществ не может счесть его родным языком, повысить его самоуважение – raise its self-esteem – и придать ему больше влияния – повсеместно распространяются неологизмы to empower и empowerment [6]6
Привести к власти, приведение к власти ( англ.). – Примеч. ред.
[Закрыть]– через его изучение. Замыкание в домашних сообществах противостоит сегодня идеологической уловке melting pot [7]7
Плавильный котел ( англ.). – Примеч. ред.
[Закрыть], которая воспринимается как инструмент угнетения меньшинств; упрочение этнической гордости является теперь одной из важнейших задач образования; новые постколониальные ценности предполагают политику протекционизма, перед лицом которой французская культура кажется совершенно безоружной. Поскольку Европа издавна – по меньшей мере, на протяжении двух столетий – представляла собой гегемонизм, колониализм, сначала политический, а затем и культурный империализм, этот мультикультурализм не скрывает своего антиевропейского характера. При этом ясно, что французский язык находится на особом положении, поскольку, как ни один другой иностранный язык, он все время отождествлялся с элитарностью и исключительностью, а также потому, что ни одно из местных сообществ не может его использовать для освобождения от национального гнета. На настоящий момент такие вещи, как рационализм, права человека и универсализм, которые долгое время рассматривались как восхитительное наследие, переданное Францией всему человечеству, считаются инструментами западной гегемонии, культурного якобинства или, хуже того, предпосылками всех современных тоталитарных режимов. Не избегает критики даже французский феминизм в лице Бовуар или Сиксу, его подозревают в эссенциализме, ибо он предполагал существование некоей «женщины», woman в единственном числе, и, не обращая внимания на то, что речь идет о женщине белой, буржуазного круга, пытался навязать эту модель в деле освобождения всех на свете женщин. Многие американки, снискавшие себе известность в качестве профессоров французской литературы, вместе со своими культурными ресурсами перешли на кафедры английского языка, достигнув тем самым политического примирения с предметом своих курсов и изысканий, перед нами своего рода recovering Francophiles, разочарованные франкофилки. К несчастью, не только «французские исследования», но и весь мир исполнен разочарованной франкофилией.
В то же самое время и как бы симметрично другие иностранные языки вполне успешно наверстывали отставание от французского. Преодолевая расистский изоляционизм, итало-американское сообщество способствует современному процветанию итальянского языка, который еще совсем недавно учили, словно это мертвый язык, только для того, чтобы читать в подлиннике Данте или, самое большее, для занятий по литературе раннего Возрождения и истории искусств. Я не говорю даже об испанском языке, который отныне можно считать не европейским языком, а вторым государственным языком Америки. Кафедры испанского языка, специализирующиеся в основном на латиноамериканских штудиях, пользуются преимуществами, предоставляемыми постколониальным и вспомогательным исследованиям. Кому сегодня придет в голову изучать французский, сочтя это мотивом эмансипации или приобретения влияния? Сам ход истории и африканская политика Франции превращают французский язык в нечто все более и более неприемлемое для огромной диаспоры по всему миру. Исключение составляют гаитянцы, и на мои курсы, причем только в Нью-Йорке, а это особый случай, всегда записываются несколько из них. Еще детьми они оставили свою родину и, когда поступали в Колумбийский университет, говорили только по-английски. Для всех остальных французский вполне может казаться этакой суммой социального гегемонизма, культурной элитарности и интеллектуального высокомерия, словом, ценностями, которые больше не в ходу. Отсюда происходит искушение, коль скоро у французского языка метрополии или того, что называли метрополией во времена, когда существовали колонии, нет никаких шансов быть реабилитированным во имя какой-то подчиненной культуры, – делать ставку на франкофонию, то есть на литературы и культуры бывших колоний, благодаря чему иные и надеются спасти положение французского языка и культуры в американских университетах. Впрочем, не выступает ли франкофония и наиболее жизнеспособной частью современной франкоязычной литературы?