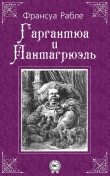Текст книги "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Автор книги: Борис Дубин
Соавторы: Дина Хапаева,Сергей Фокин,Уильям Дюваль,Михаэль Кольхауэр,Жан-Люк Нанси,Михаил Ямпольский,Жизель Сапиро,Вера Мильчина,Доминик Рабате,Сергей Зенкин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц)
Эти книги были также своего рода бомбами замедленного действия, объединенный эффект которых ощущался в течение целого десятилетия, порой не тогда и не потому, как я сам ожидал. «На линии» Делёза и Гваттари – сборник, включавший эссе «Ризома», – получил известность лишь в конце 80-х годов, в тот момент, когда французская теория, от деконструкции Деррида до психоанализа Лакана, уже давно утвердилась в мире искусства и в университете. В конечном счете прием, встреченный Делёзом и Гваттари в Соединенных Штатах, был обусловлен не столько их левыми позициями, сколько растущей популярностью Интернета, странным образом предвосхищенного их теориями «ризомы», де-центрированной и обратимой модели. (В этом недоразумении была какая-то ирония, поскольку Интернет, или АРПА, вел свое происхождение от военной технологии, предназначенной обойти последствия ядерных взрывов.) Подобная же деполитизация произошла и с Вирилио, о котором я впервые услышал от итальянских автономистов. В Америке пришлись ко двору не столько его навязчивая озабоченность войной, сколько его поразительные экстраполяции, трактующие об исчезновении пространства и о воздействии сообщений «в реальном времени» на современную реальность. Читая «Pure War», американцы абстрагировались от ее катастрофических предсказаний, рассматривая ее в позитивно-программном плане, как набросок завтрашнего дня – «постчеловеческого» и соблазнительного.
Любопытным образом, первым «настоящим шампанским» оказался Бодрийяр, чей политический путь был довольно извилист. Как и всякий уважающий себя французский интеллектуал, он начинал как левый. И действительно, обе его книги, уже переведенные ранее в Америке, – «Зеркало производства» и «К критике политической экономии знака» – вышли в издательстве «Телос пресс», близком к франкфуртской школе. Однако его критика «божественной левой», и прежде всего ФКП, обеспечила ему поддержку правых – но они вскоре оставили его, как только он стал поклонником Америки, страны, которая поражала его тем, что, в отличие от Франции, у нее нет ни истории, ни интеллектуального комплекса. Для него то была осуществленная Утопия – гиперреальность в космическом масштабе. (Действительно, хотя «идеологически» Бодрийяр и Вирилио располагались по разные стороны баррикады – Вирилио хотел больше реальности, а Бодрийяр не хотел ее вовсе, – но их работы сближались между собой в Америке, где начинало оформляться «трансполитическое» видение мира.) Тем не менее Бодрийяр был экстраполятором, а не нигилистом, каким его считали большинство людей во Франции. В худшем случае он был агентом-провокатором, который дразнил своих противников и тут же отскакивал в сторону, чтобы они теряли равновесие от собственного замаха (власть – это черная дыра, в которую всегда нужно загонять других). В лучшем же случае он был поэтом и метафизиком, упражнявшим свой ум, чтобы дойти до пределов полемики, целью которой была лишь его собственная целостность. Хотя Делёз и Гваттари всегда с пренебрежением относились к его мнениям, Бодрийяр оказался персонажем именно того рода, который они сами же прославили в «Анти-Эдипе», – детерриториализированным, чудесно спасенным, божественно безответственным. Этакий французский Джефф Кунс. Они просто не могли согласиться, чтобы кто-то еще устраивал «шизопрогулку» по их собственным идеям.
Когда мы в первый раз встретились с Бодрийяром в Лос-Анджелесе в конце 70-х годов, мы гуляли с ним по пляжу. Он уже хорошо знал Калифорнию (и «пустыню реального»), будучи приглашен за несколько лет до того Фредриком Джеймисоном преподавать в Сан-Диего. Мы разговаривали об «Истории сексуальности» Фуко. Очаровательный ответ Бодрийяра – «Забыть Фуко» – вызвал во Франции некоторый шок. Он нападал на «ницшеанцев» (Делёза и Гваттари), обвиняя их в сохранении тех самых понятий централизации, которые они якобы низвергали, а попутно замечал, что властьу Фуко и желаниеу Делёза взаимно исключают друг друга. (Впоследствии и сам Делёз обратился к этому вопросу.) Оба они довольно прохладно встретили книжку Бодрийяра, но это не значило, что ее вопросы не следовало рассматривать всерьез. Она прослеживала логику системы вплоть до последних ее убежищ, и это могло обладать эвристической ценностью. В конце концов, именно так все и происходило в Соединенных Штатах. Он замечательным образом опирался на спираль власти по Фуко, чтобы с ним покончить, и для Америки это было лучшим введением в пароксистическую стратегию, характерную как для Бодрийяра, так и для Вирилио. Я предложил издать «Forget Foucault», и Бодрийяр согласился, пошутив: «Можно было озаглавить это „Remember Foucault“» («Помните о Фуко»). Мы не могли предвидеть, что вскоре после этого Фуко умрет. Издавать книгу «Забыть Фуко» стало уже невозможно. Вместо этого я решил выпустить «Симуляции».
Примерно через полгода после выхода книги в Нью-Йорке я вместе с французскими культурными службами организовал цикл лекций Бодрийяра в нескольких университетах Плющевой лиги Восточного побережья – и это был полный провал. На лекции никто не приходил. Тогда я предложил обратиться к художественному миру, который все время ищет новых идей, – но тут нам даже не пришлось делать никаких попыток.
Неоэкспрессионистская живопись, принесенная из Германии и Италии, начинала утрачивать свою власть, и ее место стали занимать молодые американские художники: Ричард Принс, Дженни Хольцер, Синди Шерман, Роберт Лонго. «Симуляции» появились точно вовремя, фактически давая теоретическую базу для нового подъема американского искусства. На протяжении нескольких лет их вовсю «приспосабливали», как будто возможно было заново проиграть ситуационистскую стратегию «захвата» культурной индустрии изнутри. Дебор не обманывался на сей счет, и он твердо отказался иметь что-либо общее с искусством – американский же художественный мир по большей части делал вид, что не знает об этом, и вновь поднимал на щит ситуационизм. На самом деле Бодрийяр был еще враждебнее ситуационистов к художественному миру, но он сам не сразу это осознал. Уже в течение значительного времени он отрицал всякую возможность занимать критическую дистанцию, так как «критика» сама составляла часть того, что ею обличалось, и фактически всегда предшествовалатому, что она критиковала. Это не помешало художникам понять «симуляцию» как хитроумную стратегию реапроприации подгнивших социальных знаков, как форму критики рынка, способной «демистифицировать» медиатическое общество и ритуалы потребления. На самом деле все обстояло наоборот. Такие художники придавали масс-медиа авторитет искусства, и неудивительно, что их стали расхваливать. «Артфорум» поспешил включить имя Бодрийяра в свой редакционный совет, даже не спросив его согласия. Наконец-то он добрался до Америки.
Своим раскованным полухудожественным стилем, своей кажущейся простотой и тонко-ироническими ходами «Симуляции» сумели осуществить то, что до тех пор не удавалось сделать ни одной теории и что с самого начала пытался другими средствами и другими текстами сделать «Semiotext(e)»: заставить публику усваивать идеи, а не только модные термины. То была наконец-то книга поп-философии, которая, казалось, не требовала никакого специального таланта, но вместе с тем оставалась в высшей степени аллюзивной. Она давала своим читателям почувствовать себя умными. Возможно, большинство из них и не вполне понимали, к чему клонит Бодрийяр, но разве не все было сказано названием «Симуляции»? Больше и доискиваться было нечего. Достаточно было показать знание этой книги или же буквально включить ее в свое произведение. Тот, кто это делал, оказывался причастен ее специфической ауре: «Симуляции» стали своего рода фетишем, защитой от тревожной необходимости создавать что-то оригинальное в период художественной инфляции и всеобщей воспроизводимости. Легко критиковать, когда тебе мало что сказать: оставалось только найти новый «угол зрения». Художники не сознавали, что для Бодрийяра, художника в теории, важно было только одно – заставить размышлять.
Мгновенный успех Бодрийяра, вероятно, был обусловлен превращением узкого художественного мирка 70-х годов в одну из главных рыночно ориентированных профессий, освященную авторитетом престижных художественных школ, множеством богатых галерей и грандиозных музеев. Конкуренция была сильнейшей, а шансы добиться признания – слабыми. Такая ситуация вызвала какую-то панику среди тех, кто с благословения своих родителей массами ринулись в Нью-Йорк, мечтая стать художниками. Нечего было и ожидать, что их подготовка позволит им оценить тонкости философа, разыгрывавшего на сцене свое собственное исчезновение как прием, не поддающийся никакой интерпретации. Напротив, они принялись возносить его имя и подталкивали его отплатить им тем же: если «Артфорум» сумел его захватить, то почему не они? Они не сознавали, что «символический обмен», как он практиковался Бодрийяром и в творчестве, и в жизни, – это нечто прямо противоположное вежливому обмену. В обмен он ничего не давал, а тех, кто осмеливался на него ссылаться, знай вел к чему-то фатальному —катастрофическому.
Таковых было множество. Менее чем за два года «Симуляции» были прочитаны, кажется, всеми без исключения нью-йоркскими художниками. Влияние Бодрияйра неуклонно возрастало вместе с безнадежными попытками его использовать (к счастью, эта задача неосуществима). В 1987 году Бодрийяра пригласили выступить с престижной лекцией «Искусство и американская культура в двадцатом веке» в музее Уитни, и билеты на нее были раскуплены еще за два месяца. (Одновременно сорок художников – в том числе Нэнси Сперо, Леон Голлуб и Тим Роллинз – открыли «антибодрийяровскую» выставку в галерее «Уайт коломз». Впрочем, она была направлена не столько против самого Бодрийяра, сколько против тех, кто свято усвоил мысль о том, что «реальность» не существует, а потому отказался от политики.) Я организовал еще одну дискуссию с Бодрийяром в Колумбийском университете для нескольких сот художников-энтузиастов, которые не попали на лекцию в музее Уитни, и они дружно устремились на нее. В каком-то смысле это была «Шизокультура» наизнанку: отныне безумие утвердилось в художественном мире. От Бодрийяра сразу же потребовали высказаться о «школе ситуационистской живописи», а он просто отклонил эти притязания. «Ситуационистской школы не может быть, – сказал он, – потому что симулякр не может быть изображен. Это значит совершенно ошибочно понимать то, что я писал». Эта резкая отповедь сразу же стала известна всей стране. Один из моих коллег по Колумбийскому университету, озадаченный как словами Бодрийяра, так и несколько неприличным требованием публики, заметил: «Не знаю, чего они от него ждут. Он ни о чем таком не говорил». Знаки почтения художников к Бодрийяру представляли собой истерическое требование защитить их; они умоляли Бодрийяра принять вместо них власть, которой у них не было, а он взял да и оттолкнул их в черную дыру. Дело в том, что сам художественный мир превратился в симуляцию самого себя, подобно тому как искусство, которое он создает, стало симуляцией искусства, где есть множество знаков, где нет ни оригинала, ни оригинальности. Любопытным образом, «Симуляции» показали, что художественная продукция, отмеченная паникой, сделалась доводом против самого искусства.
Нас, конечно, очень радовало такое внимание, но это не исключало и определенного беспокойства. Америка умеет все уничтожать особым, позитивным способом – передозировкой. Наступало время вновь сменить парадигму. Коль скоро французская теория грозила стать модой, нужно было найти ей эквивалент где-то еще – в самой Америке.Так была создана новая книжная серия, параллельная первой. Это была уже не «французская теория», а художественная проза по-американски – более или менее маргинальных писателей из Ист-Виллиджа, особенно женщин, которые писали от первого лица, но не для того, чтобы говорить о себе, а наоборот, чтобы задавать вопросы о внешнем мире. В общем, это то, чего мог бы потребовать от литературы Делёз, – выйти из себя с пером в руке. В конце 80-х годов, когда уже начал ощущаться отлив теории, а Камилла Палья начинала там и сям обличать – довольно-таки демагогически – «иностранную и косную идеологию» Лакана-Деррида-и-Фуко, одним словом, Иностранных Агентов, была начата серия «Native Agents» («Отечественные агенты») журнала «Semiotext(e)», во главе которой стала Крис Краус, кинорежиссер, близкая к нью-йоркским поэтам и сама писательница. В серии вышли две книги: «Walking Through Clear Water In A Pool Painted Black» («Сквозь светлую воду в бассейне, выкрашенном в черное») Куки Мюллера и «If You’re a Girl» («Если ты девушка») Энн Роуэр. Машина завертелась вновь. Да, впрочем, она и не останавливалась. Мы двигались вперед.
Нью-ЙоркПеревод с французского С. Зенкина
Сэнд Коэн
Историография и восприятие французской теории в Америке
Французская теория и историзация
Когда отдельные индивидуумы или группы проецируют свои действия на «историю», подчиняя их общим закономерностям – таким, как соотнесение «происхождения» и «цели» в рамках концепции прогресса (или упадка), – то историзацияпринимает на себя роль самозащиты/агрессии и, в реальности, имеет отношение к будущему.Как заметил в «Печальных тропиках» Леви-Стросс, когда члены какого-либо сообщества действуют «во имя истории», насильственно насаждая традицию, которая институциализируется и делается тормозом актуальной культурной продукции, то с культурной и политической точки зрения это имеет вполне деструктивный характер. Институциализация модернизма – один из образцов такого рода историзации: эксперимент, ставший каноном. Историческое знание узаконивает не талант, а репрезентацию и добавляет «лоск капитала» самым неоднозначным, но устоявшимся рутинным практикам. Таким образом, настоящее оказывается сверхдетерминировано напластованиями уже произошедшего, но в реальности еще не отошедшего и не до конца оговоренного.
Французская теория взяла на вооружение выделенные Ницше функции истории, но это происходило не в вакууме. Ее авторы совмещали критику историцизма с интеллектуальной критикой научного сообщества за «политическую корректность», за неустанное изгнание несогласных и приверженность модели господин/раб, за постоянные агрессии во имя престижа. В силу почтенного возраста историографии, ее заметной монументализации и институциализации усилиями ученых-историков, французская теория привнесла в критическую теорию истории проблемы институционального анализа и интеллектуальной достоверности. Перекликаясь в этом с некоторыми немецкими мыслителями – на ум приходят Ханна Арендт, Карл Ловит, Рейнхарт Козеллек и Карл-Хайнц Борер, – французская теория усомнилась в историчности самой науки. Она поставила под сомнение те версии истории науки, которые делают ученого героем просвещения. Она подвергла критике свойственную научному миру систему апроприаций и включений, идеализации и раздражения по поводу «чрезмерности» теории. В каком-то отношении французская теория опробовала на историках их собственные концепции прогресса/регресса («у этого есть будущее, у того – нет») и поставила вопрос о том, каково будущее общества, вытекающее из столь внушительного «исторического знания».
Итак, французская теория поставила под сомнение академическую фигуру знатока-любителя и усомнилась в том, что отрицание, как настойчиво убеждают историки, можно представить в качестве эстетического единства – грандиозного труда, «последнего слова» историка, окончательной суммы знаний. Взяв под вопрос исторические теории, рассматривавшие капитализм как «необходимость», вместо того чтобы заниматься механизмом существования и становления капитала, французская теория дала толчок сопротивлению(ям) капитализму; в ее фокусе – способности капитала к интеграции отличий. Поскольку если язык, история и капитализм связаны друг с другом так, что их невозможно свести к субъективности, главенству и репрезентации, то получается, что французская теория ставит под сомнение современные гуманитарные – либеральные, консервативные и марксистские – разновидности «исторического» знания и «назначения истории». В этом смысле, раз капитализм «надисторичен» и не имеет соперников, «историческое сознание» более не способно регистрировать новые повороты реальности; историки, сами того не зная, остались не у дел.
Что касается историографии, то тут Ницше было важно разобраться, действительно ли задаваемые прошлому вопросы ставят под вопрос самого вопрошателя – открывают настоящее скептицизму по поводу нашегоупотребления и злоупотребления прошлым. В какой мере искреннее вопрошание прошлого – «примирение с прошлым» – самообман или, того хуже, инструмент политического воздействия? Последнему сегодня есть множество примеров. Один историк утверждает, что «модернистский» отказ от «поклонения предкам» превратил настоящее в пустыню, ибо без него скудеет «запас смысла…». Отпадение модернизма от мудрости минувших достижений, его «отход» от прошлого, «разрыв» с ним, пронизывает настоящее, окрашивая его в меланхолические тона, истощает смысл [174]174
Clark T. J.Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism. New Haven: Yale, 1999.
[Закрыть]. «Историчен» ли вопрос, предполагающий, что настоящее лишено того, чем (предположительно) обладало прошлое? С точки зрения Ницше, история прежде всего связана с тем, что мы делаем с языком и с существующими социальными отношениями путем «употребления и злоупотребления» историей. Ницше поинтересовался бы, как историк состряпал эту интеллектуальную схему, где настоящее читается как продолжение процесса расколдовывания мира: о чем идет речь – о прошлом или о связи прошлого с настоящим? Как может то, чем мы обладали, быть утрачено и при этом влиять на социальную систему, у которой мало общего с прошлым? И какую разновидность «поклонения предкам», бывшего залогом осмысленности этого прошлого, имеет в виду историк?
Если всерьез обратиться к истории-как-репрезентации, как к проявляющейся на разных языковых уровнях картине мира – наименования вещей, их классификации на существенные и случайные, подставления под эти ярлыки одних историй и расщепления других в вечной борьбе за «истинную картину», и так далее, – тогда интерес к истории-как-репрезентации неизбежен. Письмо историипрежде всего говорит о борьбе современников за использование репрезентаций в нынешних дебатах. Стандартный конфликт разыгрывается вокруг использования концептов, способствующих соединению повествования такими скрепами, как класс, власть, желание, и т. д. Два хорошо известных примера – дарвиновская идея естественного отбора и гегелевская концепция абсолютного знания: обе соотносят время с ощущением происхождения и результата, с генетическими моделями, где противоречия увязываются вместе при помощи темпоральной структуры. Историография прибегает к художественнымприемам, чтобы мы находили естественный отбор или абсолютное знание, классовый конфликт или расовые дилеммы на всем протяжении «истории», именно потому, что эти концепты присутствуют в языке. Это – лингвистические антропоморфизмы, идеализированные и интегрированные в «бессознательное интеллектуалов» – и не только их.
Согласно французской теории, в плане исторической репрезентации не может быть никакого окончательного «вот как было». В этом смысле она соглашается с собственным признанием историка в неполноте любого повествования и стремится показать, что всякий нарратив способен лишь симулироватьсвою дистанцированность от языка, лишь говоритьо своей дистанцированности от вещей, артикулируя слова, их воплощающие. Трудно пойти дальше апории Жерара Женетта, который в связи с проблемой описания утверждал, что даже простейший нарративный акт – к примеру, фраза «Был прекрасный день» – порождает нарративную проблему «рассказчика» и авторских функций; однако это сделали Делёз и Гваттари, когда в «Анти-Эдипе» подчеркивали, что письмо не может представлять историческое, пока это активный процесс письма [175]175
Deleuze G., Guatlari F.Anti-Oedipus. Minneapolis: University of Minnesota, 1977. P. 134.
[Закрыть]. В силу того что язык на своих «верхних» уровнях не меньше всего остального близок к слухам, сплетням, насмешкам, злословию, истерии и безумию, французская теория – в своей ницшеанской ипостаси – опротестовывала историческую репрезентацию, исследуя как неизменную склонность языка к выстраиванию иерархий, поглощению, выпрямлению и субъективации, или те психолингвистические «элементы», из которых состоит «заурядное историческое сознание». В свете такого истолкования Ницше, сочетавшегося с некоторыми предположениями по поводу структур и функций языка, историзация оказывалась полностью деавтономизирована, поскольку невозможно обнаружить никакого своеобычного способа существования языка или субъективности, при котором бы к нам возвращалось прошлое, а настоящее было его восприемником.
Под сомнение был поставлен и «чудесный» характер исторического письма. Согласно «Анти-Эдипу», «письмо истории» предполагает отказ от языка виртуальностей, отказ подчинять интеллектуальное брожение гладкости синтаксиса и семантической детерминированности; лишь при помощи такого контроля, сводящего значение к паре терминов, референт и выражение, или ограничивающего инвентари «существенного» и «случайного», нарратив создает или «реализует добавочную стоимость», – тексты, обеспечивающие «права регистрации», необходимые для координации государства/субъективности. Любой акт коллективного насилия связан с изложением событий, с созданием истории. В одних случаях нарратив обостряет конфликт, в других – смягчает; в обоих случаях читателей «захватывает» яркий живой пересказ событий, требующий некоторой «слепоты» по отношению к этой «чудесной глади для запечатления или для записей, которая приписывает себе все производительные силы и все органы производства, и играет роль мнимой причины, придавая кажущееся движение (фетиш)…». Как утверждает «Анти-Эдип», решающий культурный/литературный момент возникновения историографии как очевидной бюрократической функции отличался экстрактивностью и реактивностью:
Итак, каждый раз когда в текстах Делёза и Гваттари, Женетта, Барта, де Мана и других затрагиваются вопросы историографии, их концептуализация указывает, что постулирование «истории» должно также постулировать сходства и различия, разрывы и преемственности, указывает на языковой/мыслительный акт, придающий историографии подозрительный драматизм, устанавливающий псевдопараллели (т. е. временные дистанции, социальные сходства), создающий чувство подъема и упадка, когда временную структуру подкрепляет переживание эстетического удовлетворения. Историография – форма внедрения идеологий, проекций и желаний, которые регулярно становятся предметом «общественного обсуждения», что укрепляет существующие взаимосвязи. Обычная институциализированная историография всегда возвращается к некоемуверному или здравому смыслу, в борьбе против парабазисов или разрывов, которые могут случиться в любой момент повествования. Возможно, что «когда-то» историография действительно была местом, где субъекты могли обрести язык и «помечтать» об альтернативах неподатливой реальности; однако в наши дни институциональная историография не терпит бесконтрольной иронии и все более подозрительна к требованиям риторического или критико-лингвистического анализа. Все это вывела на свет французская теория историографии.
Пример: Исторический департамент Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA) и французская теория
Что предполагает ситуация, когда историки вступают в соперничество с установленными моделями письма? Как показывает история историографии, такого рода конфликты являются постоянным элементом западного производства исторических текстов [177]177
Историческое письмо связано со слишком большим числом переменных, чтобы можно было указать «единый» или гомогенный источник его происхождения/назначения. Один из лучших трудов по этой теме – книга Джеймса Шотвелла «История истории» ( Shotwell J. T.The History of History. New York: Columbia University, 1939. P. 51–69); автор утверждает, что монограммы, титулы, тотемические имена, летописи и хроники, церковно-приходские книги, религиозные празднества и календари столь тесно переплетены между собой, что невозможно определить единственную основу исторического письма, которое ассоциируется с «первыми» западными «мастерами», Фукидидом и Геродотом Наименование и перечисление соперничали друг с другом; городские хроникеры писали свои отчеты прозой (Р. 170), некоторую роль в «создании» историографии сыграло скептическое отношение к легендам.
[Закрыть]. Принимая во внимание эту константность, как лучше всего поставить вопрос об историках и их соперничестве с другими «репрезентаторами»? Всегда ли историки выступают в качестве судей нынешних притязаний на знание, перенося повествования минувшего в настоящее, как бы заявляя о правах и контрправах на требования «времени» и его случайности? В таком случае, что за странной силой они одержимы?
Самое серьезное обвинение французской теории в США связано с тем, что такого рода теории якобы ответственны за упадок значения гуманитарных и общественных дисциплин. Как утверждает в своей статье, опубликованной в журнале «История и теория», известный историк Перес Загорин, «постмодернизм внес интеллектуальную путаницу в гуманитарные дисциплины… способствуя… политизации [университетов]… одной из причин резкого и тревожного упадка гуманитарных дисциплин… одного из последних реликтов политических настроений 1960-х гг…» [178]178
Zagorin P.History, the Referent and Narrative: Reflections on Postmodernism Now // History and Theory. 1999. XXXVIII. № 1. P. 22–23.
[Закрыть]. Мнение Загорина – к сожалению, не вполне верное, – нашло широкую поддержку как в книжных рецензиях, выходивших в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, так и в самых что ни на есть академических публикациях. Я предлагаю соотнести обвинения, выдвигаемые такими историками, как Загорин, с некоторыми реалиями этой профессии, а затем сосредоточиться на критике французской теории в текстах исследователей Исторического департамента UCLA Моя цель – рассмотреть сопротивление, оказываемое историками французской теории, с тем чтобы выявить скрывающиеся за ним концепты и увязать их с тем, как институты делают это сопротивление частью соперничества за знание.
В национальном масштабе размеры департаментов истории стали таять по крайней мере с начала 1970-х годов. Согласно Американской исторической ассоциации, в 1997 году докторская степень (Ph.D.) в США была присвоена 954 историкам, что составляет около 2 % от общего числа докторских степеней этого года. В целом на долю гуманитарных наук приходится около 13 % от общего числа докторских степеней (в 1970 году на 210 млн американцев – 32 000 докторских степеней; в 1997 году на около 260 млн – 42 000 ученых степеней, что, учитывая прирост населения, следует считать упадком). Вплоть до конца 1980-х годов исторический департамент UCLA принимал в год более 300 кандидатов, претендующих на докторскую степень; в следующем (2002 г.) допущено будет только 35 кандидатов. Некоторый рост можно наблюдать лишь в областях исследования, вычленившихся из других дисциплин (к примеру, в составе исторических департаментов добавилась история науки и научных исследований), и, как правило, только в тех университетах, которые могут пополнить позиции, сокращенные при выходе членов департамента на пенсию или при перераспределении финансирования, назначаемого (тем или иным) центральным управлением. Заниматься историческими исследованиями в наши дни – занятие все более трудное и дорогостоящее, о чем нередко умалчивают некоторые критики «университетского упадка». Капиталистическое производство практикует внутреннюю исследовательскую конкуренцию [179]179
Всем институциям теперь вменяется в обязанность максимализировать продуктивность своих членов, независимо от их позиции, степени, научного положения и функций.
[Закрыть]; ведение исследовательских работ стоит дорого, поэтому реальным двигателем академической продукции является борьба за источники финансирования. Учитывая общее систематическое сокращение гуманитарных дисциплин, вполне понятно, что защита исследовательских проектов все настоятельней требует научного признания. Способом выражения последнего является то, что исторический департамент UCLA сейчас занимает 6-е место в национальном рейтинге, тогда как пятнадцать лет назад он был на 25-м. Подобные рейтинги являются определяющим критерием для финансирующих структур, когда они решают, спонсировать или не спонсировать тот или иной исследовательский проект.
Можно поспорить, что причиной «кризиса» и «упадка» гуманитарных наук также являются университетские департаменты, в том числе и исторический, которые берутся противостоять всем видам письменной продукции, способным «отъесть» кусок их издательского рынка, студенческой аудитории, нарушить воспроизведение «школы мысли» и многостороннюю систему вторичного рынка – к примеру, индексов цитации, мест публикации рецензий на книги, и т. д. Кто не знает о существовании разветвленной «системы звезд»: имеет ли какое-либо значение в этом контексте, что Жан Бодрийяр написал «Зеркало производства», будучи школьным преподавателем старших классов? Рыночные акции французской теории взлетели очень высоко, с 1983 г. было продано 25 тыс. экземпляров «Симуляций» Бодрийяра, которые увидели свет не в университетском издательстве. В Америке историки – если только они не попали на массовый книжный рынок, что в глазах исследовательского сообщества сопряжено с некоторой деградацией, – могут рассчитывать лишь на то, что их книги будут использоваться их коллегами в качестве обязательной литературы для тех или иных курсов: однако это далеко не то же самое, что создать новый рынок, как это удалось сделать представителям французской теории. Короче говоря, сопротивление французской теории историческим репрезентациям столкнулось с сопротивлением историков детальному разбору языка исследования, теоретического дискурса, знаков интерпретации, логики событий и т. д. Утверждать, что французская теория явилась «причиной» пресловутого упадка гуманитарных наук, – переворачивать вещи с ног на голову; легче доказать, что она «спасла» ветхую и корыстную систему от грозившего ей интеллектуального склероза.
Система Калифорнийских университетов произвела довольно много работ по деконструкционизму, постмодернизму и французской теории. Это – публичное свидетельство, где историки ясно выражают свое отношение к французской теории. Одна из основных дилемм, которой они обязаны постмодернизму, рассмотрена в статье Линн Хант «История по ту сторону социальной истории» [180]180
Hunt L.History Beyond Social History // The States of «Theory», History Art and Critical Discourse. Edited and with an introduction by David Carroll. New York: Columbia, 1990. P. 95–112.
[Закрыть]. Хотя автор говорит о многих проблемах, связанных с написанием истории, но особенно ее беспокоит то, что теории текста разрушают социальную теорию, то есть «поддающийся обобщению рассказ о причинах и следствиях». Хант не отрицает, что моделирование нарратива всегда представляет собой «стратегический прием… ради политического контроля над прошлым». Но только возможна ли «социальная теория» в контексте полностью капитализированной социальной системы? – именно таков был вызов французской теории метанарративам. Грубо говоря, капитализм избавляется от социальной теории, постепенно заменяя ее собственными «системными» фактами. А характерное для Соединенных Штатов удивительное сочетание психологизма и экономического бихевиоризма может служить доказательством невозможности социальной теории. Хант призывает соединить феминизм с психоанализом ради создания социальной теории, способной организовывать нарратив и придавать ему метастатус; однако именно отказавшаяся от Лакана французская теория поставила психоанализ под сомнение. Когда Хант пишет, что «нам всегда придется рассказывать им [истории, метанарративы]», то это можно счесть безответственностью; психоаналитическая версия истории человечества имеет больше отношения к модели письма, нежели к поиску истины, и едва ли может выступать в качестве осмысленного и значительного опыта.