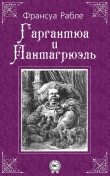Текст книги "Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре"
Автор книги: Борис Дубин
Соавторы: Дина Хапаева,Сергей Фокин,Уильям Дюваль,Михаэль Кольхауэр,Жан-Люк Нанси,Михаил Ямпольский,Жизель Сапиро,Вера Мильчина,Доминик Рабате,Сергей Зенкин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц)
Мало того что французская литература более какой-либо другой несет в себе собственный горизонт референций, будь то хотя бы лишь горизонт языка, стиля, формы; она еще и предполагает или утверждает его как высшую, самодостаточную ценность. Классицизм брал за образец античность, Бальзак или Флобер возвращались к урокам Буало, а к их собственному опыту возвращается новый роман. Так образуется корпуспрактик, ритуалов и правил, где есть и свои недоговорки, свои мифы. Поэтому литература во Франции, исходя из истории и выражая ее, образует «социальное пространство, внутри которого писатель решает поместить Природу своего языка […] определение и ожидание возможности»; иными словами, она «не столько запас материалов, сколько горизонт, то есть одновременно предел и остановка, успокоительная протяженность упорядоченного пространства» [29]29
Barthes Roland.Le degré zéro de l’écriture, Paris: Seuil, 1972. P. 15, 11.
[Закрыть]. Если бы не опасность быть неверно понятым, можно было бы говорить о «потребительской литературе» (разумеется, это отнюдь не та литература, которая просто «потребляется») [30]30
Ср.: Curtius Ernst-Robert.Die französische Kultur. 1930. P. 76, 90; Barthes Roland.Le degré zéro de l’écriture. P. 27.
[Закрыть], поскольку она связана с определенными выразительными средствами и формами, а также с определенными ритуалами, которые предшествуют ей и которые она находит уже готовыми, еще прежде чем ими воспользоваться. А кто лучше писателя (или письма) воплощает в себе эту очевидность литературы, которая сама себя обозначает и сама себе довлеет в работе над языком, в стилистической умелости? И наоборот, кто лучше, кто кроме читателя мог бы свидетельствовать, даже одним лишь своим неизбежным присутствием, о литературе и истории, которые никогда не реализованы до конца, чей идеал где-то впереди, которые находятся в становлении?
Итак, различие не просто выражается в словах, оно затрагивает самую реальность литературы как практики и как институции. Наконец, отсутствие в Германии критики в том смысле, в каком ее понимают во Франции, и, обратно, отсутствие во Франции такой науки о литературе, какой ее воображают и представляют себе немцы, суть просто следствия того, что сама литература определяется по-разному; «Мы, немцы, не знаем понятия литературы как таковой; мы, к сожалению, знаем одних лишь поэтов и мыслителей» [31]31
Curtius Ernst-Robert.Literarische Kritik in Deutschland. P. 22.
[Закрыть]. То есть критика занята удостоверением писательской умелости в более или менее установленных рамках и по более или менее установленным критериям, тогда как научное исследование всегда – по крайней мере, в идеале – заново ищет себе объект, то есть новое оправдание литературы. Первая исходит из текста, из письма как из реальности, способной быть должным образом удостоверенной, вторая же всегда по необходимости приходит к вопросу о читателе.
Ценность, Wertung?
Другой симптом различия – как оценивается литература по обе стороны Рейна. Wertung – буквально «образование ценности». В таком своем значении это слово почти непереводимо [на французский язык]. Разве что передать его термином évaluation (недавнего происхождения и еще мало применяющимся в контексте литературы) или же jugement ([суждение], который соответствовал бы скорее словам Bewertung или Werturteil). В отсутствие перевода можно говорить лишь об эквивалентности, поскольку оба термина – «ценность» ([valeur], синоним немецкого Wert) и Wertung – занимают сходное место в легитимации литературного факта. Однако Wertung, означая не столько установившуюся ценность, сколько ценность в процессе становления, предполагает некоторое отношение импликации: в данном случае им выражается работа «означивания», процессуализации смысла (далеко не совпадающего с простым значением), скорее движение читателя к произведению,чем наоборот. Таким образом, им предполагается понимание, а затем толкование (в активном смысле глаголов werten и deuten – толкование, образующее ценность); им предполагается некоторое содержание, Gehalt (еще одно труднопереводимое слово, поскольку им обозначается не просто глубина или содержание, но некая «толща», благоприятная для чтения), – одним словом, то, что Беньямин в своем определении эстетического объекта называл «внутренней формой», «особенной и уникальной сферой, где заключается задача (или проблема) и предпосылка стихотворения» [32]32
Walter Benjamin, cité par: Rumpf Michael.Aporien und Apologie. Zur Kritik an Walter Benjamin und seiner Rezeption. Cuxhaven: Junghans Verlag, 1991. P. 31.
[Закрыть]. Наконец, Wertung включает в себя движение от комментария к суждению, которое еще не сложилось и которое складывается – по крайней мере, в идеале – вместе с самим произведением, одновременно с ним. Итак, здесь все помещено в перспективу. Напротив того, «ценность» скорее имманентна, конститутивна самому произведению, ибо она как бы возникает еще до толкования, это именно то, что и требуется объяснить, выделить: форма, стиль, идея. «Но любая Форма является также и Ценностью» – пусть потребительной и трудовой стоимостью (согласно критериям, по которым Ролан Барт разграничивал классический и современный литературный проект) [33]33
Barthes Roland.Le degré zéro de l’écriture. P 14, 16; cf. Laforgue C.La valeur littéraire Paris: Fayard, 1983.
[Закрыть], но все же стоимостью.
Немецкие литературные теории, какой бы линии они в конечном счете ни придерживались, всегда строятся вокруг центрального понятия Wertung. Это понятие указывает не столько на идеал творения, определенный в красоте своего стиля или мастерстве письма, вообще не столько на какое-то формальное совершенство, сколько на озабоченность экзистенциально-политической, то есть попросту этической значимостью литературного произведения. В этом смысле им предполагаются иные ценности – такие, как опыт, критика, наконец, имплицитный читатель. Начиная с теорий Просвещения (Готшед, Лессинг, Виланд и, конечно, Кант) и романтизма, посвященных понятию «вкуса» («Geschmack», «Geschmacksurteil») [34]34
См. об этом: Bormann Alexander von.Vom Laienurteil zum Kunstgefuhl. Tubingen: Max Niemeyer, 1974. P. 22, 36, 43, 93, 152 sq., 170 sq.
[Закрыть], и вплоть до самых недавних исследований об эстетическом суждении [35]35
См., в числе прочих: Beriger Leonard.Die literarische Wertung, 1938; Kayser Wolfgang.Literarische Wertung und Interpretation, 1952; Wutz Herbert.Zur Theorie der literarischen Wertung, 1957; Hass Hans-Egon.Das Problem der literarischen Wertung, 1959; Schober Rita.Zum Problem der literarischen Wertung, 1973; в качестве обзорной работы: Pill Georg, Kaiser Erich(Hrsg.). Literarische Wertung und Wertungsdidaktik. Kronburg (Taunus): Scriptor Verlag, 1976. P. 9 sq.
[Закрыть], авторы всех этих великих текстов вводят определение и проблематику «литературной оценки». Перспектива ее то феноменологическая, то этическая, религиозная, или философская, или же историческая, но в основном она строится на следующих критериях: правдивое или ложное, подлинное или поддельное, солидное или поверхностное, закономерное или произвольное, современное или старомодное, реалистическое или нереалистическое, оригинальное или избитое и т. д. В зависимости от точки зрения при этом различают собственно поэтическую или эстетическую ценность произведения, всегда подразумевающую «единство содержания и формы, образа и смысла, идеи и фигуры», и «экзистенциально-онтологическую ценность», то есть емкость и «укорененность в жизни, в идеях, в своем времени» [36]36
Pilz Georg.Literarische Wertung und Wertungsdidaktik. P. 15.
[Закрыть].
Комментарий, Deutung?
Ценность литературы или literarische Wertung? В одном случае произведение объясняется, комментируется и в итоге получает признание через работу письма; в другом случае происходит работа чтения в поисках его смысла. Легко понять, какие последствия вытекают из этой разницы подходов. Начать хотя бы с самого акта чтения: здесь пояснение или комментирование противостоят пониманию и толкованию – таков еще один оттенок литературного спора Франции и Германии. Если следовать Дильтею [37]37
См.: Dilthey Wilhelm.Die Entstebung der Hermeneutik // Gesammelte Schriften. Т. V. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. P. 317 sq.; Ricœur Paul.Interprétation // Robert Picht. Esprit/Geist. P. 186 sq.
[Закрыть], то интерпретация(Deutung или Auslegung) занимается истиной или, выражаясь скромнее, одной из истин художественного произведения, а комментарийили объяснение – его сюжетом. То есть комментировать – значит объяснять данное; интерпретировать же – значит «быть причастным к истине» [38]38
Выражение Ханса-Георга Гадамера, цит. по: Hauff Jurgen.Methoden-diskussion. Т. II. P. 22. Джордж Стайнер пишет об интерпретации, что она представляет собой «рискованную попытку, некоторый ответ, который, по самой этимологии слова, сам является ответственным» ( Steiner George.Réelles présences. Paris: Gallimard, 1989. P. 27).
[Закрыть], обращаться к смыслу (искусства, философии, истории) или же открывать еще не открытое.
Конечно, когда говорят о фигурах, всегда подразумевается и читатель, определенный способ читать литературное произведение. Но понимать ли чтение как риторическую, стилистическую или семиотическую конструкцию, оно всегда остается здесь некоторой игрой, функцией, эффектом или даже «эффективностью» текста, письма [39]39
См.: Todorov Tzvetan.La lecture comme construction // Todorov Tzvetan. Les genres du discours. Paris: Seuil, 1978. P. 86; Charles Michel.Rhétorique de la lecture. Paris: Seuil, 1977. P. 10.
[Закрыть]. Если же, наоборот, рассматривать его как незаполненное место или репертуар, неявным образом содержащиеся в тексте, то зачастую письмо остается для него лишь определенным способом осуществления в мире. В первом случае чтение исходит из текста и к нему возвращается, может быть даже приводит к нему весь мир; тогда как во втором случае оно старается принимать во внимание членения, стратегии и идеологии, которыми литературное произведение через посредство читателя вписывается в мир и в историю. Можно приблизительно резюмировать это словами Поля Рикёра [40]40
Ricœur Paul.Temps et récit. T. 1. Paris: Seuil, 1983. P. 85 sq.
[Закрыть]: при объяснении рассматривается прежде всего текстуальная реальность произведения и его связь с миром (мимесис II, или «конфигурация»), а также, возможно, связь писателя с миром (мимесис I, или «фигурация»); интерпретация же рассматривает прежде всего связь читателя с произведением и миром (мимесис III, или «рефигурацию»).
В принципе такой зов, исходящий из текста и превращающий читателя в цель, преследуемую самим произведением, является столь же абстрактным, попросту пустым, сколь и место читателя, вписанное между строк текста. И то и другое остаются утопиями, в лучшем случае топосами, как бы ни пытались наполнить их жизнью. Но устроены они, конечно, противоположным образом: в одном случае произведение высказывает меня, «оглашая» и вербализируя во мне то, что остается незавершенным и порой неосознанным; в другом же случае я высказываю произведение, некоторую часть самого себя и мира, я как бы привношу в слова некоторую принадлежность. Если во втором случае читатель остается «системой отсчета текста» [41]41
Iser Wolfgang.L’acte de lecture. Théorie de I’effet esthétique. Bruxelles: Mardaga, 1985. P. 69.
[Закрыть], то в первом случае он сближается всего лишь с «регистрирующим сознанием»: «Такой целостный читатель мыслится мне все ощупывающим и оглядывающим, и он прочитывает произведение во всех направлениях, выбирает различные, но все время связанные одна с другой перспективы, различает в нем формальные и духовные маршруты, особо важные следы, сплетение мотивов или тем, которые он прослеживает в их повторах и метаморфозах, обследуя поверхности и углубляясь в подпочву, пока перед ним не явится центр или центры, куда все сходится, фокус, откуда исходят все структуры и все значения. Своей ощупью читатель обследует не столько интенции автора, сколько интенции произведения» [42]42
Rousset Jean.Forme et signification. Essais sur les structures littéraires. Paris: José Corti, 1962, cité dans: Fayolle Roger.La critique littéraire. Paris: Armand Colin, 1964. P. 365.
[Закрыть].
Итак, в одном случае – усредненный читатель, как бы добавленный к тексту извне, просто для того чтобы гарантировать его реальность; во втором же случае – индивидуальный читатель, исходно внутритекстуальная фигура, но в итоге обретающая биографическую, социологическую или историческую реальность. Если прослеживать это расхождение перспектив до крайних пределов (например, до контроверзы модерна и постмодерна), то оно уведет нас далеко – в конечном счете в историю. В сущности, оно обусловлено тем отношением, какое устанавливается между чтением и словом мира, образующим либо горизонт, либо назначение литературного произведения. Таким образом, точка разрыва (или перехода) располагается в другом месте – между миром вымысла и вымыслом о мире, между точкой зрения, отдающей предпочтение дескрипциитекста и даже мерящей «реальность» по говорящим о ней рассказам, и другой точкой зрения, которая, напротив, отдает предпочтение инскрипциитекста, стремясь измерить «реальность» в говорящих о ней рассказах. У обеих этих крайних позиций, объясняющей и интерпретирующей, есть хорошо известные изъяны: сводить чтение к семантической фикции или к игре письма – значит, в худшем случае, утверждать, что нет вообще или больше нет вне-текста; смешивать же его со стремлением осмыслить мир (придать ему гуссерлевский или какой-то иной Weltsinn, «мировой смысл») – значит необдуманно забывать, что не может быть литературы вне письма, что не может быть смысла без высказывающих его слов. И вот – случайность ли это? – методы, описывающие мир текста, методы объяснения текстов вплоть до семиотики, стилистики, риторики или же нарратологии, оказываются прежде всего «французскими»; а те, что вписывают текст в мир, от Geistesgeschichte до герменевтики, рецептивной эстетики или прагматики, оказываются «немецкими» или же англосаксонскими [43]43
Термины «дескрипция» и «инскрипция» и вытекающая из них классификация взяты из книги: Delcroix Maurice, Hallyn Fernand(sous la direction de). Méthodes du texte. Paris; Gembloux: Duculot, 1987.
[Закрыть]. По одну сторону – методы (или перспективы) писателя, по другую – читателя.
Преподавание или Literaturdidaktik?
От интерпретации перейдем к преподаванию литературы или же к Literaturdidaktik [44]44
См.: Doubrovski Serge, Todorov Tzvetan(sous la direction de). L’Enseignement de la littérature. Paris: Plon, 1971; Kreft Jurgen.Grundprobleme der Literaturdidaktik. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1982.
[Закрыть]. Уже сами термины указывают на разницу в позиции и перспективе. Во Франции литература преподается как длительная история форм и смыслов; в Германии она является даже не предметом, а источником преподавания, «Literatur im Unterricht» («литература вязыковом курсе») или «literarisches Lernen» («литературное обучение») [45]45
См.: Dehn Wilhelm.Ästhetische Erfahrung und literarisches Lernen. Frankfurt: Fischer, 1974; Mainusch, Herbert(Hrsg.). Literatur im Unterricht, München, Wilhelm Fink Verlag, 1979. P. 132.
[Закрыть]. В идеале она учит читать не только литературу, но и вообще слова и вещи, смысл жизни. «Учиться читать через литературу» – значит «получать простой, но вместе с тем и важный опыт языка как опыт мира» [46]46
Arntzen Helmut.Acht Thesen zum Verhaltnis von Sprache und Literatur // Herbert Mainusch. Literatur im Unterricht. P. 25.
[Закрыть].
Не будем останавливаться на мелочах, то есть на различиях в методах и учебных расписаниях, которые в одном случае отдают предпочтение исходному тексту и его месту в истории, а в другом – той тематической перспективе, куда он попадает в современном контексте, будь то даже контекст одного конкретного читателя. Так, в Германии нет ничего сравнимого со школьными антологиями типа Лагарда и Мишара (или же Миттерана), с их систематической работой по передаче традиции. Нет и ничего сравнимого с методами письменных работ по литературе – «диссертации», «объяснения текста», «сложного комментария» или с многочисленными конкурсами, которыми размечена, словно порогами и переходными обрядами, вся территория литературного (при)знания.
Рискую быть опровергнутым, но все же берусь утверждать: в тех дискурсах, которыми во Франции высказывается литература, читатель часто бывает начисто забыт. Читатель – или же, по крайней мере, реальность чтения как таковая, поскольку она означает нечто большее, чем обязательную практику, непременное условие. Конечно, здесь необходимы уточнения в свете новейших данных [47]47
См., например: Littérature et enseigneraent: la perspective du lecteur// Le Français dans le Monde, numéro spécial (février/mars 1988). P. 2 sq.
[Закрыть]: в последнее время перспектива сместилась в сторону читателя, о чем свидетельствует, помимо прочего, поток работ о рецепции. Теперь читатель уже не растворяется в некоей усредненно-ритуализированной фигуре, в сумме знаний или, вернее, этики (светски-республиканской) [48]48
Marty Eric.La cinquième république des lettres // Critique. 1984. T. XL. № 442, mars. P. 414 sq.
[Закрыть], а выступает как индивидуальность, не сводимая ни к какому идеалу чтения. Но все-таки раньше точка зрения всегда оставалась односторонней, а значит, и однозначной – от текста к читателю; делом читателя было выяснить без остатка все, что, как предполагается, высказывает или подсказывает нам произведение. При таком распределении ролей следовало как можно точнее уловить общий замысел, а заодно и писательское мастерство, которым он поддерживается и выражается, которое лежит в самом истоке изучаемого текста. Пусть сегодня об этом и уместно говорить в прошедшем времени, все же акцент по-прежнему делается на тексте и его фактуре.
Напротив того, перспектива Literaturdidaktik – это, в идеале, изучать скорее условия возможной инскрипции произведения в мир (или текст) читателя. Итак, «литература для читателя» [49]49
См.: Weinrich Harald.Lliteratur für Leser. München: Deutschen Tachenbuch Verlag, 1986. P. 31.
[Закрыть]– а не наоборот, «читатели для литературы». Здесь также беглый обзор фактов подтверждает нашу исходную гипотезу: немецкая литературная дидактика, опирается ли она на антропологию, психологию или лингвистику [50]50
См. в особенности: Wittenberg Heiner.Zur Psychologie des Literaturunterrichts. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1987. P. 171, а также: Dehn Wilhelm. Ästhetische Erfahrung und literarisches Lernen P. 39–108.
[Закрыть], изначально исходит из чтения, а уже потом возводит в принцип и метод контекстуализацию некоторого поля интересов, ожиданий или ценностей, свойственного конкретному читателю. Таким образом, литературное произведение образует место назначения (Zieltext) интерпретации. Интерпретация помогает читателю не столько удостоверить умение или мировидение писателя, сколько постичь некую истину о мире и самом себе – через посредство собственной вовлеченности в текст, отождествления или дистанцирования по отношению к нему, наконец, его симуляции. На вопрос «зачем литература?» здесь отвечают ценностями, оправдывающими чтение: для критического мышления, освобождения, развития, самоосуществления (Selbstverwicklichung) [51]51
См.: Breuer Rolf, Schowerling Rainer.Das Studium der Anglistik. Technik und lnhalte. München: C. H. Beck Verlag, 1974. P. 132 sq.
[Закрыть]. Говоря конкретнее, вот некоторые из основных целей, утверждаемых в Literaturdidaktik: открытие литературного произведения как «конструирование реальности» (Entwurf von Realität), способное дать возможность для собственной точки зрения; познание великих текстов литературы; наконец, научение эстетической восприимчивости к языковым объектам [52]52
Schwenke O.(Hrsg.). Literatur in Studium und Schule. Loccum, 1970. P. 15, cité dans: Breuer Rolf.Das Studium der Anglistik. P. 132 sq. См. также: Vogt Jochen.Literaturdidaktik. Aussichten und Aufgaben. Düsseldorf: Bertelsmann Universitätsverlag, 1972.
[Закрыть]. Итак, во всем точка зрения читателя, стремящегося подходить к литературному факту снизу, через ожидание, которым он поглощен и в котором он обретает смысл своего существования.
Конечно, подобные воззрения уже устарели, равно как и вдохновляющая их идеология – критическая теория, господствовавшая в 70-е годы; а точнее, модель или идеал диалогической и рефлексивной компетенции [53]53
Имеется в виду, конечно, Юрген Хабермас: Habermas Jurgen.Tecnhik und Wissenschaft als «Ideologie». Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968, глава «Erkennisund Interesse». P. 146–168.
[Закрыть]. Эволюция последних лет несет с собой больше интереса к фактуре, а значит, и к собственно литературной специфике текста [54]54
См.: Gutschow Harald.Die Rehabilitierung der Literarur. Mainusch (Hrsg.): Literatur in Unterricht. P. 132.
[Закрыть]. И все же в целом новая перспектива продолжает отдавать предпочтение герменевтическому кругу интерпретации – от читателя к читателю через текст. Со всеми опасностями, присущими такой позиции: тенденцией превращать литературный текст в дискурс, сводить его к одному лишь его значению, – словом, инструментализировать его. В противоположность таким стремлениям, во французской дидактике можно прочитать следующее исповедание веры (которое, выказывая происходящую параллельно эволюцию, оставляет далеко позади навыки традиционного объяснения текста): «Литературный текст в языковом классе не должен сводиться к какому-либо „поводу“: а значит, не должно быть никакого „детального объяснения текста“ или „философского истолкования“ на тему того, „что хотел выразить автор“. Текст остается неприкосновенным. Он не должен вскрываться, разрезаться, разрушаться» [55]55
Boiron Michel.A propos d’Ernesto // Reflet. № 22 (sept. 1987). P. 58.
[Закрыть].
Паралитература, Trivialliteratur?
Ценность – Wertung. Сказанное о собственно литературе относится и к тому, что пытается на нее походить, – к паралитературе, которую немецкий язык обозначает лишь уничижительными терминами «Trivial-», «Massen-», «Konsumliteratur». Здесь опять-таки сами слова ясно передают разрыв между оценочностью и внешней нейтральностью (хотя и во Франции охотно говорят о «вокзальной» или «бульварной» литературе, о «розовой», «черной» или «желтой» сериях). Однако не столь важны оценочное суждение или выражающие его термины – для нас существенна лишь общая перспектива. Паралитература (во французском понимании термина включающая в себя также и окололитературные формы, такие как комикс, реклама, песня, телепередача и т. д.) еще до всякой идеологической рефлексии предполагает определенную структуру сюжета или персонажей, членение пространства, фокализацию, одним словом, определенную формально-текстуальную реальность рассматриваемого объекта [56]56
Ср. в этом же плане предостережения Жерара Женетта ( Genette Gérard.Nostalgie dans la culture // Le Monde. 1987. 5 juin) против смешения разнородных понятий, когда в эстетическую оценку незаметно вторгается какой-нибудь этический, а то и религиозный предрассудок. Согласно Рольфу Бройеру ( Breuer Rolf.Das Studium der Anglistik. P. 85 sq.), «Konsumliteratur», включающая в себя детективные, приключенческие, любовные, военные романы, научную фантастику, Frauen– и Heimatroman, определяется по следующим критериям: потребность в развлечении, эскапизм, читательское самоотождествление с героем и ситуацией, ложный «реализм», подтверждение читательских предрассудков. Тем не менее Trivialliteratur также стала особым предметом, если не особой областью, литературной критики; см.: Burger И. О.Studien zur Trivialliteratur. Frankfurt am Main, 1968.
[Закрыть]. Немецкая же точка зрения – это точка зрения читателя, даже в случаях, когда эстетическое суждение подменяют социологическим анализом, который считается менее пристрастным; это, несомненно, идеологический читатель, отражающий априорное представление, согласно которому с литературой (то есть с «настоящей» литературой) чуть ли не по определению ассоциируются, как бы сами собою подразумеваются моменты прозорливости, ясной мысли или познания. И как бы ни называлось такое воззрение на стереотипно-клишированную литературу в плане ее восприятия или же ее способности или неспособности воссоздавать социальную действительность [57]57
См.: Breuer Rolf.Das Studium der Anglistik. P. 85.
[Закрыть], оно, по сути, есть не что иное, как «социологизированная» версия извечного Bildungsideal’a.
Здесь также решающим оказывается критерий Wertung’a – на нем основывается целая этика литературы. И это, конечно, перспектива читателя, когда плоской паралитературе с порога предъявляют вопрос о смысле, следуя практически неизменной и множество раз проверенной процедуре: какова значимость данного текста, учитывая ситуацию его получателя? и какие возможности он дает для расшифровки, учитывая собственный литературный горизонт читателя? [58]58
См.: Pilz Georg.Literarische Wertung und Wertungsdidaktik. P. 14.
[Закрыть]Перед нами вновь предпочтение, отдаваемое работе чтения. С той лишь разницей, что чтение здесь изначально недоверчивое: читателю надлежит демистифицировать ложные обличил и высказывать их лишь условно, определять не то, что такая литература говорит или может сказать, а именно то, чего она не говорит и сказать не может, поскольку она пытается быть похожей… на литературу. Чтение утверждается как один и тот же основополагающий акт и для литературы, и для «подделки» под нее. Оно служит окончательной мерой. С той лишь разницей, что в одном случае оно само возбуждает критический ум, а во втором случае требует его. Отсюда чисто негативное определение, с необходимостью зависимое от «просвещенного» чтения: Trivialliteratur идеологична именно в том отношении, что не пробуждает (или же пробуждает лишь на вторичном уровне) размышление о себе и мире. Попав в порочный крут (мало похожий на круг герменевтический), читатель здесь остается таким же, каким был до чтения, пассивным предметом речи, его извечные предрассудки вновь и вновь подкрепляются. То есть приписываемая литературе двойственность соблюдается и в этом случае: «высококачественная литература» (с помощью одного из своих типичных сокращений язык часто ставит ее в кавычки, как бы подчеркивая ее двойственность) высказывает «не только мир, каков он есть, но также и прежде всего читателя, каков он есть и каким он мог бы быть» [59]59
Domin Hilde.Literatur im Vorratsschrank // Herbert Mainusch. Literatur im Unterricht. P. 66.
[Закрыть].
Подведем итог. На глубинном уровне во Франции и Германии идет работа в противоположном направлении: в одном случае исследуется формальная и социальная реальность литературы, данной как норма или образец; во втором случае литература получает либо философское, либо этическое обоснование, через ее ценность для индивида. Таким образом, не обманываясь общим словом «литература», следует уяснить, что французская литература – от классицизма до реализма, от объяснения текста до структурализма, не исключая даже самых радикальных попыток протеста (таких, как сюрреализм, новый роман или деконструкция), всегда определялась главным образом через констатацию некоторого места.Это может быть место реальное – институция, традиция, преподавание – или же место виртуальное: текст, форма, наконец письмо. Немецкая же литература была и до сих пор остается – от романтизма до послевоенного романа, от герменевтики до рецептивной эстетики, и даже в самом радикальном своем течении экспрессионизме – поисками и, главное, заботой о связи.Связи, которая всегда виртуальна: с другим, с читателем и миром.
Вместо заключения
Пора вернуться с целью проверки к моему исходному тезису: два ключевых персонажа – писатель и читатель – возникли здесь не случайно, они свидетельствуют о различном видении литературы, если она включается во французскую или немецкую систему мышления. Биография каждого из них соответствует определенным силовым линиям, константам или структурам, которые, в свою очередь, относятся к долгой временной протяженности (как называл это Бродель, а не Гегель) – к истории ментальностей [60]60
Об истории долгой временной протяженности, о различных «умственных оснастках» или же о «давних привычках мышления и действия» см.: Braudel Fernand.Ecrits sur l’histoire. Paris: Flammarion, 1969. P. 50, 53.
[Закрыть]. В одном случае они связаны со статусом литературы как таковой, как экономической, исторической, социальной или культурной знаковой деятельности; в другом же – с теми философскими, религиозными или собственно литературными контекстами, в которых она получает свое значение. Но каковы же при этом приоритеты и выделенные моменты? Следует признать, что здесь еще предстоит много выяснить, поскольку ранее предлагавшиеся (когда они вообще предлагались) причинные объяснения в итоге оказывались или слишком монологичными, или слишком общими, порой до тавтологии.
Первое из них, наиболее известное, связано с литературой как социальным институтом. Это не столько объяснение, сколько констатация. Здесь, конечно, не место перечислять подробно все множественные черты «французской исключительности» в вопросе о литературе (да и в иных вопросах): учебники и антологии (в том числе, конечно, Лагард и Мишар, а ныне Миттеран), теле– и радиопередачи, престижные, а главное – общедоступные литературные журналы (от «Лир» до «Эроп», включая «Критик», «Магазин литерер», «Ке Вольтер» и т. д.), постоянные рубрики в газетах, премии, книжные ярмарки и салоны, карманные издания, экранизации, становящиеся событиями культуры; президентов-писателей; фигуру «образованного человека», который совсем не то же самое, что немецкий эрудит; фигуру и роль интеллектуала (от Золя до Сартра), практически отсутствующую в Германии [61]61
См.: Jurt Joseph.Status und Funktion der Intellektuellen in Frankreich – im Vergleich zu Deutschland // Delft Louis van (Hrsg.). Offene Gefüge. Literatursystem und Lebenswirklichkeit. Tübingen: Gunther Narr Verlag, 1993; Паскаль Ори пишет, что «интеллектуал предполагает общность убеждений между говорящим и обществом или той его частью, к которой он пытается обращаться» ( Ory Pascal.Les intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours. Paris: Colin, 1986. P. 9). He получается ли, что интеллектуал, продолжая дело писателя и литературы в самой реальности, устанавливает ту связь с читателем, которая недооценивается или отвергается литературной прозой? Напротив того, в Германии господствует фигура эрудита-специалиста, часто профессора. Разница в том, что этот последний если и говорит о литературе, то редко делает это изнутри или от имени самой литературы и не заботится о значимости своих слов в непосредственно актуальном контексте. В Германии тоже есть интеллектуалы – сколько угодно. Но удивительно, как мало интеллектуальных дискуссий происходит в этой стране консенсуса и социального диалога. В чем тут дело – в том, что нет общей столицы, общенациональной аудитории или же культуры публичных дискуссий? Кажется, такова точка зрения Роже де Века ( Week Roger de.L’écriture est une folie française // Supplément le Monde (spécial Salon du Livre. 1989. 19 mai).
[Закрыть]; наконец, политический и культурный централизм, привилегированное положение Парижа, этого «интеллектуального caput orbis» [62]62
[Главы мира ( лат.). – Примеч. пер.] Формула Эрнста Роберта Курциуса ( Curtius Ernst-Robert.Die französische Kultur. P. 151).
[Закрыть].
В любом случае по разные стороны Рейна существуют разные культурные, а значит, и литературные идеалы: в одном случае – Bildungsideal, в другом – «nationales Kulturgut» [63]63
Curtius Ernst-Robert.Die französische Kultur. P. 7.
[Закрыть]. Во французском понимании литература еще и поныне отсылает к идее нации, тогда как за Рейном она часто образует лишь замкнутую область. Вероятно, были правы Э.-Р. Курциус, а вместе с ним и другие авторы, когда подчеркивали капитальную роль литературы во Франции, ее косубстанциальную связь с социальной, политической и исторической действительностью этой страны: «Во Франции национальный дух воплощает в себе не философ, не музыкант, не ученый, но писатель» [64]64
Ibid. P. 84.
[Закрыть]. Литература = клерикатуре? Действительно, такое слово подходит – с некоторыми нюансами. Будучи связана с тремя сетями – властью, знанием и историей, литература во Франции обладает тройной легитимностью: как признанный институт, как способ совместного бытия и как корпус ценностей. Она каждый раз заново подтверждает место своей национальной принадлежности – хотя бы тем, что напоминает о непрерывной традиции. Можно сформулировать это так: во Франции литература является полноправной частью форума, предметом социального присвоения; в Германии же она всего лишь нечто избыточное, умение говорить лучше.
Продолжением этой констатации является второе возможное объяснение – религиозное. Вдохновителем его был испанский философ Мигель де Унамуно, хорошо знавший и Францию, и Германию. Автор «Трагического чувства жизни» противопоставлял католицизм – конечно, трагичный, но конкретный, ибо это «воплощенный Глагол», и протестантизм, понимаемый как «чистый религиозный индивидуализм […] неопределенная эстетическая, этическая или культурная религиозность». Католицизм имеет дело с реально-зримым, воплощенным в таинстве Евхаристии, тогда как протестантизм порождает «субъективное сознание, проецируемое вовне, персонифицирующее мир», – в молитву или диалог. Если перевести это в эстетические термины, то этим двум позициям соответствуют два мировидения: католицизм находит свое наиболее адекватное выражение в живописи и скульптуре (например, у Веласкеса), а протестантизм в музыке, особенно у Баха [65]65
См.: Unamuno Miguel de.Le sentiment tragique de la vie. Paris, 1937. P. 339, 81, 87, 84, 188, 89.
[Закрыть]. Разумеется, подобный дуализм неизбежно вызывает возражения, как исторического, так и географического порядка: Германия далеко не вся является протестантской, а с другой стороны, было бы по крайней мере поспешно усматривать в светской культуре Франции всего лишь сохранение католического культурного субстрата в иных формах. Несмотря на свою ограниченность, данное различение позволяет лучше понять фундаментальный выбор, на котором основан дискурс о литературе по ту и другую сторону Рейна. С одной стороны, это собственно культурные или даже просто литературные дискурсы, зависящие от некоторой ощутимой, конкретной, измеримой реальности, с другой стороны – дискурсы религиозные, этические или философские, то есть спекулятивные, связанные с сознанием и идеалом. Католическая, а затем светская литература (в плане долгой временной протяженности такие нюансы маловажны) заключает в себе этику возможного и зримого, поскольку она воплощает в себе четко размеченное место коммунитарной, религиозной или национальной принадлежности. Напротив того, протестантизм и те виды рефлексии, которыми он вдохновляется, – герменевтика, диалектика и даже критическая теория (Хабермас) – начинаются, но отнюдь не заканчиваются, поисками лично-коллективной, интерсубъективной этики [66]66
См.: Rochlitz Rainer.Martin Heidegger // Robert Picht. Esprit/Geist. P. 177; Goldschmidt Georges-Arthur.Sur deux chaises. Reinbeck-Chambéry // Jacques Morizet (sous la direction de). Allemagne – France. Lieux et mémoire d’une histoire commune. Paris: Albin Michel, 1995. P. 24 sq.
[Закрыть]. Соответствующая им литература, основанная на стремлении к связи с другим, в частности на диалоге, не существует сама по себе – она становится собой через то значение, которое обретает для индивида. Мы вновь встречаем здесь – пусть по метонимии, когда часть обозначает целое, – двучленную или трехчленную формулу писатель-текст-читатель, которая на двух берегах Рейна понимается по-разному. Во Франции текст, образец, фактура или фабрика подтверждают собой труд, а тем самым и действительность писателя. В Германии же он служит скорее приглашением, чем посланием, и воплощает собой прежде всего возможную встречу с другим, в данном случае с читателем. Если оставаться в пределах религиозной лексики, то в одном случае произведение является исповеданием веры, исповедью писателя, а в другом – призывом к читателю, молитвой.
При всей своей актуальности подобные воззрения должны быть уточнены. Опираясь прежде всего на институт литературы, на ее формы, модусы, психические структуры, в которых она представляется, они недооценивают – особенно со стороны Германии – материальные реальности и условия, то есть глубинный ритм истории. А главное, они констатируют, но не объясняют или объясняют лишь частично. Между тем в данном случае любая, скажем социологическая, религиозная или культурная, гипотеза оказывается недостаточной: ведь Англия и Испания, две централизованные монархии, одна англиканская, другая католическая, не знали подобной эволюции в области литературы или культуры. А федеральная, но католическая Италия, долгое время стремившаяся, как и Германия, к трудноосуществимому единству, тем не менее во многих областях отличается от последней.
Итак, подобные попытки объяснения [67]67
См. также хорошо известный анализ Макса Вебера в «Протестантской этике и духе капитализма» ( Weber Max.Gesammelte Aufsatze zur Religions-soziologie. Т. V. Verlag J. C. B. Mohr, 1947), где дается иное, более «материалистическое» освещение проблемы. Заметим, что госпожа де Сталь тоже, по-видимому, отдает предпочтение религиозному объяснению (за неимением другого), когда противопоставляет католическую религию, которую «сумели соединить с литературой и изящными искусствами», и протестантизм или же романтизм, где «ни в чем нет устойчивых вкусов, где все независимо, все индивидуально» ( Мте de Staël.De l’Allemagne. Т. V. P. 63; Т. II. P. 9–10).
[Закрыть]можно упрекнуть в недооценке исторического измерения – и прежде всего в забвении того факта, что если в первом случае история обрела ощутимую реальность в нации, государстве и культуре, то во втором случае она по-прежнему воплощает в себе предмет исканий, некий идеал или же грядущее. Отсюда немецкая рефлексия о государстве (у Канта, Гегеля или Маркса), чья цель в плане политики сравнима или, по крайней мере, дополнительна к той, что преследуется эстетиками в плане искусства: определить ту территорию, где становится возможным или даже оправданным совместное бытие. Однако следует напомнить: государство – это не нация; оно либо вырастает из нее (по примеру Франции), либо предшествует ей и подготавливает ее (в случае Германии). Так же обстоит дело и с литературой, отсутствие которой как института следует понимать в свете немецкой национальной истории, вновь и вновь начинаемой заново, от Гегеля до Хайдеггера, истории идеализированной, одним словом, диалектизированной [68]68
Французским притязаниям на универсальность (или попыткам выдать себя за нечто всемирное) Германия противопоставляет национальную особенность ( Dumont Louis.Identités collectives et idéologic universaliste: leur interaction de fait // Critique. T. XLI. № 456 (mai 1985). P. 507). Уточним: это особенность такой нации, которую все ищут да ищут, а она, пожалуй еще и ныне, остается ненайденной, то есть идеальной.
[Закрыть]. Наконец, отсутствие нации-литературы (в том смысле, в каком Бродель писал о мире-экономике), литературы, ставшей национальной реальностью, а стало быть, и нации, обозначаемой своей литературою, – все это отражает отсутствие сложившегося корпуса ценностей, ритуалов, практик, знаков, отсутствие интеллигибельной или даже непосредственно переживаемой традиции. Ее утопия – утопия литературы – это также и утопия истории и нации, которых не удается обрести. Как писал Герман Глазен о культуре: alles das, was nicht ist – все то, чего нет [69]69
Glaser Hermann.Kultur ist alles das, was nicht ist // Die Zeit. 04.05.1990. № 19. P. 124 sq.
[Закрыть].