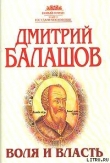Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
– Глупый русский обычай! – И Софья снова зашлась в голос, вспомнив, видно, сгоревшую в неотапливаемых летних сенях широкую, мягкую постель с лебяжьими перинами, с одеялом, сшитым из кизылбашской золотой камки на соболях с горностаевой опушкой, с черевчатой сафьяновой кровлей – кровать брачную, привезенную ею в качестве приданого из Гданьска.
Данила пробурчал:
– «Лучше бы ми железло варити, нежели со злою женою быти», – как говаривал мой тезка[35]35
Бяконтов процитировал «Слово Даниила Заточника».
[Закрыть].
А Василий вспомнил жену Ивана Уды с обуглившимся трупиком на руках, старика с опаленной бородой, схватил Янгин витень – вот чему не сгореть, не пропасть! – и уж замахнулся на глупую свою жену, но в последний миг сдержал руку, только щелкнул в воздухе всеми тремя волосяными хвостиками плети. Отошел кокну, повертел в раздумье кнутовище, скользнул взглядом по надписи: «Руби меня татарская сабля, не бей царская плеть»… Смутно подумалось, что свадьба хоть и пышно да громко прошла, но было в ней больше уставного обычая, нежели души, а Софья, может быть, тоже это чувствовала сердцем: не из-за дурацкой же крытой постели она убивается, в самом-то деле?.. А еще подумалось, что, может, кто-то сглазил Софью – ведь девкой-то она не такой была? Злое чародейство мало ли от кого могло проистекать, хоть от той же Янги… Известно по семейным преданиям, что великий князь Симеон Гордый по кончине первой жены своей сочетался в 1345 году браком с Евпраксией, дочерью одного из князей смоленских, но через несколько месяцев отослал ее к отцу, для того что «великую княгиню на свадьбе испортили: ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец». Может, и Софью…
Василий сдвинул в сторону желтое фряжское стекло окна, жадно хватил ртом морозного воздуха.
В Кремле продолжали благовестить к заутрене, в Замоскворечье орали поздние петухи. Жизнь жительствовала.
Глава IV. Черным по белому
Не хочу беспристрастия. Настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давая всему и нелепое, и драгоценное для нас теперь толкование.
А. Пришвин
1
К утру ветер окончательно стих, непроносные грязно-серые тучи траурным саваном нависли над Москвой. Снег сыпал торопливо, густо, но не мог укрыть пепелищ, а смешивался с углем и сажей, сам уж казался черным. Вороны и галки метались в косом, неверном полете над остовами церквей без куполов и крестов, не узнавая Москвы, не находя привычных пристанищ, граяли мрачно, озлобленно. И даже благовест долетал с Ивана Лествичника робко и уныло, словно боясь напомнить людям, что беда произошла от церковного как раз колокола.
Киприан причины того, что произошло минувшей ночью, усматривал в другом.
– Это должно было произойти, это не могло не произойти, ибо непотребно так пьянственной напасти предаваться! – горячо, пожалуй даже излишне горячо, внушал он Василию. – Вот и Тохтамышево разорение Москвы по причине хмельного возлияния произошло. Не упейся тогда защитнички, не взять бы агарянам города. А Дмитрий Иванович всю вину на меня взвалил, выслал меня из Москвы на худой телеге. – Давняя обида не заживала в сердце Киприана, хотелось ему как-то обелить себя в глазах Василия.
В старании этом Киприан, как видно, переусердствовал: не только в изустных разговорах, а еще и в летописи под 6890-м со дня сотворения мира (1382-й от Рождества Христова) годом он повелел составителю свода в монастыре Николы Старого так изобразить пожар и разорение Москвы Тохтамышем, что во всем оказывался виноватым один лишь великий князь, который «отошел от Москвы в Кострому», бросив Город на произвол судьбы. Умудренный годами летописец, привезенный Киприаном из Византии грек, очень хорошо понял, какой свод желает видеть митрополит, и в свою очередь переусердствовал тоже – вместо «отошел» написал «убежал вборзе на Кострому», а события 1380 года изобразил таким образом, что выходило, будто на Куликовскую битву благословил Дмитрия Ивановича в Кремле не кто-нибудь, а самоперстно Киприан[36]36
Перенесенная потом бездумными переписчиками в другие своды чудовищная эта нелепость сохранилась в опубликованных документах и даже использована некоторыми недобросовестными историками в научных трудах.
[Закрыть]. А ведь события-то те были свежи в памяти, и слишком хорошо было известно, что великий князь незадолго до начала грозных событий с позором, «на худой телеге» выпроводил из Москвы Киприана, который в те опасные и ответственные для Руси дни обретался то ли в Киеве, то ли в Константинополе. Но если переиначивание текста летописи, связанного с личностью Киприана, можно было если не простить, так хоть понять, то причины бесцеремонного вмешательства в рассказы о делах давно минувших скрывались завесами тайных помыслов митрополита. Данила не без злорадства наушничал Василию, что по велению Киприана при перебеливании летосказания Нестора в новом своде выпущено место о том, как при Владимире Мономахе съехались в Выдобиче русские князья и, обсудив жалобы купцов и ремесленников, вынесли такой закон. «Ныне из всея Руския земли всех жидов со всем их имением выслать и впредь не впусчать, а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать». Василий напомнил Даниле его срам во время поездки к Витовту и Киприаново объяснение происшедшего тогда, высказал предположение, что, может быть, Киприану опять известно нечто большее, чем знал черноризец Феодосиева монастыря Печерского Нестор. Но про себя Василий решил, что непременно выскажет свое неудовольствие митрополиту, как только приточится для этого подходящий случай.
Такой притечей посчитал Василий как раз то раздражение, которое он испытывал, когда Киприан пытался объяснить страшный пожар города хмельным возлиянием москвичей. Получалось, что виноватым становился сам Василий, ибо началось общее пирование с его свадьбы.
– Не верна твоя притча, святитель! – Василий сказал это голосом ровным, однако со скрытым вызовом. Киприан его, как видно, не уловил, отозвался с прежней брюзгливой самоуверенностью.
– Говорил и говорить буду, не упивайтесь вином, в нем бо блуд есть!
– Говорить – говори, – неуступчиво продолжал Василий, – но зачем велишь дееписателю своему наинак историю Руси перелагать?
В карих глазах Киприана зародилось беспокойство, он уточнил осторожно:
– Что разумеешь, великий князь?
– То хотя бы, что во время принятия христианства Святой Владимир будто бы уверял послов, что веселие Руси есть пити и что будто бы никак не можем мы без хмельного жить.
Киприан с облегчением перевел дыхание, в глазах его опять появился дерзкий блеск.
– Так и есть, великий князь. Черным по белому написал самовидец, что Владимиру, когда прилежно выслушал он магометан, неприятно было обрезание и неядение свиных мяс, а о непитии вина и слышать не хотел, глаголя, яко в сих странах весьма сие неудобно, зане руссом есть в веселие и здравие от пития вина…
– Дальше?.. Следующие словеса какие? – настойчиво вопрошал Василий.
– Дальше?.. Дальше о другом вовсе..
– Нет, отче святый, не о другом. В летописи вот как, я читал, я помню: «…руссом есть в веселие и здравие от пития вина, с разумом пиемого». Зачем ты велел последние слова вымарать в своем своде? К Нестерову свитку уважительно относиться должно, он писал на родном русском языке, тогда как вся Европа, ты сам говорил, латынью одной пользовалась, а свое письмо вот только-только что заимела.
– Говорил, говорил!. Это верно, это так и есть! – В глазах Киприана родилась уж нешуточная тревога, он заметался взглядом, однако быстро нашелся: – Это, великий князь, значит, нерадивый перебельщик попался, добросовестность у него не занимает первого места, повелю наказать. А изъятые словеса повелю вернуть на место.
– Да, да, а еще повели изъять всю напраслину на отца моего, Дмитрия Ивановича Донского, возведенную, и под годом шесть тысяч восемьсот восемьдесят восьмым, когда игумен Сергий на рать с Мамаем его благословил, и под шесть тысяч восемьсот девяностым, когда ты ослушался приказа великого князя, самовольно Москву покинул, в Тверь побежал, – Василий Дмитриевич смотрел не мигая, голубые глаза его были жесткими и холодными. Киприан сразу вспомнил весь позор свой, перенесенный по воле Дмитрия Ивановича, подумалось, что и сынок его, пожалуй что, горазд тоже будет на бесчиние, да кабы еще не пожестче да не покруче оказался… И Киприан сказал с полным прямодушием, ни лукавства, ни дерзости не было в его карих терпеливых глазах, а только понимание и согласие:
– Да, да, повелю правду в летописании соблюсти, везде так написать, как было и как писано было сразу же. «Нача великий князь сбирать воя и совокупляти полки своа, и выеха из града Москвы, хотя ити против татар»… В том беда, Василий Дмитриевич, что пришлый я человек, обычаев всех не знал. Бросил я тогда Москву потому, что боялся за Евдокию Дмитриевну да за тебя с братцами, а того не ведал, что в отлучку великого князя обязан митрополит хранить город.
– Нет! – жестко перебил Василий. – Отец оставил именно тебя, потому что ты представлял всю Русь. Надо было, чтобы все видели: Русь едина, Литва тоже с ней заодно, а то ведь тогда там Ягайло власть взял…
– Да, да, – опять поспешно согласился Киприан. – Зело мудро сделал тогда Дмитрий Иванович. А мне невдомек было… Смягчается моя вина тем только, что не знал я исконно вечного русского обычая. Но поверь, великий князь, с той поры я блюл и буду блюсти все древнерусские правила доброго и честного поведения. Я нимало не хочу возносить церковную власть над светской, в чем корил меня Дмитрий Иванович, да простит меня тень сего великого человека, только тщусь по мере сил своих споспешествовать твоим земным делам. А дела ныне таковы, что нам с тобой не резон старые которы и распри вспоминать, оглянись-ка окрест: скорбь и уныние разлиты по Москве, подумай, как быть-жить христианам твоим.
Киприан намеренно сыпал соль на свежие раны – Василий, может быть, и разговор-то о летописях затеял только того ради, чтобы отвлечься от тяжких сиюминутных забот… Но прав митрополит нет сейчас ничего важнее, как эти заботы. Он велел сделать маленький, словно игрушечный, гробик для дочки Уды, дал вспоможение утлой старушке, но разве же этого лишь ждала от него Москва? Василий переживал некое оцепенение, нудное и тягучее, как тоска. Василий не мог решить, что делать ему, с чего начинать?
2
Два тиуна не успевали разбирать челобитные, а многие прошения требовали княжеского суда, но Василий отложил их на завтра, сославшись на многотрудность и хлопотность нынешнего дня. Да и то. с чего же все-таки начинать восстановление стольного города, как помочь погорельцам, где взять деньги и строительные материалы? Василий рассчитывал получить ответы на эти вопросы от своих высокоумных бояр и воевод, повелев Федору Андреевичу Кобылину, ведавшему делами посольскими и судебными, стоявшему во главе Боярской думы, собрать всех лепших и наибольших людей Москвы в четыре часа, после обеденного сна.
Кобылин оповещал всех правительственных лиц, подчеркивая серьезность и ответственность момента торжественными словами:
– Великий князь будет с вами добрую думу думать, коя пошла бы на добро Руси!
К вечерней службе в Успенском соборе должны прибыть по зову Сергия Радонежского все святые старцы – игумены подмосковных монастырских обителей, епископы и архимандриты.
И Владимир Андреевич Серпуховской чуть свет прискакал без зову, изъявляя всяческую готовность оказать подмогу столице великого княжества.
Вправе был рассчитывать Василий и на душевное участие брата своего Юрика, но тот озадачивающе себя повел: заявился утром с текстом докончальной грамоты – нашел время!.. И уж печать свою из черного воску навесил.
Василий скользнул глазами по тексту – обычные условия: не посылать приставов в чужой удел… дани не имати на братие уделе, сел не купити… Да, обычная докончальная с обычными положениями, заимствованными из прежних договорных грамот князей московского дома: быти… заодно и до живота, иметь общих друзей и недругов, держать великого князя во отца место, а тот в свою очередь обещает держати братию молодшую в братстве и в чести, без обиды… Впрочем, кажется, есть кое-что, есть…
Василий вчитался внимательнее. В грамоте, состряпанной Юриком, речь шла лишь о признании им, галицким князем, прав на великое княжение, на Москву и на Коломну одного только Василия, но не его детей…
Ай да Юрик!
Василий сделал вид, что не разглядел в докончании брата подвоха, стал читать грамоту вслух:
– «А в Москве нам жити по душевной грамоте отца нашего, а не обидети». Зачем сие написал? Боишься, что я инак поступлю?.. Все торопишься!
– Так ведь в отцовом завещании оговорено черным по белому: «…а отоимет Бог сына моего старейшего Василья, а хто будет под тем сын мой, и тому сыну моему стол Васильев, великое княжение».
– Наизусть задолбил?.. «Черным по белому», говоришь?.. Вот и святитель Киприан ладит… Ну, да разберемся после, кто и зачем черными чернилами чернит. Что тут еще у тебя? «На сем на всем целовали есми крест, по любви». М-да, прыток ты, брат. Но погоди, не на всем сем буду целовать я крест. Погляжу да подумаю. Проездил попусту ты, прикатил домой не солоно хлебавши, а тут умен и расторопен, своего не упустишь.
Юрик отлично понимал причины раздражения брата, потому-то так не вовремя явился – рассчитывал, что, озабоченный произошедшим пожаром, Василий бездумно подпишет грамоту и скрепит ее печатью да крестным целованием.
– Не до грамот сейчас, сам видишь. Потом вернемся к ней… может быть, – сказал ровным голосом Василий и добавил: – Сгорели многие ценные подарки свадебные, но кое-что осталось. Колыбелька вот… Говорят, в ней без сглазу дети растут. Родится у меня сын – твоим именем нареку.
Если это и могло служить утешением Юрику в его честолюбивых мечтаниях, то очень слабым. А скорее всего, такой оборот разговора его еще больше распалил: вместо того чтобы начать растолковывать смысл отцовского завещания, к чему Юрик был готов, старший брат вон какое колено выломал – «твоим именем»… Но он не выдал чувств своих, сумел сохранить появившуюся у него после поездки в Орду величавость во взгляде и в поступи.
Василий, с трудом сдерживая гнев и раздражение, ушел в Спасскую обитель, заперся в заветной келье наедине со своими беспокойными попечениями и гребтами. Здесь в тайном уединении предавался он отвлекавшему от горестных мыслей занятию – чеканкой, ювелирным рукомеслом. Но, конечно, никуда от мыслей заботных не деться, занимали они его целиком и полностью – просто наедине с самим собой побыть хотелось. Он открыл шкатулку, где заперты у него были золотые и серебряные заготовки, стальные пунзеля и пунсоны, увеличительное стекло, маленькие молоточки и молотки с заострением да шариками на другом конце, гвоздильня с множеством дырочек, подсека, наковаленка с двумя лапками по сторонам, пробойник, бородок, паяльник, ножницы и всякие приспособления для чеканных работ.
Вспоминал разговор с Юриком, думал, как же Москву отстраивать, а руки между тем привычно сгибали серебряную пластинку, ковали ее, пробивали фигурными зубильцами, а когда получилась почти готовая вещь, Василий сам удивился: перстенек, почти такой, какой он Янге дарил, какой она бросила в колокольную медь, только «соколиного глаза» не хватало… Вспомнил, что духовная грамота отца, на которую ссылается Юрик, скреплена печатью с великокняжеским титлом и словами пророка Давида: «Все ся минет». Зачем отец велел их написать, что хотел сказать ими? Перед смертью призвал отец Василия на путь старшинства, передал в руки его великое княжение – престол отца своего, и деда, и прадеда со всеми исконными правами, а братью молодшую наказал держать в чести и без обиды, а как исполнить это, не вразумил…
Не во всем и не всегда был Дмитрий Иванович понятен Василию при жизни, но и после смерти своей продолжал он загадывать загадки. Приходилось сыновьям их отгадывать и толковать каждому на свой лад, по собственному разумению.
3
Гарь, пепелища, пожарища… Пустошь на местах недавних пажитей злачных, и может показаться, что навсегда ушла отсюда живая жизнь. Но нет: там и сям уж возведены временные чертоги – сложены шалаши из обуглившихся досок, вырыты землянки в крутых берегах Неглинной, Москвы, Яузы. А на Варварке стучат топоры и тесла, визжат пилы – часть плотов по нерадению была оставлена в зиму в реке, вмерзла в лед, а сейчас кстати пришлась чья-то беззаботность, сбереглись от огня кондовые бревна.
– И Лондон наш, – говорил Василию с сочувствием британский посланник, – постоянно превращался также вот в пажу раскрытую, горел, как факел. Но когда последний раз при Иоанне Безземельном, брате Ричарда Львиное Сердце, пожар спалил вот так же почти весь город, научились англичане строить жилища из камня. И вам бы надо…
Василий слушал, соглашался. Да, как и стены Кремля, всю Москву надо сделать белокаменной. Есть вот Успенский храм, церковь во имя Ивана Лествичника[37]37
Ныне на этом месте стоит колокольня Ивана Великого.
[Закрыть], Архангельский собор, еще несколько построек из кирпича или природного камня. И не так уж это сложно: запасов белого камня в Мячкове хватит не на один город, мастера есть и в Москве, и в ближних уездах, а времени на строительство не особенно много требуется – Ивана Лествичника возвели, помнится, за одно лето, с мая по сентябрь, Архангельский собор – всего за пять месяцев…
– Отстроим и мы Москву белокаменную, – ответил Василий, но тут же и осекся, смолк: и деревянную-то не на что строить, совсем оскудела казна. Но не хотелось выглядеть жалким перед заморским гостем, добавил: – Однако ведь Лондон вы начали строить несгораемым не из-за того, что любите в каменных избах жить, а потому что весь лес на своих островах извели.
– Верно, великий князь, – скучно согласился посланник. – Под корень леса у нас вырублены, даже Темза вся голая, без раменья. Приходится из других государств бревна привозить – дороже камня обходятся. На Руси, ясно, не то, тут новую избу срубить ничего не стоит по дешевизне материала.
Британский посланник правильно мыслил, верно рассуждал. Основой русского жилища с самых древнейших времен была клеть – связь бревен на четыре угла, первобытная простота помогла ей уцелеть и по сей день. Летняя клеть холодна, но если в ней поставить печь с выпуском дыма в центре потолка, то станет она отапливаться и благодаря своей истопке станет истьбой. Такие избы и строят русские люди в Залесской земле как в простонародном крестьянском быту, так точно и в княжеском.
Великокняжеские хоромы в Кремле хоть и пострадали при пожаре, однако большинство связанных воедино хоромин, теремов, изб и клетей уцелело, даже и горница – горние, верхние покои над подклетями с красными, косящими (с колодами и рамами) окнами – лишь чуть закоптилась с набережной стороны. Сгорели сенницы, повалуши, крытые переходы, несколько погребов, медуш, скотниц и бретьяниц, но великий князь ввиду общего бедствия не считал себя погорельцем и молодой жене запретил выть и причитать. Надо было думать о том, как помочь несчастным подданным, к которым у Василия, по понятиям его пращуров, воспринятым им от отца как заданное и заповеданное свыше, отношение было совершенно отеческое; свои права и обязанности по отношению к подвластным ему крестьянам и ремесленникам, купцам и монастырским инокам понимал он как опекунство над меньшими, над малолетними. Но подданные подданным рознь: иных надо поддержать, а иных и приструнить. Каждый раз после сильных пожаров княжеским тиунам приходится разбирать множество спорных дел: власть и богатство имущие владельцы норовят поживиться за счет худородных своих соседей – отобрать у них землю и свои постройки да огороды расширить. Оттого-то и Москва имеет столь кривые и разной ширины улицы со множеством переулков и тупиков. Приходится частенько определять худородных бедолаг на новые места, благо в Москве еще много чистых полей: когда-то было городище и вокруг него семь сел – Кремлевское, Драчевское, Лыщиновское, Чертольское, Андреевское, Сетунское и Симоновское, затем все они стали Москвой, но поля между ними остались, тянутся вдоль главных улиц и дорог.
На Боярской думе решено было отрядить три тысячи подвод с плотничьими старостами в Брянские раменные леса по Оке, а также на Угру, Жиздру, чтобы успеть до весеннего вскрытия ближних подмосковных рек и речушек привезти по льду сколь можно больше строевой древесины. Подсчитано примерно, сколько требуется купить рыбьих пузырей для паюсных окон, а пока их будут доставлять с севера, решено ставить избы с окнами волоковыми – узкими щелями под потолком, через которые должен выходить дым и которые после топки печей задвигали, заволакивал и доской. Сколь ни скупо считали, но наличных денег у великого князя не хватало на строительство нужного числа даже поземных и черных, то есть курных, срубленных прямо на пошив изб. Решено было немедленно разослать данщиков и вирников по вотчинам и уделам для сбора ордынского выхода, который можно было пустить пока на внутренние нужды, а к весне восполнить его за счет городских доходов и оброков с крестьянских дворов.
Василий с особым пристрастием опросил всех своих путных бояр, самолично вник в хозяйство всех приказов, и не зря: и чашник, оказывается, давно уж не наведывался в леса на промыслы к бортникам за данью, и дворецкий, и казначей, и конюший, и стольник, и сокольничий с ловчим – все правительственные люди хоть в какой-нибудь, но могуте оказались, у каждого нашелся запасной оплот, прибереженный на судный день. Всем волостителям, наместникам и посадникам велено было увеличить мытные и весчевые пошлины, ужесточить поборы на рынках, на перевозках, на конском пятнении, а также на крестьянских дворах – с дыма, от плуга, от орала. Хоть тоненькими струйками, но потекли дополнительные деньги в княжескую казну.
Без зова пришли в Кремль монастырские старцы во главе с преподобным Сергием. Василий встретил их с подобающей честливостью и вежеством, однако нимало не обнадеживался на счет получения от монастырей какого-либо способления.
Разные достоинства служат мерой стоимости человеку. Если ты земледелец – как хорошо платишь оброк, как вооружаешь воина для рати. Купец ты – какими средствами владеешь. Ремесленник – каково мастерство твое. Разных людей объединяет дело, и цена отдельного человека определяется умением это дело исполнять. У святой братии личность ценится за нравственные качества. Киприан вон расстарался, а что проку – только и помощи от него, что обедни с молебнами да назидательные проповеди. Ну и утешает еще словами святителя: «Кто удостоится Божией помощи, тот и среди бед посмеется им и не поставит их ни во что, потому что Господь все творит для него и благоустрояет, во всем споспешествует ему и тяжкое делает легким». Так-то оно так, но тот же Иоанн Златоуст предостерегает: «Бог Своими дарами не предваряет наших желаний, но когда мы начнем, когда обнаружим желание, тогда и Он подает нам многие способы ко спасению». Значит, надо прежде начать, а как – этого Киприан не знает. А с сирых монахов и вовсе нечего взять. Так думал Василий, но он счастливо ошибся.
В ризницах иных обителей хранилось, оказывается, кое-какое серебришко, пожертвованное некогда мирянами, его сейчас и привезли монахи великому князю для чеканки монет.
4
Самый большой взнос – триста рублей – сделал настоятель Симонова монастыря Кирилл. Тот самый Кузьма-Кирилл, которого Василий знал сначала как расторопного управляющего при дворе окольничего, а потом в непотребном облике юродивого: был он, как то и предсказывал Сергий, рукоположен в священники. Подобно своему предшественнику Федору, назначенному ныне архиепископом в Ростов, и любимому наставнику Сергию Радонежскому, держал Кирилл монастырь по тому же киновийскому уставу, однако в нестяжательности пошел даже дальше своих учителей. Он не позволял монахам иметь в личном владении ничего – даже и корыто запрещал держать в келье, даже и воду для питья. И все дары князей и бояр отклонял, была обитель его нищенски бедна, пробавлялась милостыней да слабыми трудами иноков. А триста рублей – их Кирилл словно бы нашел нежданно-негаданно. Так получилось.
Утром, как обычно, у красного крыльца собрались бояре Василия, ждали его выхода. Как обычно, он пригласил их в сени, где дал разные поручения, согласно их путям хозяйственного управления, затем стал выслушивать жалобы и челобитные купцов, крестьян, мастеровых людей. Челобитчики излагали свои просьбы перед князем и его боярами. Василий опрашивал истцов и ответчиков с их свидетелями, послухами. Разобрав все прошения в совете и согласии с боярами, поставил свои решения. Дела и делишки разнообразными были, однако несложными, решались на месте и устно, так что оба дворовых дьяка без дела стояли. Но под конец объявилась тяжебная ябеда, разобраться в которой оказалось не просто.
Посельский боярин Васьян Лукин бил челом великому князю, утверждая, что крестьяне Кузьма и Семен Узкие поставили починок на его заполицах, и требовал починок сметать. Братья-землепашцы, однако, уверяли, что посадили свои дворы не на заполицах, не на залежных землях, а на месте, заново вычищенном из-под леса, что они землю сильно поорали, житом посеяли.
– Никакого почина, господине, они не сделали, – спокойно стоял на своем Васьян, – а сели на мою пустошь с пепелищами и дворищами.
– Не печищь, не дворищь! – горячились братья. – Не пашенной земли. Лес мы рассекли и сели ново, деревню свою назвали Новосильем – в знак того, что раньше тут никто не селился.
– Верно ли, что деревня зовется Новосильем? – спросил строго тиун у боярина. Тот несколько смутился вопроса, вынужден был согласиться, что деревня под таким именем известна, однако привел новые доводы в свою пользу.
– В сутокех, где две речки в одну сливаются, старый камень мой лежит.
Братья Узкие готовы были к этому, отповедали:
– В сутокех мы надумали плотину городить, мельницу ставить, камень этот сами привезли летошный год, а пособляли нам хрестьяне Гаврил Кожа да Карп Фалалейков. А еще то подтвердить может и Торопец Панафин, сын Заходов.
Казалось, крестьяне были близки к тому, чтобы выиграть тяжбу, но хитрый боярин достал из кожаной калиты, что была пристегнута у него на поясе, бумагу, положил ее на столешницу перед тиуном:
– А во се грамота, даденная мне игуменом Евфросином, что починок ихний поставлен у монастырских деревень на заполицах, где печища старые, и они те печища и пашут.
Крестьяне дружно пали на колени перед великим князем, Кузьма сумел приложиться к руке Василия, а брат его Семен Узкий стал горячо убеждать:
– А пожалуй, великий князь и ты, господин судья, обозрите той земли и заросли, были ли там печища, пустошь да дворища, да борозды загонные, да изгорода старая?.. И пахотные земли, и плужные, и сошные по той пожне и по зарослям есть ли?
Боярин выслушал это спокойно и еще один пергамент достал:
– А во се грамота боярина, который землями этими владел, а потом монастырю пожаловал.
Это был страшный удар по братьям: оказывались они кругом не правы, хотя поди знай, прав ли боярин со своими грамотами. Но боярин в своей волости полный господин, а смерд всегда смерд, холоп всегда и везде холоп. Всегда и везде вдет скрытая или явная борьба людей мизинных с людьми наибольшими, и всегда и везде побеждают наибольшие.
При тяжбе присутствовал Кирилл, который в числе иных монастырских старцев стоял в сторонке, молча слушал про боярина с братьями-земледельца-ми. Когда Васьян Лукин вынул вторую грамоту, Кирилл вышел вперед, заглянул в пергамент и отмолвил:
– А ведь это земли-то мои, моих покойных родителей. Есть ли у тебя, боярин, купчая?
Васьян сначала высокомерно посмотрел на Кирилла, одетого в разодранную и многошвейную рясу, но сразу понял, кто перед ним, засуетился:
– А во се… А во се…
– Купчую на триста рублей с пополонком должно иметь, – сурово уточнил Кирилл.
– А какой пополонок? Кажись, корова с телком?
– Видишь, значит, ведомо тебе и о добавке к деньгам, а твердишь свое «а во се»[38]38
Частая ссылка на старые и не всегда точные «грамоты» словами «а во се» и породила знаменитое русское «авось».
[Закрыть].
Васьян Лукин понял, что проиграл тяжбу, но расставаться с облюбованными землями, которые он уж привык считать своими, было ему жаль, и он выразил желание немедленно заплатить требуемую сумму имеющимися у него новгородскими серебряными гривнами.
Крестьянам он возместил, тоже серебром, их затраты на починок, на постройки клетей и хозяйственных дворов.
Братья Узкие в растерянности мяли в руках свои овчинные шапки: и радостно было, что жадоба-боярин наказан, однако ведь как бы и не их верх-то все же оказался… Но Кирилл еще раз выручил их.
Передав триста рублей в княжескую казну для возведения новой церкви в Москве, он объяснил, зачем пожаловал в Кремль. Узнал Василий, что Кирилл ничуть не увлекся своим новым положением игумена и остался таким, каким был прежде, смиренным и кротким с иноками, почитая старых, как братьев, и любя молодых, как детей. Вследствие почитания, которым он пользовался в Москве, в его келье всегда были люди. Все шли к нему со своими заботами, со своими делами, но и с бесконечной болтовней. Кирилл всех принимал, всех выслушивал, всем давал советы, однако смиренная его душа смущалась от шума и суеты. Хотя было ему уже шестьдесят лет, душа его жаждала новых аскетических подвигов. Много удивлялся Василий прошлой зимой, когда увидел Кирилла беснующимся юродивым. Хоть внятно говорили Сергий с Федором о причине такого перерождения кроткого монаха, однако не сразу понял Василий, что бывшим управляющим Кузьмой руководило сознание страшной виновности его перед Богом, что надобны огромные силы для борьбы с гордынностью души в ее самых тайных и скрытых проявлениях. Сумел Кирилл попрать тщеславие монашеской аскезы, нарочито отверг внешний образ добродетели и душевного покоя, и попервости даже игумен Федор не понял и не оценил его, прибегал к насилию над ним, только проницательный Сергий из Радонежа разглядел причины, по которым примерный монах добровольно принял на себя унижения и оскорбления: братия монастырская насмехалась над ним, мирские люди с презрением смотрели на юродивого, а он оттого чувствовал себя все более смиренным, кротким и благостным. Эта же причина, понял Василий, толкнула Кирилла сейчас уйти от игуменства, даже и вовсе с глаз людских скрыться.
Без удивления, с полным пониманием отнесся Василий к просьбе Кирилла дать ему охранную грамоту для беспрепятственного поселения на севере, где-нибудь возле Белого озера, он только поинтересовался: почему именно туда, а не куда-нибудь в иное глухое место? Кирилл не сразу ответил. Хотел сначала рассказать о том, что слышал он глас Пречистой Божьей Матери и видел идущий с севера свет, когда в минуту душевного согласия читал акафист «Отрешимся от мира, вознесем помышления к Небу». Но не стал своей тайной делиться, боясь опять же обвинений в гордынности или избранности, попросил кротким взглядом, чтобы великий князь не настаивал на вопросе. Получив молчаливое согласие, сказал с большой живостью, с душевным облегчением: