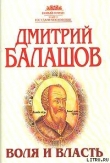Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
Следом сын Кошки казначей Иван Кошкин целовал крест, поклявшись:
– Над государем, над великими княгинями и над их детьми никакого лиха не учинити и зелья и коренья лихова в платье и в иных ни в каких в их государских чинах не положити…
И кравчий присягнул:
– Ничем в естве и в питье не испортити, а зелья и коренья лихова ни в чем государю не дати…
Повторил все и стольник:
– Государя ничем в естве и питье не испортити и зелья и коренья лихова ни в чем не дати…
– В их государском платье, и в постелях, и в изголовьях, и в подушках, и в одеялах, и в иных во всяких государских чинах никакова дурна не учинити, и зелья и коренья лихова ни в чем не положити, – клялся постельничий, а за ним еще ясельничий, стремянный конюх, конюшенный дьяк свою божбу, целуя крест и преклоняя колена, – произнесли:
– Зелья и коренья лихова в их государские седла, в узды, в войлоки, в рукавки, в плети, в морхи, в наузы, в кутазы, в возки, в сани, ни под место, ни под полет в санную, в ковер, в попонинку и во всякой их государской в конюшенной и в конский наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца коренья не вязати и не положити – самому не положити и никому конюшенному чину и со стороны никому же положити не велети, и никоторого зла и волшебства над государем не учинити, и всякого конского на ряду от всяких чинов людей конюшенного приказу и от сторонних людей во всем беречи накрепко, и к конюшенной казне и к нарядам сторонних людей не припущати.
Торжественные обеты сделали все стряпчие, жильцы, дьяки казенные, шатерничие и прочие бояре.
И великой княгине Евдокии Дмитриевне все ее боярыни целовали крест и клялись: «…лиха никоторого не учинити и не испортити, зелья лихого и коренья в естве и в питье не подати и ни в какие ее государевы обиходы не класти, и лихих волшебных слов не наговаривати, и без их государского ведома ни с кем ни о каких государских делах не ссылаться, и над государевым платьем, и над сорочками, и над портами, и над полотенцами, и над постелями, и над всяким государским обиходом лиха никоторого не чинити». Последней присягала верховная боярыня Софьи Витовтовны, приехавшая с ней из Литвы Нямуна.
Слушая ратьбу бояр своих, нимало не сомневаясь, что ни один из них не станет клятвопреступником, сожалел Василий Дмитриевич о том, что не может заставить целовать себе крест Андрея Рублева: все равны перед великим князем, а инок в черной рясе опричь рук государевых.
Дружина изографов, закончив роспись храма Рождества Богородицы, занята была поновлением Архангельского собора, который, как значится в летописях, пятьдесят лет назад «подписывали Русские писцы Захарья, Иосиф и Николае и прочая дружина их». Василий Дмитриевич время от времени заглядывал в собор Михаила Архангела, следил, как идут работы. Однажды, наблюдая, как Андрей Рублев расчищает старые краски на фресках западной стены, где над входом была картина Страшного Суда, обронил с усмешкой:
– Ты думаешь, Андрей, «бич Божий» – Аттила в аду, в геенне огненной гореть станет?
– Как и изверг Тимур.
– Но Тимур же велик, как мир!
– Это ты так думаешь, потому как из твоих жертв пирамиду не сложить, а я думаю, что он – чудовище из чудовищ.
– Он завоевал полмира.
– Он полмира превратил в погост.
– Тимур же не сам но себе, он делает лишь то, что хочет его народ, он выражает настроение своих племен.
– Да, как матерый волк выражает наклонности своей стаи.
– Но вот убежал матерый волк от меня! – хвастнул невольно Василий.
Андрей скосил насмешливый взгляд, обронил, заканчивая разговор:
– Удача, что волк, – обманет и в лес утечет.
Василий раздосадован был разговором, не столько слова Рублева сердили его, сколько тон их, не то чтобы небрежное, но безразличное, незаинтересованное отношение изографа к тому, что думал и говорил ему Василий Дмитриевич. Впрочем, и слова вырывались у него порой обидные, вот вроде тех – «удача, что волк…».
Не только Рублев, но и Евдокия Дмитриевна, и Владимир Андреевич говорили Василию в разной форме, что внезапный уход Тимура с рязанской земли – какая-то случайность и что враг может нагрянуть ратью снова, однако Василий не хотел в это верить. Вместе с тем он слишком хорошо понимал, что угроза для Руси со стороны степи отнюдь не устранена, и решил принять меры по дальнейшему укреплению берега. Юрик и Владимир Андреевич по его приказу проверили все засеки на Оке.
– Те, что с прошлых лет стоят, хороши, но много прорех, однако, – поделился своими наблюдениями Серпуховской, вернувшийся после объезда засек.
– Смолоду прорешки, под старость дыра, – значительно вставил Юрик.
Владимир Андреевич, пряча в усах улыбку, выслушал и продолжал:
– Один бортник сказал мне, что пчелы заклеивают воском отверстия в бортях, куда забирается мышь-воровка. Вот и нам бы так надо.
Всю осень Владимир Андреевич со своими серпуховскими и боровскими мужиками занимался укреплением южных и восточных границ. Там повсеместно росли лиственные леса с буйным подлеском. Рубили деревья на высоте человеческого роста, однако не дорубливали, так что стволы с кронами не падали наземь вовсе, а лишь низко сгибались. Рубить старались так, чтобы деревья ложились крестом, на все четыре стороны. Через полуживые деревья прорастают лещина, ежевика, шиповник, малина, терн и поросль молодых берез и осин – получается путаница ветвей и хвороста. Засеки были длинными, вдоль всей Оки, и имели в ширину до десяти верст. В тех редких местах, где лес был вырублен, выкапывали рвы, наполняя их водой и набив в дно чеснока – острых кольев, невидимых сверху.
И саму Москву решил Василий Дмитриевич укрепить еще надежнее, для чего надумал оградить земляным валом со рвом все выросшие возле Кремля посады. Копать ров начали от Кучкова поля полукольцом до Москвы-реки[123]123
Кучково поле – ныне Лубянская площадь (бывш. Дзержинская); по валу и рву, когда они были окончательно ликвидированы в 1830 году, прошло Садовое кольцо с бульварами Тверским, Петровским, Сретенским, Покровским, Яузским.
[Закрыть].
И сам Кремль решено было перестроить, сделать дополнительные башни с тем, чтобы не оставалось между ними пространства, простреливаемого из лука. По примеру новгородской крепости задумал Василий Дмитриевич изменить всю систему входов в Кремль: сделать их на открытых дорогах, поднимающихся вдоль насыпей валов и находящихся под обстрелом со стен, причем так расположить дороги, чтобы по отношению к противнику стена оказывалась с правой стороны, – в этом случае осаждающим город татарам или литовцам придется быть в невыгодном положении, ибо щиты они носят на левой руке.
Круговую оборону Москвы обеспечивали расположенные кольцом монастыри Рождественский, Сретенский и Покровский с севера, Зачатьевский с запада у Крымского брода, Данилов и Симонов с юга, Андроников с востока; на каждом из них побывал Василий Дмитриевич, самолично оценил их возможности отражать иноземных захватчиков.
Не боясь гнева Орды, великий князь повелел выселить из Кремля всех татар. А место им для жительства определил в посаде на Ордынской дороге, где была даже в июльскую жару непролазная грязь. Татары пороптали, однако – делать нечего – покорились и перебрались со всем скарбом за реку, а посад свой назвали Бал-чехом[124]124
Бал-чех – по-татарски значит «грязь»; ныне тут улица Балчуг.
[Закрыть].
А еще задумал Василий Дмитриевич в честь пятнадцатилетия победы на Куликовом поле и в память пронесшейся мимо беды Тамерланова нашествия на Русь отбить новую серебряную монету – и запас денег пора уж пополнить, а главное, очень соблазнительно было пустить наконец по белу свету серебряную копейку без постылой, унизительной надписи: «Султан Тохтамыш-хан – да упрочится царствие твое». И уж дал он задание Федору Андреевичу Кошке да двум его сыновьям, Ивану и Федору Кошкиным, готовить лом серебряного металла, уж решил опять поручить Андрею Рублеву сделать для резчиков изображения обеих сторон монет, однако митрополит Киприан не дал своего благословения на начало нового дела. Он разразился длинной и не совсем ясной проповедью:
– Нет яда сильнее яда аспида и василиска, и нет зла страшнее самолюбия. Исчадия же самолюбия – змеи летающие: самохваление в сердце, самоугождение, пресыщение, блуд, тщеславие, зависть и вершина всех зол – гордость, которая не только людей, но и ангелов свергла с небес и вместо света покрывает мраком.
– Ты считаешь, что я в гордынности заношусь?
– В самомнении, сын мой, а самомнение ведь есть оскопление души, не позволяющее ей познавать свою немощь.
– Значит, ты меня немощным находишь?
– Святой Петр уверял, что не отречется от Господа, а до дела дошло, отрекся от него, и еще трижды. Такова наша немощь! Не будь же самонадеян и, вступая в среду врагов, возложи на Господа всеупование преодолеть их. Затем и попущено было такое падение и столь высокому лицу, как святой Петр, чтобы после никто, хоть бы и великий князь, не дерзал сам собой исправить что доброе и преодолеть какого-нибудь врага, внутреннего или внешнего.
– Значит, должен я руки опустить, на Господа одного лишь уповая? – растерянно вопрошал Василий Дмитриевич.
– Нет, нет, сын мой. Помощь от Господа приходит нашим усилиям и, сочетаясь с ними, делает их мощными. Не будь этих усилий, не на что снизойти помощи Божьей, она и не снизойдет. Но если ты самонадеян, и, следовательно, не имеешь потребности в помощи, и не ищешь ее, – она опять же не снизойдет. Боже, помози! Но и сам ты не лежи.
– Вот я и хочу…
– Хан Тохтамыш находится сейчас в Литве, вместе с тестем твоим великим князем Витовтом собирает силы против проклятого изверга Тамерлана.
Ах, вот оно в чем дело! Всегда и раньше, когда Киприан заводил речь о Витовте, испытывал Василий раздражение, досаду, даже порой испуг, но сейчас была лишь саднящая ревность: по-прежнему митрополит всея Руси отдает предпочтение государю Литвы, а не Московии, доколе? И как понимать действия Витовта? Вот тот случай, когда родные хуже врага: если верить донесениям Августа Краковяка, Витовт, захватив Гродно, Смоленск, подкашивает сейчас свой хищный взгляд на Псков да Великий Новгород. А может, и Москву надеется под свою державу подвести?.. И этот Киприан – лиса пролазчивая, он непременно в тайных связях с Литвой – все ведает, но не о всем говорит.
Василий Дмитриевич не выдал своего настроения, ответил рассудливо:
– Что же, тогда повременим, покуда запас денег еще имеется. А мало спустя отчеканим все же – с другими штемпелями, но веса точно такого же, точноточно такого же, – он сильно нажал на последние слова и умолк, выжидая, как отнесется к ним Киприан. И тот выдал себя, чуть ворохнулся, звякнув толстой золотой цепью, на которой висела у него на груди панагия, отвернулся к киоту. А Василий продолжал: – Да, точно такого же веса будут деньги, какие отец сделал в последний раз. Федор Андреевич вспомнил, что отбили их мельче не из бережения серебра и не обмана ради, а по нужде: сделали их такими, что их стало ровно две в одной новгородской беле, а два Тохтамышевых дирхема, которыми пользовалась Рязань, стали в точности как две московские деньги. А до того ни то ни се было, трудно было с соседями торговать, отец хорошо придумал!
Митрополит опять никак не отозвался, предался молитве, после которой вновь вернулся к своему поучению:
– Человека – своего благодетеля, брата ли, отца ли – человек любит, почитает и прославляет, хотя все, что ни получает от него, есть Божие. Небеса проповедуют слово Божие. Солнце, луна и звезды своим светом прославляют Бога. Птицы летают, поют и славят Бога. Земля, со своими плодами, и море, с живущими и движущимися в нем, хвалят Господа. Словом, все создание творит слово и повеление Божие и так хвалит Господа своего. Но человек, на которого гораздо большая излилась благодать Божья, чем на все другое созданное, ради которого, созданы небо и земля, ради которого сам Бог явился и пожил на земле, человек – разумное творение, окруженное Божьим благодеянием, не хочет хвалить и благодарить Бога, Господа, Создателя и Благодетеля своего. Так бедственно ослеплял грех Дмитрия Ивановича, царство ему небесное, но не хочу, сын мой, видеть я в тебе и признака неблагодарности и забвения Бога, ибо это удаляет от него, уничтожает веру. Коли правду сказал боярин твой, возблагодари за это Господа!
Василий Дмитриевич сделал вид, что приложился к руке митрополита, Киприан будто бы поцеловал в темя его. Разошлись тихо, но со скрытым недовольством друг другом и с предощущением неминучей в будущем вражды.
9
Теперь, когда беда миновала, можно всякое толковать, можно возносить себя, можно все объяснять и случайностью. А еще говорят: судьба да промысел Божий. Да, это бывает – судьба вдруг благоволит человеку. Но если разобраться, то благоволит она обычно человеку сильному, достойному, и тогда уж не кажется случайностью, а заносится в опись его заслуг, она уж всеми принимается как вещь законная и неизбежная, предопределенная и заслуженная. Но ведь, однако, случается же, что судьба благоволит и человеку недостойному, слабому – да, и такое случается, однако вот тут-то и ясно становится: случай, судьба, счастье сами по себе еще мало значат, надо уметь их взять. Личности слабые, не веря в силы свои, хотя бы и скрывающие это ото всех, оказываются неспособными воспользоваться случаем и судьбой, теряют нить – может быть, оттого это, что нить дается им на какое-то малое мгновение, когда некогда раздумывать и колебаться, а чтобы принять решение, не колеблясь и немедленно, нужны долгие сроки подготовки к этому. И если все же слабый и ничтожный человек окажется волей судьбы вознесенным высоко, он быстро и падает. Когда поступили с гонцами первые ведомости о нашествии Тимура, были в Москве неясность, смута, брожение – Киприан, Юрик, Владимир Андреевич, Евдокия Дмитриевна, многие из наибольших людей в сомнениях и колебаниях пребывали, то ли так надо поступить, то ли наинак… А когда Василий Дмитриевич без малых шатаний принял самолично решение выступить навстречу полчищам агарян, все облегченно вздохнули и все, даже и враждовавшие доселе, согласились, что решение великого князя не только правильное, но и единственное. А направь он тогда в поход Владимира Андреевича Серпуховского с Юриком – бежал ли бы, не приняв боя, Тимур? О-о, это еще не золото в огне, нет, неизвестно еще, как бы история Руси повернулась.
Так судил умом про себя Василий Дмитриевич и от такого хода мысли креп духом и устремлением, перемалывал всю досадующую суету сует. Не сомневался он, что и Андрей Рублев вернет ему свое благорасположение, которого Василий Дмитриевич – как он твердо сам полагал – вполне заслуживал и в котором – он это чувствовал все острее – очень нуждался. Вот и сообщением Кошки об отцовских деньгах захотелось поделиться именно с Андреем, к нему он сразу и направился после нервного разговора с Киприаном.
Рублев был один, сидел среди свежеструганых, медово пахнувших досок.
– Липовые? – догадался Василий.
Андрей молча кивнул головой.
– Смотри-ка, сколь тонкостно тесаны… И ни единого сучочка…
– Да, а то и треснуть доска может, разорваться. Не сразу, конечно, потом когда-нибудь.
– Хочешь, чтобы до Страшного Суда молились на твои иконы люди? – без усмешки, совершенно серьезно спросил великий князь. И изограф ответил в тон ему:
– А может, и больше ста лет суждено моим доскам жить. – Андрей не прервал своего занятия, продолжал сплачивать шпонками две узкие доски воедино. Они сошлись заподлицо, даже и линии годовых колец совпали. Перевернул заготовку для будущей иконы лицевой стороной, разметил по краям ровные поля и взялся за тесло.
– Что же в ковчеге-то хочешь поместить?
– Николы Чудотворца образ. Мужик один мне заказал.
– Как Феофан Грек будешь писать или по прориси?
Этот вопрос почему-то смутил Андрея, он оторвался от своего занятия, посмотрел раздумчиво на великого князя, словно решая, отвечать или нет. «Глядит на меня, как Анисим незрячий», – с обидой подумал Василий Дмитриевич, но тут же и успокоился, подметив, как залучились светом глаза Андрея, словно бы согласие и радость выражая.
– Понимаешь, пришел ко мне мужик, просит образ Николы написать и при этом поясняет: «А обличье его я тебе обскажу». – Андрей по-прежнему держал на коленях доску и осторожно выдалбливал в ней углубление ковчега. Иногда умолкал, стряхивая на пол мелкие стружки. – «Нешто ты знаешь, каково его обличье?» – спросил я мужика и добавил, что ведь даже для великого Грека Бог и его угодники так же далеки, как и для всех других смертных. «А я сподобился лицезреть Николу вот как тебя сейчас», – ответил мне мужик и рассказал об этом во всех подробностях. Угодил он на охоте в лосиную яму, никак не мог вылезти из нее. Думал, что уже все, сочтены его дни на этом свете, как явился какой-то незнакомый дедушка и говорит: «Спасу тебя, но за это обязан ты три милости подать после – нищим, сирым и убогим». Помог выкарабкаться из ловчей ямы и исчез. А мужик пришел домой, рассказал своей бабе о произошедшем и пошел в баню мыться, наказав престрого подавать первому же нищему все, что тому требуется. Только ушел, как является в дом (об этом ему уже после баба рассказала) нищий-татарин и просит есть. Баба дала ему свежий, теплый еще каравай. Захлопнулась за ним дверь, снова – тук-тук! – заходит девочка-сирота, дай, говорит, за Христа ради. Ей баба лапоточки новые, которые мужик только что для своей дочки сплел. И вдруг снова дверь настежь – дед ветхий с сумой. И ему баба дала, что захотел тот, а в это время и мужик сам из бани заявляется. Зашел в избу и – бух! – без памяти свалился. Оказывается, это был тот самый дедушка, что из ямы его вызволил. И думает мужик, что не иначе как русский угодник Божий это – Никола… Описал мне его лик, а я вот в сомнении… Уж больно на лаптежного крестьянина смахивает его угодник, не на святителя вовсе…
– Да, понимаю, был бы хоть в облике Владимира Мономаха, Александра Невского или хоть простого русского ратника, защитника отчей земли, – поддержал разговор Василий Дмитриевич, да невпопад, оказалось, угодил, Андрей метнул на него огорченный взгляд, возразил мягко:
– Не смогу я устремить свое мышление в духовном порыве к невидимому величию Божества через видимый образ… Хоть бы был это батюшка твой, Дмитрий Иванович, хоть бы сам Сергий Радонежский.
– Да, Андрей, я и забыл… Помнишь, я спрашивал тебя, мог ли отец вес новых монет умышленно занизить? Ты сказал, что нет, и ты оказался прав, Федор Андреевич доподлинно все распознал… Тут как получилось?..
Рублев не дал досказать, с негромким, но подчеркнуто резким пристуком поставил доску на пристенную лавку, встал и посмотрел на великого князя в упор, холодно и отстраненно:
– А ты, значит, раздумывал?
– Да нет, но… – Василий увидел, как обозначилась на лице изографа болезненная усмешка, не знал, что сказать и как поступить. И вдруг, для него самого неожиданно, вырвалось у него: – Я ведь зачем к тебе пришел… С заказом большим. Нужен мне на кремлевскую башню надвратный образ Николы-угодника.
Предложение великого князя было столь ошеломляющим, что Андрей даже слабость в ногах почувствовал и опустился в бессилии на скамью. Заказ был не просто большим, но – почетным.
– Вся Русь станет на этот образ молиться, каждый иноземец, приходящий в Кремль, поклониться будет обязан.
Андрей продолжал молчать, сидел на скамье, повесив голову.
– Отчего нишкнешь – думаешь, как отнесутся к этому Феофан, Даниил Черный, Прохор Городецкий, другие изографы, да?.. Не робей, они все твой талант признают.
Андрей не ворохнулся.
– А я как только решил это сделать, сразу про тебя вспомнил, – Василий Дмитриевич и сам уж верил, что было именно так, – Мне не нужна икона, какие Феофан пишет, не надо резких теней да бликов, наш Никола должен быть светлым, ясным.
Андрей вскинул взгляд:
– С мечом в деснице и с храмом в левой руке чтобы был?
«Прослышал, стало быть, о моем желании», – самодовольно отметил Василий про себя, а сказал опять себе в противоречие:
– Сам говоришь, что нужно божественное созерцание посредством чувственных образов… Как же я смею подсказывать тебе!
– Но вот мужик же посмел… И мне помог земной образ прочувствовать.
– Таким и пиши! – ликующе решил Василий, а про себя подумал: «Все, мой теперь Андрей-иконник, не переманят его покуда ни брат Юрик в Звенигород, ни дядя Владимир Андреевич в Серпухов».
– Но все ж таки, какое у тебя-то желание есть?
– Ну, разве что одежда… Пусть во всем красном будет наш Никола.
– В каком?
– В красном, говорю.
– В алом? Багровом? Или – черевчатом, смородиновом, брусничном?..
– Так много красного?..
– Маковый еще есть, огненный, жаркий…
– А как же выбрать, какой лучше?
– Кабы я знал, княже… У Феофана каждый цвет играет сам по себе и каждый усиливает другой во взаимном противопоставлении. А я тщусь так цвета подбирать, чтобы они дополняли друг друга, их красота должна быть в мерной согласованности. Но сподобит ли Господь?..
– Сподобит, сподобит! Все говорят, что дар у тебя Божьей милостью… Вот прямо завтра и начинай, а-а?
Рублев снисходительно улыбнулся в ответ, но улыбка эта великому князю не показалась обидной, он снова сказал себе: «Все, опять стал моим Андрей-богомаз». Уверен был, что и постарается художник как-то особенно, всю хитрость свою проявит.
Василий Дмитриевич стал с нетерпением ждать исполнения своего заказа, но Андрей не торопился приступать к работе, не начал письма ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. Не отказывался, но тянул, откладывал со дня на день, как ни понуждал его великий князь.
Как-то затребовал художника к себе во дворец. Андрей явился, уверенный, что гневаться будет великий князь за затяжку, но тот весело очень спросил:
– Знаком ли тебе, Андрей, этот инок?
Андрей вгляделся в лицо одетого в черную рясу человека, воскликнул:
– Брат Лазарь! Пришел-таки!.. Прямо из Афона?
– Нет. Был на Балканах, да от турок сюда притекоше, вспомнив твое званье, – Серб-монах отвечал по-русски, хоть и не очень верно выговаривал, хуже, чем Феофан, однако же понять можно было все, – Срядились вот с великим князем часомерье в Кремле поставить.
– А верно ли говоришь, что ни в одной столице Европы нет таких? – спрашивал Василий Дмитриевич, нарочито хмурясь, хотя был предовольнешенек.
– Верно, государь. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Праге, ни в Риме. Есть часовники городские, но без часомерья. А я тебе исделаю такой, что на всякий час ударять молоточком в колокол будет, размеряя и рассчитывая часы нощные и дневные.
– А кто же будет молоточком-то бить, караульщик, что ли? – вопрошала с удивлением сидевшая на престоле рядом с великим князем Софья Витовтовна.
– Не человек бо ударяше, но человековидно, самозванно и самодвижно, страннолепно никако, – путано объяснял Лазарь, показывая чертеж, на котором была нарисована высокая, много больше человека башня. – Круг этот с семнадцатью буквицами я сам могу расписать, но лучше, если Андрей своей хитростью преизмечтает и преухищрит[125]125
Речь идет о циферблате, который назывался просто кругом и делился на 17 частей по числу часов наиболее продолжительного летнего дня (началом суток считался час восхода солнца), а поскольку в древнерусском алфавите не было цифр, вместо них употреблялись соответствующие буквы.
[Закрыть].
– Преизмечтает! Преухищрит! – весело вторил Василий. – Это ему нипочем, он для Евангелия вельми чудные буквицы сотворил. Сделаешь, Андрей?
– Лазарь же сказал, что сам может.
– Верно! – не огорчился Василий отказом. – Он ведь с меня сто пятьдесят рублей запросил за часомерье, огромадные деньги, не то что ты за свою икону возьмешь… Да и когда еще брать-то ты будешь? – По тому, как, спросив, надолго умолк великий князь, Андрей понял, что это-то больше всего и интересует Василия Дмитриевича, во всяком случае, больше, чем часомерье. Но и повторять вопроса он не стал, позволил Рублеву опять отмолчаться.
В другой раз, возвращаясь из загородной поездки, Василий Дмитриевич завернул в Андроников монастырь. Самого Андрея, званного в тот день на роспись церкви-обыденки, не застал, работал в келье его помощник Пысой. По заданию учителя он готовил левкас, замешивая мел на клею из пузырей осетровых рыб. Белый, как сливки, грунт этот он наносил широкой кистью на ковчег будущей иконы. Работа столь нравилась ему, что с лица его не сходила довольная улыбка. Похвалился перед князем:
– Раньше только краски творить Андрей мне разрешал, и то под своим приглядом, а теперь я левкасить могу и олифу варить хоть из льняного масла, хоть из макового…
– А отчего же ты не с ним сейчас?
– Ногу об гвоздь порушил, – и Пысой показал обвернутую тряпкой ступню.
– А Андрей-то что, образ Николы не знаменил еще, не ведаешь ли? – осторожно выведывал Василий.
– Знаменить знаменил, размечал жидкой водяной темперой, даже и руки Николы, воздетые, обозначал, однако на этом все и заканчивал, велел мне размывать либо записывать другими красками.
– Отчего же это? Не ладится дело у него нешто? – расспрашивал из простого будто бы любопытства великий князь, а Пысой, ничего не подозревая, простодушно выбалтывал все тайны Андрея, в которые был посвящен.
Оказывается, ждет Андрей, когда привезут ему ладан – смолу душистую из ливанского дерева, потому что на вишневой смоле – камеди – или на желтке яичном растворять краски не хочет, поелику икона на вольном воздухе висеть будет, всякой непогоде подвержена окажется.
– А что же он у меня не попросит?
– Андрейка никогда ничего ни у кого не просит, – с вызовом ответил Пысой, и все конопатое лицо его залилось краской удовольствия и гордости за друга и наставника. – А потом… Я думаю, он решится писать только после долгого поста, он ведь знаешь какой…
Теперь появилась у Василия Дмитриевича какая-никакая ясность, он не стал больше торопить художника и тому уж одному радовался, что знает, какой он, Рублев. И повторял: «Все, мой теперь Андрей-богомаз!» Но порой, правда, гнездилась в сердце и опаска: «А может, и не мой? Может, и не знаю я все же, какой он?».
10
И как для Василия Дмитриевича, как и для Пысойки, и для Андрея Рублева посты были трудны и казались бесконечными, ночные молитвы тяжелы через мучительство сна и холода, хотелось ему лечь на каменный пол кельи и забыться, а молитвы днем вершились вне сердца, скоро, невнятно, рассеянно. Влекло на подсохшие деревенские выгоны, где детский смех стоял с утра до вечера, ребятишки малые гоняли кубарь, ловили, визжа, друг друга, а которые по возрасту и на ногах еще. не укрепились, сидели на краю выгона на разостланных кожушках, рассматривали строго собственные растопыренные пальцы, время от времени бессмысленно вперяясь глазами в бегающих старших. Полушалки девочек, алые, кубовые, зеленые, как цветы, взошедшие по коричневому полю.
Подолгу стоял Андрей, разглядывая детские лица, удивляясь чистоте их и святости, бесконечному доверию, с каким взирали они на Божий мир, не ведая уготованных им страданий; не такие ли и у Божьих угодников, ведь изречено премудро – будьте как дети…
Все это – землю с белыми детскими головками и их смехом, яркие краски одежд, дали обнаженных еще лесов, трепет ветра, летящего с юга, – покрывала воздушная, пронизанная голубизной полусфера неба, лазоревая синь, нежно разведенная белилами, с прозрачной прорисью едва заметных облаков.
Он стоял и жадно впитывал запахи натерянной коровьей шерсти и птичьего пуха из старых выброшенных гнезд, весенней земли, древесной живой коры, под которой забродили сладкие соки новых лиственных рождений, запахи навоза и прелой соломы, веявшие из деревни. После тишины келий и монастырского двора, после кротких великопостных чтений, с редкими свечами, невнятными вздохами усталых братьев, мир оглушал Андрея ревом полой воды в овраге, синичьим настойчивым посвистом, резким граем грачей, дальним коровьим мыком и лошадиным ржанием. У кого-то в деревне визжал поросенок, пели петухи; поскрипывали колеса телеги, едущей через нижнюю плотину, все было бодро, деятельно, готовно к чему-то радостному, что обязательно и скоро должно произойти. Но главное – в мире были его цвета, краски, оттенки, переходы неуловимой просини в солнечность, блеклой печали только что открывшейся из-под снега прошлогодней пашни в затопляющую, ослепительную зелень веселых рослых озимей. Краски буйствовали, хлестали зрение, мягко перетекали друг в друга, спорили и растворялись одна в другой и обе – еще в третьей, и все было в дивной звучащей гармонии, Господом предначертанной и им одушевленной. За кисть возьмешься – и тысячной доли того не передашь, что око обоймет, думалось Андрею. И сметь ли мечтать человеку повторить творение Божье и заключить его на доске? Вечен свет солнечный, но переливы его бессчетны, на что падет, тому свой тон дает, то есть в предмете существующий выявляет. Вечен мир до второго пришествия, но сколько переливов жизни в нем, смена сна и пробуждения – она и душе человеческой и самой земле свойственна: становление непрестанное с восхода до заката жизни. Не предерзостно ли надеяться, что живописцу позволено сие передать, чего ни разуметь, ни объять он не в силах? Василий Дмитриевич, как дите малое, все восхищается тем яблоком боровинкой, что изобразил Андрей в вьюжном феврале на стене повалуши, но это потому только, что хоть и великий князь он, а не знает, что красоте этой переливчатой, изменчивой невозможно и не надо подражать. Вон только что розовел осинник в лощине, что ланита детская на ветру, а луч солнечный переместился – и кора стволов зелена, как стручок молодой гороховый, где за этим живописцу с его кистью угнаться, когда глаз не успевает схватить, не токмо рука! Быстрее взора человеческого видимость мира, во мгновение единое переменяются его прелести. И что же есть вечного в нем, спросить? Единый и вездесущий дух, являющий себя сердцам, могущим воспринимать. Истинно сказано: имеющий уши да слышит. Благодать Господня глаголет нам через красоту мира видимого. Загадки премудрые глаголет дух из глубины веков прошлых и неведомых свершений будущего «Так дух явленный писать на святых досках?» – спросил он себя и почувствовал, как сердце голубем кротко-радостным ворохнулось в груди под черной ряской: да, да, так мыслишь! Но как невидимое сопричаствовать видимому? В каких символах достойно выразить его? Разум мал, и чувства затемнены. В груди смятение веселья весеннего покрыло и утишило адов огонь зимних размышлений и страхов. Неужели так тяжко суждено было переболеть душе и токмо этим очиститься? Даже на исповеди скрывал страдания и сомнения свои, грешный, и к причастию подходил с сокрушенным сердцем.
Он стоял и корил себя за неравновесность, не-согласность мыслей, за мирское беспокойство, достигавшее его за толстыми монастырскими стенами Вервием подпоясанная легкая ряса грела плохо, Андрей засунул зябнущие руки в рукава, неожиданно наподдал ногой накатившийся на него кубарь и сам побежал за ним вместе с детьми, захлебывающимися от смеха. «Ах, грех, грех! Великий пост на дворе, какие игрища!» – корил он себя, а сам смеялся и бежал с детьми за кубарем вниз к луговине над овражьем, откуда несся сладостный шум вешней воды. Один из мальчиков упал и, беспомощно растянувшись, проехался по весенней густой грязи Встал черный, как эфиоп, однако весел по-прежнему И другие ребята веселы, тычут в него пальцами, хохочут.