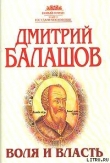Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Вот такое вот было мгновение, Василию привидевшееся и в глазах, в слезах у боярыни отразившееся со всеми куполами, облаками, златовершими от зари садами.
– До Семина дня далеко, через семь недель Светлое воскресение, а там Красная горка, – большие познания выказала неожиданно Софья, – А серебро сейчас, – то ли попросила, то ли приказала она.
Мисаил нахлобучил на голову лисий треух:
– Айда!
Оказалось, что зарыл свой клад Мисаил, «когда был Маматхозей», совсем рядом с Кремлем, под одним из амбаров пристанища Амбар сгорел, но Мисаил все равно безошибочно и сразу же указал место.
8
Похоже, что Маматхозя грабанул кого-то из богатых купцов, а может, и к великокняжеской казне или митрополичьей ризнице прикоснулся: закопанный им мешок из конской кожи набит был сплошь русскими денежными слитками – киевскими шестиугольными литами, новгородскими гривнами серебра, целыми и разрубленными на половинки, рублями. Было несколько клейменых полтин, два глиняных горшка с мелкими монетами.
Мисаил наблюдал, как грузится из ямы на запряженные парой лошадей сани его серебро, во взгляде карих его глаз читалось сокрушение и запоздалое сомнение, но недолгими они были: еще звякали заступы, ковыряя мерзлую землю, а он уж отвернулся от утраченного своего богатства, в глазах замерцали звездочки, когда увидел он Янгу. А к Василию обернулся уж с широкой улыбкой:
– Теперь моя Янга?.. Благослови, государь!
– Благословляй же! – подтолкнула супруга Софья.
Василий с недоумением посмотрел на ее сердитое лицо, потом на счастливое и ждущее Мисаила. Сказал словно бы в раздумье.
Я благословляю моих бояр, когда они, уже обвенчанные, на свадебном поезде ко мне приезжают Вот ужо на Семин день, когда осень в очи заглянет Сказал и метнул взгляд на Янгу И мгновенный ответ ее получил – вспыхнул блеск в заплаканных глазах и тут же затаился под скорбно изломанными тонкими бровями Этот обмен взглядами никем не был замечен, но только Софья поняла, сердцем почувствовала, что что-то решительное произошло между этими двумя людьми… И она снова вмешалась.
Свадебный поезд привозит государю свои подарочки, а ты загодя получил Да еще какой подарочек! Загодя и благословляй!
Василий смотрел на Янгу прямо и строго, и в безобманности слов его Софья не могла сомневаться. хотя и не совсем ими довольна осталась, – он сказал:
– Дозволяю тебе, Янга Синеногая, поступать так, как сердце повелит Вольна ты выбирать себе любой жеребий, любого супруга.
Янга поклонилась в пояс, скрывая лицо.
– А тебе, Мисаил, благодарение от Русской земли за то, что вернул ей у нее же нахватанное.
Мисаил слишком хорошо понял смысл последних слов, поторопился объяснить:
– На трех конях было приторочено. Один рязанский, второй – нижегородский, московский только один.
Кожаный мешок за почти десятилетнее время лежания в земле сопрел, рассыпался на куски, поэтому решили на всякий случай копнуть поглубже вдруг что-то из клада само по себе схоронилось. И правильно сделали, в мягкой, и сухой уже на саженной глубине глине, лопата звякнула – обнаружился сначала один тяжелый обод из серебра, затем второй, третий… Мисаил с изумлением смотрел на них, замотал головой.
– Это не мои… Это я не нахватывал, не клал.
Не трудно было догадаться, что кто-то еще раньше облюбовал приметный и скромный взлобок на берегу реки Москвы для своего клада, но кто именно и когда? Киприан внимательно рассмотрел арабские надписи на поясах и обручах, удивленно покачал головой.
– Однако раньше той поры, как Андрей Первозванный пришел на Русь с евангельским благовестием[42]42
По сказаниям русских летописцев, а также по некоторым иностранным источникам, апостол Андрей проповедовал в Древней Руси, бывал около нынешнего Киева, где водрузил крест, доходил до Новгорода и села Грузина (Друзина), где поставил свой жезл.
[Закрыть].
– Значит, когда еще и Москвы самой не было, раньше Юрия Долгие Руки? – Василий в нетерпении спрыгнул в яму.
Вслед за серебряными, искусно окованными изделиями стала обнаруживаться в еще более глубоко развороченном, песчаном уж нутре разная хозяйственная утварь – ножи, глиняные черепки, деревянные поделки.
– Была Москва – нет ли, однако люди жили. Такие, как мы, люди, – говорил Киприан, а Василий слушал его неверяще, не пережив изумления.
Думал он, что был тут со дня сотворения мира кондовый бор, из которого срубил пращур Юрий Владимирович первую городьбу Москвы, а Иван Калита затем и кремль первый, дубовый… А теперь что же выходит?.. Москва была тут всегда?. Люди в ней жили… И они тоже радовались, любили, тушили пожары, отстраивались, рожали детей, работали, пили-ели и били посуду – вон сколько черепков… Черепки эти ни к чему, а вот серебряные вещи кстати: можно из них отчеканить монеты. И может быть, когда-нибудь эти монеты станут единственным свидетельством того, что был тут стольный град Руси. Откопают когда-нибудь люди эти серебряные деньги, прочитают, как Киприан сейчас прочитал, скажут: «A-а, это Василий Дмитриевич сын Донского, извел арабские обручи на деньги для Орды…».
А Киприан между тем, утратив интерес к обручам, внимательно рассматривал новгородские гривны серебра. Что-то явно заинтересовало его в них, он заговорщически отозвал Василия в сторону, показал тусклый брусок:
– Смотри, сын, шов какой!
– Что же?
– Литье двойное… Слышал я, что были среди новгородцев безумные люди[43]43
Безумными людьми называли тогда тех, кто допускал обман в производстве денег; совершенно фальшивых, поддельных монет Русь тогда еще не знала, они появились в стране лишь в XVII веке – пришли с западной интервенцией.
[Закрыть], правда, значит.
– Так что же? – все еще не понимал митрополита Василий. – Переплавим, олово и медь в угар перейдут, а серебро чистое останется.
– А зачем переплавлять? Вези их Тохтамышу так. Ты ведь не виноват, ты не в ответе за безумных новгородцев, а хан басурманский не поймет, да и поделом ему.
– Почему же не поймет? Ты ведь разглядел?
– Ненароком. Да и ведомо мне было, слышал я про тайну сию. Самая тяжелая часть из другого, низкопробного серебра, а доливка уж подлинная. А Тохтамыш рад будет им, ведь для крупных расчетов эти слитки удобнее всего.
– Все слитки такие?
– Нет, только те, что короткие и с горбатой спинкой…
– А гоже ли это, святитель, не подлог ли это?
– Говорю же тебе, сын мой: ты-то тут ни при чем! Ты и не знал будто…
– «Будто»?..
– Ну да! К тому же… – Киприан умолк, смотрел на Василия в раздумье, словно бы не решаясь выдать какую-то тайну. Решился-таки: – К тому же надо сказать тебе… Хотя лучше не сказать, а показать. Пойдем-ка в мою ризницу.
Киприан действительно тайну выдал да еще и такую оглушительную тайну. Василий на какой-то миг дар речи потерял – хотел удивиться, возмутиться, крикнуть, что это ложь, но язык не слушался его, губы словно морозом свело. Наконец выдавил из себя с сомнением и болью:
– Что же, святитель… Отец мой обманщиком был?
– Я этого не утверждаю, Василий Дмитриевич, – лисой вился Киприан, – смотри сам: вот монета, отбитая Дмитрием Ивановичем в шесть тысяч восемьсот восемьдесят втором году, вот та, что появилась через шесть лет, сразу после разгрома Мамая, все они одинакового веса, их в рубле двести штук, и рубль, из них составленный, вполне полновесный. А теперь возьмем монеты, которые Дмитрий Иванович отбил для Тохтамыша после погрома Москвы, их в рубле тоже двести, а весят они, смотри, много меньше полфунта, надо еще тридцать штук добавить, чтобы прежний рубль получился, каково?
– Но я ведь тоже такую монету чеканю! Значит, я тоже обманщик?
Киприан развел руками, прошелестев золотой парчой.
– Нет, я не хочу ни примеса, ни обвеса…
И опять Киприан ответил молчанием.
Первым побуждением Василия было немедленно прекратить чеканку монет, а уже готовые пустить в переплавку. С намерением сделать так он шел торопливо от митрополичьего двора через площадь к Боровицким воротам, а чем ближе подходил, тем больше замедлял шаг. Вовсе остановился, пораженный догадкой: «Если я прикажу увеличить вес новой деньги, значит, я признаю, что мой отец совершил подлог… Нет!»
9
Федор Андреевич Кобылин подтвердил, что вес монет был занижен по приказанию великого князя Дмитрия Ивановича и что было дано в свое время разъяснение причин этого, но вот каковы они, в чем заключались, старейший боярин то ли не понял, то ли запамятовал за давностью времени. Допускал Федор Андреевич предположение, что сделано это могло быть с целью получения прибыли, ибо с серебром было на Руси после нашествия Тохтамыша особенно трудно.
«Денга» – от татарского «тэнга», а это название заимствовано у индусов, которые завели у себя после прихода Александра Македонского монету «танка». На Руси назывались деньги еще и копейками, и мортками, но как ни называй, ее в рубле должно быть сто штук, а рубль известен как серебро высокопробное и полновесное на всех рынках мира, охотно имели с ним дело генуэзцы и фряги, немецкие и византийские торговые гости. И нет, не мог Дмитрий Донской пойти на подлог, что-то тут не так, но что?
Еще больше, чем количество отбитых денег и их вес, беспокоил Василия их внешний вид. Монеты – не просто мера стоимости, средство платежа, накопления и обращения, это еще и дело большой политики, внутренней и международной. Первую монету на Руси после прихода татар Дмитрий Иванович отбил в 1374 году, потом в 1380-м, мелкие партии чеканились и в другие годы и имели полноправное хождение на западе и на востоке, можно было ими расплачиваться на рынках Булгар, Сурожа, Карокорума. Были это все русские копейки, на которых изображался святой Георгий с копьем, но затем Тохтамыш, желая отомстить Дмитрию Ивановичу за унижение, потребовал после 1382 года чеканить монеты с именем хана. Копейки, или денги, стали носить полурусский, по-лутатарский характер: на лицевой стороне помещена надпись по-арабски: «Султан Тохтамыш-хан – да упрочится царствие твое», а на обороте печать великого князя Дмитрия Ивановича, изображающая петуха или человека с секирой. С сюзеренной арабской надписью и арабской легендой во славу султана Тохтамыша печатал сейчас монеты и Василий, лишь на одной стороне указывая свой великокняжеский титул. Что и говорить, унизительно для русского государя, но Василий сознательно пошел на это. Слитки хоть и тяжелы, но привычны и тусклы, как тускломертвенный блеск снулой озерной рыбы, другое дело – новенькие монетки с именем хана. Так повесомее должен выглядеть выход, который Василий собирался отвезти собственноручно. Мешки и кади, доверху наполненные блестящей монетой, не могут не произвести впечатления. Пусть порадуются ордынцы тому, какой у них на Руси улусник, покорный да признательный, пусть не врага, но друга – другого такого же, как он, ближнего и равного человека видит Тохтамыш в новом великом князе московском, пусть, пусть покуда… Не век же будет эта проклятая зависимость, ведь переменит же Бог Орду, не всуе слова эти пишутся во всех духовных русских князей последнего времени, скоро, скоро… Но покуда – терпение, благоразумие, рассудливость.
В чеканке денег самым ответственным и сложным делом оказалась подготовка штемпелей: вырезать их не всякий может, а служат они недолго. Ханский оборот монеты был неизменным, и штемпели для него резал один мастер. Русскую сторону Василий велел делать неодинаковой – с петухом, с четвероногим животным и скорпионом, с воином поколенно и по пояс, с человеческой большой головой. Но самой главной печатью, конечно же, был ездец, сам по себе уже служивший символическим изображением самого князя, но и с подписью же: «Князь великий Василий Дмитриевич».
Изображение ездца сделал для резчиков Андрей Рублев, нарисовал красками на гладкоструганых осиновых плашках, а мастера уж сводили их на железные штемпели.
Полюбившийся Василию с детских лет Андрей-монашек вызывал у него сейчас чувство неизбывного доверия, слова его, произносимые им спокойно, негромко и с безоглядной прямотой, воспринимались Василием как глас самой истины.
– Как думаешь, Андрей, мог отец мой сделать монеты нарочно легкими, чтобы прибыль получить? – спросил Василий после объяснения с Киприаном и услышал ответ чаемый и желанный:
– Нет Дмитрий Иванович был человек праведный Андрей ответил сразу же, без какого-либо раздумья ни тени сомнения у него не было. Василию даже и стыдно стало за свой вопрос, и он так оправдал себя в собственных глазах: «Я сам это знал, мне надо понять просто, зачем монеты сделаны легче». Перед Андреем своего смятения не выказал, отвел разговор:
– Так-таки не будешь ты храмы больше расписывать?
Вместо ответа Андрей, по обыкновению своему, потупился. Привычка ли такая, столь ли застенчив и робок он, но всегда вот так: чуть склонит набок голову, клинышек русой бороды его словно бы под мышкой правой руки спрячется, а глаза смотрят из-под бровей добро, кротко и всепонимающе. Но нередко бывал Андрей и разговорчив, словоохотлив, а так вот замыкался, видно, когда не хотел говорить или не знал, что сказать.
Он пришел в Москву вместе с другими изографами и зодчими Троицкого, Симоновского, Андроникова и других монастырей, чтобы отстроить и расписать в городе безвозмездно, в качестве помощи погорельцам несколько церквей. Андрей был в артели старца Прохора с Городца, однако через несколько дней пришел на княжеский двор и сказал Василию, что не хочет писать фрески в храме и иконостасы, но лучше будет в монастыре книги разрисовывать, штемпели и печати резать, а может еще и новые княжеские повал уши изукрасить изнутри рисунками забавными.
Василий поначалу не понял причин такого настроения известного уж на Руси изографа, однако обрадовался:
– А еще и крытые переходы в придворный храм распишешь? Как в Киевской Святой Софии?.. Видел я там на лестницах: красками писана княжеская охота, конские ристалища…
– То, княже, по сырой штукатурке писали византийские мастера… Вот будешь Благовещенский каменный храм ставить, как наметил, тогда, может…
– Почему «может»? Ты же обещал?
Андрей опять молчаливо потупился – не захотел отвечать. Василий попытался его разговорить:
– Ведь пишут и сейчас Прохор, Данила, Феофан и другие иконники по сырой извести, а ты почто не с ними? Тебя ведь много хвалили, я слышал?
Андрей пошевелил тонкими губами, словно бы желая воздуху побольше в себя забрать, с духом собраться для признания. В серых с голубыми искорками глазах его зародилось мимолетное смятение, совсем краткое, проблеском, тут же взгляд его снова стал прям, выражая покой души, полный и нелицемерный:
– Когда у Сергия на Маковце я был, мастера византийские пришли поновлять фрески в Троице. Мальцов привечали, дозволяли растирать разноцветные камешки на краски. Я изо всех сил старался, нравилось мне чудное их занятие. Мало-помалу научился и кистью владеть. Взяли меня в артель, был травником, потом доличником. Два года уж, как не только одежду и фон, но и лики мне стали доверять, а там работа тонкостная, мастерства доброго требующая. А Феофан Грек посмотрел на мое исполнение да и сказал: «Божья отмета есть на тебе, но большого мастера из тебя не получится, поелику оторопей ты очень, душа у тебя голубиная. А в нашем деле высокий, соколиный взлет надобен…»
– Ты обиделся, стало быть? – догадался Василий и сразу увидел, что неверно догадался: тонкое лицо Андрея исказилось болезненной гримасой досады, он даже вздохнул с большим сожалением: что же ты, мол, такой не сметливый, а еще великий князь!
– Како! Я обрадовался словам тем!.. Подумай-ка. «Большого»! Я не дерзаю большим быть, мне бы хоть малехоньким, но лишь бы мастером, ведь лики святых писать… – он запнулся, закончил с отчаянным чистосердечием, даже голос у него надтреснуто осекся, глаза обволоклись слезной блоной: – Неужто, княже, и впрямь сердце сокола надобно?
«Завида грызет, – решил про себя Василий, не знавший тогда еще, что перед ним стоял человек, по природе неспособный досадовать на чужую удачу, зариться на сторонний талант. – Жалеет, что сердце голубя у него, а не сокола». – И это заключение неправым было: не жалел, а сомневался и вопрошал Рублев, он пытался осмыслить то, к чему Василий и прикоснуться умом пока еще не мог, что было слишком далеко от его государственных забот. Но и что-то почувствовал он бессознательно, что подсказало ему бережные слова:
– Зело дивная работа у вас, эта ваша жи-во-пись… Я, как на чудо, смотрю и, как чудо же, не берусь постигнуть. Покажи мне, как Феофан твой работает, он сейчас, я слышал, иконостас богородичный пишет.
Андрей согласился с большой охотой: тянуло, видно, его к Феофану, хотя не было ни в Москве, ни в Новгороде ни одной иконы, ни одной фрески кисти великого Грека, которую бы не рассматривал долгими часами Андрей, пытаясь постигнуть нечеловеческую, неземную силу созданных художником образов.
10
Здание церкви только вчера было срублено, вчера же дружина художников и начала ее расписывать. Пахло стружкой, красками, олифой, разогретым клейстером. Изографы разбрелись, по обыкновению, по разным укромным углам – один трудился в притворе, второй за царскими вратами на амвоне, каждый работал, таясь от праздного глаза и священнодействуя: хоть и по готовым прорисям творили они живое письмо непостижимых, божественных ликов, однако же каждый чувствовал обостренным сердцем своим нерасторжимую связь с горним, высшим миром. И только один живописец-иконник работал прилюдно, не стесняясь присутствия зевак – толпа их была постоянной, хотя и изменчивой, ибо иные, постояв, поверхоглазив часок-другой, уходили восвояси по делам своим и заботам, им на смену являлись другие москвичи: чернецы и ремесленники, купцы и оратаи, кметы и бояре. Разный народ грудился – иные благоговейно ловили каждый жест, каждый удар кисти прославленного на весь Божий свет изографа, иные просто ротозеили бездумно. Даже и сами изографы из артели иногда отвлекались от работы.
Да ведь и было на что посмотреть!
Художник писал нижний, церковный ряд иконостаса – не одну какую-то икону, а сразу все пять, подбегая то к одной, то к другой, но чаще всего к заглавной, к «Преображению». Он не сидел и ни минуты не стоял на месте, был в непрестанном движении. Уходил к западной стене храма, бросал оттуда взгляд прищуренных глаз и, что-то высмотрев, что-то придумав или что-то важное решив для себя, устремлялся снова к иконостасу. Кисть он нес перед собой, словно боевое копье, в чуть вытянутой деснице, а в левой руке держал деревянный подносик. Не доходя двух-трех шагов, он чуть приостанавливался, цеплял на беличий острый кончик кисти нужной краски и, сделав резкий выпад, наносил на икону мазок – решительно, одним движением. После этого, словно бы утратив интерес к работе, неторопливо поворачивался к иконостасу спиной и уходил прочь размеренным шагом с видом как бы рассеянным, бездумно смотрел либо под ноги себе, либо в приотворенную дверь поверх голов входящих в храм новых зевак. На излюбленной, выбранной загодя точке останавливался, оглядывался на дело рук своих. Если только что положенный мазок ему почему-либо не нравился, он стремительно возвращался и замазывал его, однако чаще просто вглядывался, думал, прикидывая, оставляя свое окончательное решение на потом, так что зрители не всегда могли понять, удовлетворен мастер своим письмом или станет переделывать его.
Грудившиеся в боковых нефах справа и слева зрители с большим участием следили за возвращением художника к записанным большим доскам; пока шагал он к ним, они загадывали: к какой иконе именно подойдет, какую краску и куда положит.
Иных, впрочем, занимал другой вопрос, попроще и позабавнее. Перед началом работ художник, пробуя разные сочетания красок, растирал их прямо на некрашеных еще досках пола возле иконостаса, испятнал весь подход к алтарю, но удивительное дело – ни разу не наступил на эти разноцветные пятна, хотя под ноги себе и не смотрел. Наиболее проницательные зрители делали из этого вывод, что зело искусен и опытен художник, каждый шаг у него выверен. И еще более вздорные вопросы зарождались в праздных головах зевак: много ли верст надо ему исходить, пока хоть одну икону напишет, да сколько пар обуви истопчет он при этом? Но для всех без исключения загадкой было понять сам смысл непрестанного хождения. Наиболее нетерпеливые этот вопрос время от времени даже и вслух задавали:
– И чего ходит да ходит – побегушничает?
– Мыкается взад-вперед…
– Да-а. обмогается, сердешный.
Могло казаться, что художник, костистый, тощий и изнуренный, отрешен от всех и всего целиком и полностью поглощен своим занятием, но это было не так. Разговоры посторонних людей и его слуха достигали. И на этот раз он все расслышал, остановился на полпути и повернулся к вопрошавшим:
– А зачэм я толжэн торчат, как дроф?
В рядах зрителей произошло некоторое замешательство – не поняли:
– Как кто?.. Как – «дроф»?
– Ну да, – подтвердил художник, – как дрова, как этот самый пэнь, что ли, столп?
Дружный смех раздался в ответ ему. Он изобразил на лице огорчение и суровость, но сказал вполне добродушно:
– Лядно, смэйса… Ваш язык – труден язык. Но ты по-грэчески пробуй выружаться, это есть… будет очен смешна, я тоффольно посмэюс.
Заезжий греческий художник, ищущий на Руси применения своему труду и дарованию, сам по себе для москвичей не большое диво, многих приносило бедственными ветрами из этого последнего очага культуры, одиноко теплившегося в средневековой пустыне диких войн и варварства, а теперь шедшего к полному угасанию под сокрушительным шквалом турецкого вандализма. Не было недостатка в иконописцах на Руси в то время. Но Феофан Грек, он же Гречин, был среди многих пришельцев фигурой особенной, на редкость примечательной. Свыше сорока каменных церквей расписал он в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе, пока не попал в Новгород Великий, граждане которого отличались вкусом, тонким пониманием в церковном строительстве и залучили к себе мастера всякими добротами. И может, по сей день украшал бы он там своей дивной стенописью храмы и терема, если бы новгородцы проявили в свое время побольше любви не только к своему гнезду, но и к другим городам и весям Руси и вместе бы вышли на Куликово поле. Они, однако, отстранились от совместного выступления русских против татар, и Дмитрий Донской не мог им этого простить. Круто он с ними обходился, безжалостно обкладывал черным бором, притеснял всячески, а незадолго перед смертью и знатного живописца забрал. Феофан не жалел об этом: в Москве его дарование развернулось особенно ярко.
Все прежние иконы греческого и русского письма непременно выражали величавое спокойствие, какую-то особую духовность облика, а вся опись человеческого тела выказывалась лишь в общих чертах, фигурам придавалось подобие мощей, нетленность, торжественность и строгость нездешнего мира, раскраска их была по большей части суха и темна. Но явился Феофан и нарушил столь же незыблемые, сколь и извечными казавшиеся каноны, написанные им лики праотцев и отшельников своей яркостью и необычностью производили ошеломляющее впечатление даже и на самих московских изографов.
«Завида взяла», – подумал великий князь об Андрее Рублеве, а когда сходил вместе с ним в храм и посмотрел Феофанову работу, утвердился в своей догадке. Андрей был немотен и бледен, когда смотрел остановившимся, зачарованным взором на сочные и столь непривычные для иконописного письма белые, голубовато-серые и красные блики поверх санкири, делающие знаемых святых и угодников не застывшими в вечности, а словно бы сейчас живущими, находящимися в постоянном движении под воздействием скрытой и мощной силы, которая угадывается даже по складкам одежды праведников, резко изломанным, с черно-белыми супротивностями света.
Дьякон Сергиева монастыря Епифаний пришел в Москву один, двое суток шагал без устали через лесные дебри для того только, чтобы воочию созерцать Феофаново деяние. С Андреем Рублевым встретился в храме как со старым приятелем – недавно еще они жили в соседних кельях на Маковце у Сергия Радонежского, только Андрей был неуком в монашестве, а Епифаний пришел в обитель в возрасте Христовом после долгих странствий по Востоку и за исключительные умственные качества и талант летописания получил прозвание Премудрого. Но поначалу и он отметил лишь странность, необычность поведения Феофана, сказав, что тот очима мечуще семо и овамо: что налево и направо взгляды бросает он не реже, чем на свою работу, сразу и всем видно, и всем удивительно. А Феофан еще и поговорить между делом горазд – острое словцо подбросить или вспомнить что-нибудь кстати о своей покинутой родине. И еще дивное диво – не пользуется Феофан прорисями!
– Когда он что изображает или пишет, – восторженно делился своими наблюдениями Епифаний Премудрый, – я не видел, и никто не видел, чтобы Гречин когда-либо взирал на образцы, как это делают все наши иконописцы, которые в недоумении постоянно всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на прориси.
Эту особенность работы Феофана, конечно же, давно и сразу же отметил и Андрей, и другие изографы.
Все несказанно изумлялись, ибо с азов были приучены: иконы должно писать с древних образцов, от своего же мышления и по своим догадкам Божества не писать! На все даны изографу определенные правила: как приготовлять материал для живописи, как располагать композицию, какими изображать те или иные лица, даже какие цвета придавать их одеждам. Эти правила с мельчайшими подробностями изложены в книгах, называемых подлинниками и дающих иконописцу руководство день за днем, для святцев целого года, указание на то, в каком виде должно изображать каждого святого и каждый Господний или Богородичный праздник.
При таком способе исполнения, убивающем всякую особость у художника и допускающем совместное участие сразу нескольких рук в одной и той же работе, все иконы, и византийские, и русские, выходят схожими между собой, как будто писаны одним и тем же человеком. Так было и так есть: исполнитель священных изображений не может дерзнуть уклониться ни на шаг от предписаний и выразить свою личность в чем бы то ни было.
Но знаменитый Грек дерзает же!.. Дерзает и пишет так, как никто еще не писал и никто не слышал даже, что можно так писать, и не видели от сотворения мира столь божественного письма!
Не сразу, но все, один за другим, даже и признанные русские изографы покорно зачли себя в ученики Феофановы и стали стараться писать иконы и фрески так, чтобы на него походить… Андрей понимал их и не осуждал, но сам принять Феофанов стиль дерзкий все же не мог, ему больше по душе было тонкостное и мягкое письмо Даниила Черного.
– А ты-то не сумеешь, поди, так? – нечутко подтолкнул его Василий, а когда тот отмолчался, опять по-журавлиному склонив голову, подумал снова: «Завида…» И так был уверен в своем выводе, что с сожалением порассуждал про себя о том, что, видно, нет на свете людей безгрешных, идеальных. Иной раз думаешь, вот как с этим славным Андреем: вот человек, у которого нет ни одного порока, а есть одни только добродетели. Но как-то нечаянно обнаруживается и в этом человеке некая вовсе даже неприглядная черточка. Она не главная, не определяющая, но она же – есть! И так может получиться, что черточка эта постепенно перерастет в черту очень явную, такую даже, что перечеркнуть может и все достоинства. От зависти Андрей иконописание бросил – это для начала, а потом к чему может прийти?.. Написано же в умной книге: «Аще бо кто и многи творит добродетели, а будет завистлив, то горшии татя и разбойника».
Рублев чувствовал, что великий князь недоволен его молчанием, спросил, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышал Феофан Грек:
– Если он не пользуется образцами, то, значит, дан ему неисповедимый промысл Божий собственными очесами горний мир лицезреть?
Удивительное дело: Феофан, так охотно, так беспременно откликающийся на каждый возглас зрителей, слова Андрея оставил без всякого внимания! Ответил Андрею Епифаний, не всуе прозванный Премудрым:
– Он, кажется, руками пишет роспись, ходит беспрестанно, беседует с приходящими, а сам умом обдумывает высокое и мудрое, чувственными же очами разумными разумную видит доброту.
Рублев подавленно умолк, но когда возвращались пешком в Кремль, спросил Василия:
– Ты тоже, великий князь, веришь, что Феофан чувственными очами разумными разумную видит доброту?
Василий не сразу отозвался, подумал, что, видно, не в зависти дело – в неверии, ответил вопросом:
– А ты, значит, сомневаешься все же, что дано ему собственными очесами горний мир лицезреть?
– В это-то я готов верить, другое повергает разум мой: неужто таков и есть он, Божий мир, каким его Грек пишет?
Василий не нашелся с ответом, решил про себя, что, значит, не зависть и не неверие руководят Андреем – сомнения господствуют над его душой. А тот между тем настойчиво повторил вопрос:
– Таков ли он, горний мир, а? Что скажешь, великий князь?
И великий князь вдруг с каким-то суеверным страхом подумал, что он совсем не понимает этого не столь, оказывается, простого монашка Андрея, что монашек этот мало того что не сомневается – он непоколебимо убежден, что он-то именно и знает, каков на самом деле мир Господа, Владыки нашего.