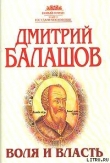Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Глава VII. Москвичи и иных мест люди
Москвичи Москву страстно любят и думают, что нет спасения окромя и что нигде не живут окромя, как в Москве.
Екатерина II
1
Все яснее и очевиднее становилось и друзьям и недругам Руси, что на огромном пространстве Восточной Европы осталось лишь три истинные силы: Литва, Орда и Москва – Москва-город, Москва-народ, Москва-государство. Вопрос мог теперь заключаться лишь в том, кому из трех принадлежит в истории главная роль. А пока ответ на этот вопрос искался, ближайшие братья – удельные князья, владевшие вполне независимо городами, но не чувствовавшие себя властелинами, имевшие в собственности богатые отчины, но лишенные самодержавного права распоряжаться ими, – пребывали в тяжких метаниях: под чью руку становиться, в чью волю отдаться, кому служить?
Василий осознал особую роль Москвы и ее великого князя еще при жизни отца, а теперь ему становились понятными и причины, приведшие к этому. Получая тайные донесения своих доброхотов из Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, Рязани, Новгорода Великого, а также и из городов, занятых Литвой и Польшей, он видел, сколь опустошительную усобицу проявляют там соправители после того, как их отец-завещатель закончит земные расчеты. Родные и двоюродные братья, дядья и племянники, вместо того чтобы перед раскрытой ракой усопшего дать клятву жить заодин, начинают безобразный дележ отчины, полосуя ее в лоскуты.
А Москве повезло с самого изначала. Когда получил ее – совсем крохотный, самый крохотный тогда удел – младший сын Александра Невского (его еще и Великим, и Беспокойным, и Храбрым, и Справедливым называли) князь Даниил, то сумел сразу же внушить детям своим Юрию и Ивану привычку свято держаться заветов отцов, дружно жить друг с другом. И братья жили заодин, даже и в помыслах не держали дробления удела, а если и казалась им Москва тесноватой для двоих, то искали другие пути обретения личной воли – за счет присоединения и обживания новых земель. И у сына Данилова Ивана, Калитой за сугубую бережливость прозванного, дети в чести и согласии жили, хоть и недолго княжили – что Симеон Гордый, что Иван, дед Василия. За четыре поколения – ни единой братоубийственной распри, всегда старший в роде умел держать младших в братстве без обиды, не нашлось никого, кто пошел бы стезею Каина. И знать, не так-то это просто, коли никакому другому княжескому роду на Руси не удавалось и не удается.
Так тешил себя Василий, но не из праздности или гордынности: он, конечно, не мог предугадать, что станет после его смерти, но уже явственно видел: среди пятерых сыновей Дмитрия Донского, по крайней мере, один пошел не в род, а из рода, всегда он выламывался из семьи, вроде бы вместе со всеми братьями и сестрами был, когда касалось дело утаивания сладостей в пост, проказ и общих игрищ, да, вместе со всеми был, однако порой – как бы и наобочь, наособицу, как бы сам по себе. Может, потому так казалось, что он один в княжеской семье не любил кошек?.. Впрочем, кошки —. это вздор, просто был Юрик излишне всегда самолюбив и высокомерен. Может быть, поэтому это, что слыл он красавцем? Так, во всяком случае, считала мать, добавлявшая иногда: «Весь в отца обличьем, в Дмитрия Ивановича!» Мать любовалась им, но не была к нему нежнее, чем к другим, нет, это бы сразу почувствовали братья и взревновали бы. Тем еще выделялся Юрик среди братьев, что его желания были всегда очень определенными, резко выраженными, ум он имел насмешливый, а характер неуступчивый. В этом он был не в отца, а в мать, а вернее, в деда по материнской линии, в Дмитрия-Фому Константиновича, князя суздальско-новгородского, который дважды отбирал у малолетнего Дмитрия Ивановича великое княжение, а потом силой вырывал себе у младшего брата Бориса Нижний Новгород. На Куликовом поле его не видели, а Тохтамышу навстречу выслал в помощь двух сыновей да и сам потом якшался с шурином Тохтамыша послом Шиахматом. Не дай-то Бог, чтобы во всем Юрик был похож на этого своего деда!.. Василий искал пути незаметного пресечения честолюбивых устремлений Юрика, а порой прибегал и к жестокому давлению на него.
Юрик рвался поехать в Нижний Новгород, видя в этом легком походе возможность без трудов и риска утвердить себя в качестве правителя и военачальника.
Василий уязвил его.
– Говорил мне Тохтамыш, что на Востоке много любителей вытаскивать чужой каштан из огня. Но такие и у. нас есть.
– Не понимаю, брат.
– Объясню слушай. Побывал ты в Орде, серебро рассорил и вернулся с пустыми руками. Посылал я тебя в Нижний, чтобы силой приструнить его, отбить охоту за ярлыком таскаться, а ты забоялся. Пришлось мне к Тохтамышу на поклон ехать. Когда я добыл ярлык, и ты расхрабрился…
– Но ты же меня сам в Коломну вызвал?
– И в Коломну ты ехал, будто на собственные похороны.
– Не понимаю, брат.
– Не поспешал.
– Неправда! Я торопился. Просто задержался чуток а ты не дождался меня.
– Ладно, оставим которы. В Нижний я еду сам, а ты готовься идти на Верхний Новгород.
– Ратью?
– Да, воевать будешь.
– Один?
– С Владимиром Андреевичем.
– Спасибо брат! – Юрик порывисто поднялся с переметной скамьи, так что лавка хряпнула по бревенчатой струганой стене, – Мы с дядей укротим этих строптивцев, только войска нам побольше дай.
Василий отпустил брата и, оставшись в палате один, задумался. «Мы с дядей…» Да, они если не в сговоре то явно в дружбе и приязни… Что их соединяет? Может, обида на великого князя? Вот ведь: как мамка говаривала, кошка дуется, а хозяйке и невдомек… И кто из них закоперщик? Владимир Андреевич, наверное, как старший по возрасту.
Размышления Василия нарушил звон серебряного колокольца на входной двери. Он оглянулся – Юрик. Губы поджал куриной гузкой – в гневе, значит. Спрашивает гневливо, с вызовом:
– Брат, ты Янге из Орды бусы привез?
– А что?
– Сардовые?
– Да, а что?
– Нарочно такие – красные?
– Кизил не бывает другого цвета[90]90
Кизил – от латинского cornum; так называли на Руси камень сердолик, имевший еще и библейское наименование – сард (от названия столицы Ливии – Сардис).
[Закрыть].
– Бывает и желтый, я своими глазами видел! – Голос Юрика зазвенел уж почти что обвиняюще.
Василий, не вставая с кресла, произнес негромко, но выразительно:
– Я на выбор ей предложил бусы – сардовые и янтарные. От янтарных она отказалась. Заявила, что это слезы моря там, в Литве… Велела мне их Софье отдать, а сама красные взяла.
– Так даже! – Юрик ослезился голосом, ничего уже больше не смог вымолвить и вышел из палаты, горестно сугорбившись.
Василии Дмитриевич крепко задумался. Сознание того, что он, как государь, советы ближайших сподвижников слушая, решения должен принимать независимо, ибо ответственность прежде всего на нем, – это сознание уже основательно проросло в нем. Большая власть, высокое рождение поднимают человека над людьми, как бы прост он ни был по виду и поведению. Все знать, все предвидеть, любые начала и концы, истины и оговоры, наветы зла и ростки добра и правды – все должно сходиться в его державную думу. Больше и больше начинал он понимать, что власть княжеская не одне пиры да потехи, да беседы с людьми многодумными, многоведующими. Власть – это труд, наитруднейший, может быть, изо всех, и не всякий к такому труду способен. Он чувствовал, что научается уже этому труду, но чем глубже он проникал его, тем более понимал, что науке этой не кончаться всю жизнь. И как бы ни была велика власть, а и в ней есть окороты, почитай что, на каждом шагу. Того нельзя, того не можно, того опасно, того губительно, а этого совесть не велит да обычай. И стоит посреди всего этого великий князь, как цапля на болоте, на одной ноге: и туда не ступни, и сюда не следовает, и растуды не полагается!.. Как ни ворохнись, кого-нибудь обидишь, кого-нибудь заденешь. То Тохтамыша, то Ягайло, то родного братика Юрика, а то и собственную жену Софьюшку свет Витовтовну.
Велик ли проступок: бусы – боярыне? Ан, уже всполохнулось, пошло кругами. Почто, зачем, какие да не с умыслом ли, а если с умыслом, то с дальним или простым, ближним?
Сказать, что Василий был раздосадован, мало. Сказать, что разгневан, – повод невелик ко гневу. По пустякам государю гневаться не след – не в обычае и не в почете. Но сердит был и мрачен красивый лик его. Как посмел Юрик допрос ему этакий учинять? Как посмел неудовольствие и скорбь свою выказывать? Выходило, всем отчет великий князь давать должен, по любой малости. Это властитель-то московский?.. А еще и про пояс Вельяминов, будто бы подмененный на отцовой свадьбе, сведала Софья: откуда? Ни Трава, ни Свибл, никто из Вельяминовых слова не проронит – в этом уверен был Василий, но тем беспокойнее было ему: значит, кто-то такой в княжеском окружении есть, чьи помыслы и поступки от него скрыты… Рука стиснула железный поставец без свечи. Помедлив чуть, князь впечатал его с грохотом в стену. Сей же момент разлетелся по палатам соседним шепот многочисленных слуг. Но у дверей стихли: войти без вызова не посмели.
2
Во все прирезанные к Московскому княжеству новые города требовалось теперь определить надежных наместников, которые должны строго блюсти интересы великого князя, быть его послами и воеводами.
Двоих Василию удалось подобрать сразу: Григория Владимировича и Ивана Лихоря. Правда, и они немало поколебались, прежде чем согласились покинуть Москву. Большинство крепких бояр, связанных с обретенными их предками и ими самими увеличенными владениями – земляными с поселениями и разной рухлядью, меняло стольный град на украйну неохотно. Москва всегда была удивительно притягательна в равной мере и для русичей южных земель, и для выходцев из-за рубежа.
Знатный черниговский боярин Родион Нестерович, родоначальник бояр Квашниных, приехал в Москву со всем своим двором из тысячи семисот человек. Ехали бояре с семьями, челядью, дворовыми, слугами, дружинниками из Ростова, Мурома, Киева, Волыни – из многих и разных городов. Уже при Дмитрии Донском образовалось больше тридцати родов московских бояр – Бутурлины, Вельяминовы-Зерновы, Годуновы, Захарьины-Кошкины, Всеволжские, Заболотские, Карповы, Кутузовы и прочие. У Василия нашли приют многие новые люди, иные из них, как те же Юрий Патрикеевич, внук Наримантов, Иван Кошкин, Максим Верный, уже и заехали старых бояр, к их вящему негодованию.
Наместников Василий подбирал из обиженных либо разорившихся от каких-либо напастей бояр. Кто-то мог прельститься новой возможностью раз-богатеть, кого-то бы могло удоволить сознание, что он являет собой высший сан пусть местного, но правителя.
Более других приглянулся Василию боярин Владимир Данилович Красный-Снабдя, который сказал вполне прямодушно:
– Державной корысти ради заступлю, а потом, если дозволишь, в любезную Москву вернусь. Хоть через год, хоть через два…
Был Владимир Данилович из себя ничем не примечателен, так что спервоначалу и не понять было, за что его Красным прозвали. Прозвание такое получали всегда люди баские, рожаистые, как, к примеру, Васильев дед – Иван Второй. Но видно, ценят люди не только пригожесть – и за похвальные душевные порывы уважительно именуют Красным, как Владимира Даниловича.
Снабдя не был родовитым боярином, не имел вотчины – от отца перешедшей собственности, а входил в число детей боярских: землей владел условно – ни продать, ни наследникам завещать, ни на помин души в монастырь передать. Конечно, положение как бы не совсем устойчивое, однако же вольный человек, не холоп, каким был недавно совсем сам, как и отец и дед его были. Теперь при усердии и верной службе князю многим явилась возможность очень даже просто выбиться в люди наибольшие.
Старания и трудолюбия Снабде было не занимать стать, и, начав с малого клочка земли, скоро стал он держателем большого хозяйства. А еще считал он, что ему в жизни спорит, хотя склонен был подчас считать за везение собственную расторопность. Но как бы то ни было, сколько лихих годов ни пронеслось, сколько пожарищ, моров, набегов ни пришлось перенести, – удивительное дело – село его не пострадало ни разу! Незыблемо стояли даже самые первые курные избы и та первая, что стала когда-то его займищем на дикой земле, и те еще две, что подсоединились и сделали его владельцем починка, стоят как прежде, только чуть в землю закопались завалинками. Стал расти починок, в деревню превращаться: побежали вдоль по бережку реки Пресни уже избы и белые с трубами, а при них амбары, забои для скота, житницы, погреба, поварни, гумна, сенники, конюшни, птичники и мыльни, здесь же и дворы с одринами, где складывались плуги, сохи, косы. Скоро уж больше десяти челядинных дворов стало насчитываться, церковь возвеличалась на холме среди крестов – стал Снабдя владельцем сельца, которое выросло нынче в преизрядное село, такое, каким князю самому не зазорно владеть. И народ у него разный стал жить: вслед за холопами, крестьянами, сиротами, старожильцами стали поселяться и доверенные люди – тиуны, рядовичи, приказчики, конюхи.
Хоромы себе он поставил трехжильные: два круглогодичных жилья и верхняя еще, горняя надстройка – летняя. Но не избы, горницы, повалуши и сенники, из которых состояли хоромы, не богато изукрашенные всходни-крыльца с кувшинообразными стояками и остроконечными, кровлями, не изукрашенные резьбой ворота большого двора, посреди которого и стояло, по русскому обыкновению, жилье, а дорога, ведшая к владельцу, прежде всего говорила о том, что хозяин тут радетельный, мощеная, с канавками по бокам, чистая и в дождь и в снег.
«У меня таких в Кремле нет», – с завистью подумал Василий, но вместе и утвердился в правильности своего выбора: таким и должен быть великокняжеский наместник. А еще похвалил себя за решение самолично навестить Снабдю, а не затребовать его к себе во дворец.
Когда приехал без предупреждения великий князь Снабдя сидел в горнице, читал Псалтирь На нем была обычная исподняя одежда для дома узкий короткий, до колен, зипун из белой тафты Услышав цоканье копыт на мостовой, одел на себя кафтан, длинный, до икр, с длинными же, в складках, рукавами. А когда понял, кто приехал, то и третью одежду накинул на себя – широкую в плечах ферязь.
– Богато живешь! – произнес будто бы с упреком Василий, и Снабдя не знал, как расценить это, припал на колено перед высоким гостем. А тот наметанным взглядом схватил и то, как одет боярский сын: разглядел сразу, что зипун не из крашенины, а из привозного атласа и с воротником, разукрашенным обнизьем – шитым жемчугом, что и кафтан сшит не до пят, дабы видеть все могли раззолоченные сапоги, что ферязь не абы каким мехом подбита – куньим.
– Вот почему тебя Красным прозвали – наряжаться любишь! – В голосе великого князя прослушивалась лишь добродушная усмешка, и Снабдя поднялся с колена, ответил с большой серьезностью:
– Ко мне такое рекло присмолилось, когда я на рать с Дмитрием Ивановичем собирался. Кольчугу-то все одевали поверх рубахи да козлиной кожи, а я, отрок неразумный, прямо на голое тело. Ну и стал красным, как рак, кипятком обваренный.
– Э-э нет, боярин, знаю я, за что Красным тебя сотоварищи прозвали: как перешли Дон, стали исполчаться для битвы с Мамайкой, ты ту кольчугу Максиму отдал.
Тут только заметил Снабдя скрывавшегося за спиной великого князя боярина Максима, смутился и покраснел – верно, что как ошпаренный кипятком рак. Объяснил спотыкающимся голосом:
– Дэк… это, великий князь, мой побратан – Максим-то твой. Мы с ним тогда крестами нательными поменялись… Братом крестным он мне сделался, все одно что одноутробным… – Но видно, самого Снабдю объяснение не удовлетворило, побоялся, видно, что в хвальбе его могут заподозрить. Он помолчал в задумчивости, мотнул головой и продолжал уже голосом твердым, словно бы встряхнувшись в душе, набравшись решимости: – Дэк, бывает же и так: живут как братья, а считаются как жиды, особенно если ангел смерти поблизости начнет летать, как тогда… Просто тяжела и велика мне была та кольчуга, скажи, Максим?
– Да, – подтвердил его побратим, – тебе ведь тогда пятнадцатое лето шло, тела ты еще не набрал, а я постарше.
– Дэк, и покрупнее ты от роду, помогутнее.
Снабдя проводил гостей с красного крыльца через повалушу и сенник на заднее, которое тоже было крытым и с резными подпорками.
– Крепко живешь! – снова похвалил Василий, оглядывая двор с дворищем, гуменник с пожнями, скотные клети и хлебные амбары.
– С умом собину нажить, а без ума – растерять, – вставил Максим.
– Собинка моя славна, это так, да собник-то я плохой, середка на половинку…
– Будешь полным хозяином своей собины, коль послужишь мне, – подвел великий князь к цели своего приезда и сказал, что Максим, вернувшись вчера из Нижнего, посоветовал именно Снабдю назначить туда наместником.
– Конечно, свое прироженье нельзя вести к порухе, – несколько неопределенно ответил боярин, то ли свою собственную собину имея в виду, то ли Нижегородское княжество, сроднившееся теперь с Московским.
– Сейчас ты дитя боярское, – стал увещевать Максим, испугавшись, что побратан его откажется от великокняжеской чести, – а там сразу станешь человеком знаемым.
– Это так, – понятливо согласился Снабдя, – Жила у меня в селе бабка, никому не ведомая, мало кто и прозвание-то ее знал. Ушла она два года назад в лес по ягоды, по сей день ходит. И по сей день говорят о ней: вспоминают, какая она, по имени-отечеству величают…
– Верно заключаешь, Владимир Данилович, дело я тебе предлагаю небезопасное, однако верю, что не сгинешь, как та бабка. По рукам, что ли?
– По рукам, великий князь! Будем хранить-снабдевать отчину деда твоего.
– Снабдевать?.. Вот, значит, откуда твое второе прозвание?
– Нет, просто я больше всех в своем доме молитв помнил, дедушка меня за это любил и Снабдей называл.
– Ну да, значит: снабжен ты от Бога разумом, так? – заключил весело Максим.
Все трое рассмеялись, довольные ладным окончанием разговора. А затем нашлись в погребах боярина хлебное вино, пенная брага, сыченые меда – закрепили сговор недолгим, но утешным застольем, благо был еще только канун заговенья.
Домочадцы Снабдины оказались гораздыми песни играть – без гусельников, без волынщиков, только складным подыманием голосов.
Стоят санки у лесенки,—
повел неторопливо начинщик, его поддержал тейнер:
Хотят санки уехати.
А тут и другие голоса стали подмазываться:
Ладу, ладу,
Кому мы поем,
Тому честь воздаем.
Стоят санки
Сонаряжены.
Слава!
И стали затем певцы казать, что уж и подушечки на санках раскладены, что уж к лесу хотят саночки покатиться и что сбудется хозяину все, неминуется, что будет добро всем, кому эта песня поется.
Василий сидел на скамье, покрытой шкурой медведя. Потрогал волос – мягок значит, молодой был зверь. Спросил хозяина:
– Сам добыл?
– С рогатиной хаживал…
– В Заволжье леса дикие, будет тебе потеха.
– И тебя, великий князь, позову, только.
– Что «только»?
– Только дозволишь ли мне опосля когда пора приспеет, в любезную Москву возвратиться?
И сразу в избе – тихий ангел пролетел: не один Снабдя ответа ждал.
– Я же сказал, что земля эта с селом твоей отчиной станет, как послужишь мне.
И тут шумно, многогласно и ликующе, будто плотина под напором вешней воды обрушилась, потекла-понеслась песня:
Перекину дугу
На чужую сторону,
Оставайся, хомут,
На своей стороне —
запевала вел, а тейнер вился поверху, к ним подмазывались, как голубки, другие певцы, хорошо свое место и свою роль знающие:
Кому поем,
Тому добром!
Кому выйдется,
Тому лучше всего!
Пока обедали, погода на дворе испортилась, пошел проливной дождь.
– Вот ведь называют октябрь грязником, но и ноябрь нынешний недалеко от него ушел, и не знаешь, на чем выезжать – на колесах ли, на санном ли полозе, – задумался Снабдя, явно желая проведать, когда великий князь думает в путь отправляться. Василий понял его, ответил:
– Поедем на Матфея, на другой день после начала поста.
Снабдя согласно кивнул головой, прикинув: Рождественский пост начинается через три дня, есть время в дорогу собраться, хозяйские распоряжения на время долгой отлучки сделать.
3
Заявился Тебриз.
– Многолюдство пойманное неименитое бьет челом господарю великому князю Василию Дмитриевичу, желая отдаться в волю его.
– Что за «многолюдство» такое?
– Андрей-богомаз с Пыской навыкупляли в Судаке русских пленников – кои рязанские, кои тверские. Есть и из Великого Новгорода, да и московлян помалу.
– На какие же деньги они выкуплены? Те, что я им в долг давал на отработку, они при мне истратили, остались скудные средства для поездки на Афон.
– К тамошнему епископу подрядились мечеть православную, сиречь церкву, расписывать.
Василий верил и не верил. Рублев дал зарок не писать ликов, не заниматься стенной росписью до возвращения в Москву, да и то добавил: «Если Господь вразумит». Что же, Господь его до срока вразумил?
– Епископу зарез изограф нужен был, старый в одночасье на тот свет отошел, а церква готовешенька стоит, – объяснял Тебриз.
– Так он же запрет на себя наложил?
– A-а, – понял Тебриз. – Верно, он сам зарок давал и Пыске наказывал, но, как услышал опять вой, да плач, да русские молитвы на невольничьем рынке, готов был собственную голову резоимцу заложить.
– Та-а-ак… Голову его в заклад никто не возьмет, а писем заемных не давал он?
– Давал, давал, как же! Видишь, сколько их одной церквой рази укупишь? Твоим именем епископу божился, тот снабдил деньгами разными.
Василий не шибко обрадовался услышанному но успокоил себя тем, что теперь сможет заставить Андрея несколько лет кряду работать в Москве – теперь уж ни Юрику, ни Серпуховскому не удастся его сманить. Да и «многолюдье» было, в общем-то, кстати; можно если не всех, то хоть часть некую вместе с подготовленными уже переселенцами послать на обживание новых мест на Волге.
Так и получилось: часть возвращенных из плена русичей решила пойти на волжские земли, иные бывшие ратники вступили в великокняжескую боевую дружину, остальные пожелали жить в Москве, хотя и были выходцами из разных земель. И в этом не было ничего удивительного. Так, в 1377 году, после того как ордынский царевич Арапша в союзе с мордвой жестоко разорил Нижний Новгород, большая часть его населения не захотела оставаться на Волге и переселилась в Москву. Постепенно город сам по себе уж стал все больше походить на объединение многих княжеств – на левом берегу реки Москвы, за Кремлем и Посадом появились и все разрастались, увеличивались слободы Тверская, Серпуховская, Ордынская, Смоленская, Новгородская, Дмитровская, Калужская[91]91
Как память о тех слободах, получавших названия по направлениям дорог, сохранились поныне в Москве улицы с соответствующими названиями; некоторые, впрочем, позднее были переименованы.
[Закрыть]. Названия эти дали поселившиеся здесь пришлые люди в память о своих родных местах, но столь скоро стали чувствовать себя уж коренными москвичами, что начали выражать недовольство тем, что великий князь не обо роняет их от набегов татар и литовцев. Потому-то и начато было возведение земляного вала со рвом, чтобы оградить слободы[92]92
Об этом вале со рвом служит ныне памятью часть бульварного кольца от Кропоткинских ворот до Сретенских.
[Закрыть].
Малое время спустя выяснилось, что купленные Андреем пленники – это лишь половина всех прибывших из Таврии.
– Фрязин еще тебе привез столько же, – сообщил Тебриз с какой-то отравленной ухмылкой.
– Кто такой?
– Перекупщик рабов. Прослышал, что тебе люди нужны, вот и пригнал.
Лицо иноземного купца в короткополой одежде показалось Василию знакомым, спросил на пробу:
– Бывал раньше в Москве?
– Бывал! – радостно осклабился купец, полагая, что это обстоятельство пойдет ему на руку.
– Что за товар привез?
– Из Москвы в Таврию вожу соль, рухлядь мягкую, кожи, солонину, меда, пшеницу, а оттуда тебе нужные товары…
– А нынче что за промысел у тебя? Живым товаром, я слышал, промышляешь?
– Так, государь. Раньше я арабов да турков покупал в Кафе и возил их за море. Родичи и хозяева брали у меня их, не обижали – возмещали всю потраву, ну и за рвение малую добавку.
– А я, полагаешь ты, прихожусь «родичем» всем этим «князьям»?
Фрязин был человеком предприимчивым, оборотистым, но не умным. А когда попадал в незнакомые условия, то вовсе дураком выступал. Вот и сейчас. Не чуя беды, подхихикнул:
– Коль худ князь, так в грязь! Так ваши новгородцы говорят.
Упоминание новгородцев было вовсе не к месту да не ко времени, хотя того, что великий князь собирался идти ратью на них, только что прибывший в Москву фрязин знать, конечно, не мог:
– Довольно! – рассердился Василий. – Веди сюда своих «князей».
Фрязин заподозрил, что почему-то гневает своими словами государя, заторопился с объяснениями:
– Холопы вперемежку с хрестьянами… В Кафе всех пленных русских мужиков зовут паробками, а баб – девками.
Василий велел Максиму вести расспросы людей, а сам сидел в сторонке, вдумчиво слушал, изредка сам ронял словцо.
Первым подошел к красному крыльцу великокняжеского дворца высокий, статный паробок. Глядел перед собой прямо, безбоязненно, на ходу хрустел сочным, спелым яблоком.
– Оголодал, что ли? – спросил Максим.
– Не то чтобы… Уж больно наше московское яблочко сладко, особенно с морозца.
– Москвич, значит?.. Чей же холоп был? Как невольником стал? Прозывать как? Который год от роду?
Паробок перестал хрустеть, зажал в кулаке огрызок.
– Двадцать другой год мне идет… Митя Кожух я, холоп Якова Петелина, утятником был у него.
Василий знал богатого переяславского вотчинника Петелина, велел:
– Отправить боярину.
– Не надо, великий князь! – пал на колени и стукнулся лбом о землю Митя Кожух. И фрязин заволновался, но Максим урезонил обоих:
– По уговору между князьями и боярами на Руси кто купил полонянина, тот берет цену по целованию, а из своего плена отпускает без откупа.
Митя Кожух, не вставая с земли, снова попросил:
– Не надо, великий князь! Сын Петелина Иван Хлам продал меня вот ему, купцу этому…
– Как так? – обернулся Василий к фрязину. – Стало быть, ты его второй раз продаешь, а может, потом еще и у меня купишь?
Фрязин заметался взглядом, не зная, у кого поддержку найти и что в оправдание сказать. Ничего не нашел умнее, как вытаращить бесстыжие глаза и рассудить:
– Раб, оставшийся без господина, торопится найти себе нового повелителя, на то он и раб. А я ему споспешествую.
– Довольно! – оборвал в нетерпении фрязина великий князь и повернулся к Ивану Кошкину: – Разберись!
Следующий паробок тоже отказался возвращаться к своему бывшему владельцу, но по другой причине:
– Беглый я. Сотом меня звать, потому как всю жизнь в бортниках. В Ярославле жил, взял у резоимца рубль один на год, обязался платить рост по расчету, как идет на пять шестой[93]93
Ростовщик (резоимец) дал Соту рубль под проценты (рост) из расчета 20 копеек (на пять шестой) в год.
[Закрыть]. А тут пожар в нашем лесу случился от молоньи, все мои бортные знаки погорели, не достал я меду. Деньги по росту легли, опять на пять шестой пошло, уже задолжал я ему целых два рубля. Попросил я резоимца возместить долг изделием моим…
– А он что? – Максим проникся участием. – Не согласился?
– Согласился. Похотел, чтобы я у него во дворе холопствовал. Куда деваться, одел я ярмо его, а потом гляжу – чем больше гнусь, тем сильнее в кабалу залезаю. Взял и убег. Сначала за Волгу, потом через Камень[94]94
Камень – Уральские горы.
[Закрыть] в степь, попал за рубеж да и угодил из огня в полымя… Спасибо вот добрый человек вызволил.
Недолгая тишина установилась. Василий задумался, как поступить. Несвободные люди, бежавшие в другие княжества, должны непременно выдаваться прежнему хозяину за твердое вознаграждение – два рубля. Услышав об этом, Сот тоже повалился к ногам великого князя.
Василий подозвал дьяка Ачкасова:
– Зачти, Тимофей.
Дьяк достал нужный пергаментный свиток, развернул его и огласил:
– «Холопа, раба, татя, разбойника, душегубца выдавать по исправе…»
– Как – «душегубца»?! – перепугался Сот.
– Значит, так же, как душегубец, должен быть передан в Ярославль.
– Но я же пять лет в бегах!
Ачкасов бесстрастно объяснил:
– «Холопу и рабу суд от века».
– «От века»? Бессрочный, значит?
– Да, кто холопом родился, тот холопом и умрет, если долгов заплатить не умеет, – объяснил Максим, а Василий знак рукой сделал: «Разобраться!»
Сот отошел в сторону, встал рядом с Кожухом, а Иван Кошка успел подмигнуть ему: «Не робей!»
– Я полный челядин, – начал рассказ следующий пленник, – и жена моя полница, и сын с нами. Вся холонья семья наша беглая, потому как…
– Довольно! – Максим повторил слово великого князя, но только голосом увещевательным, а не жестким. – Беглые возвращаются хозяину по два рубля за голову.
– Как «два», как «два»? Я за эту семью восемь рублей заплатил, да потрава какая еще, – всполошился фрязин. Но тут же два стражника по знаку Максима негрубо, но властно взяли его с двух сторон за рукава шелкового, расшитого золотом халата. Теперь только окончательно осознал он, что понимает далеко не все из происходящего.
Василий усмехнулся.
– Не умирай раньше времени, фрязин Сколько же ты за других платил на невольничьем рынке?
– Вот за этого холопа с женой три рубля… А этого холопа тоже с женой – за пять… Цены все уреченные, как сговорился, так и платил…
Покончили с беглыми, начали пытать всех остальных холопов, людей потяглых, несвободных. Были среди них приданные, купленные, были играмотные, перешедшие к другому владельцу по писаной грамоте. Но попался один холоп-вотчинник, бывший слуга боярский, отпущенный и вознагражденный за верную службу. Были среди холопов бортники, садовники, псари, рыболовы, повара, хлебники – умелый, к труду приученный, нужный в княжестве народ. Лишь один попался изжившийся, ветхий денми, на вопрос, какой нынче день, ответил:
– Не знаю.
– А месяц?
– Кто же его знает…
– Ну, а год-то хоть какой?
– Должно… Нет, не знаю.
Видно, остановилось для него время, не ведет он ему счета. Однако же не все на свете перезабыл. Когда Максим сказал, какой год от сотворения мира идет сейчас, озарился:
– Значит, сто лет нам жить осталось!
Дошел черед до крестьян. Это были люди вольные, платившие князьям, боярам или монастырям натуральный оброк. Они и держали себя иначе, не суетно, говорили рассудливо, обстоятельно.
– Ельцовские мы, – рассказывал Огонь Посельский. – Трудная жизнь на порубежье. Монахи и те утекли в дальние леса. Да и то бывало: отдыхает чернец после утрени, вдруг будит его страшный вой – то татары обитель божью грабят. А страдному хрестьянину вовсе невмочь. Выедет пахать – невесть откуда хищные степняки налетят, того и гляди, оратая самого убьют. А не убьют, так вот, как нас, в полон заберут… Увезли татары сначала в свои вежи, потом в Кафу… были вольные хлебопашцы, ржу сеяли, три поля держали, да вот рабами изделались.
Судьбы других страдных крестьян были схожими, только один – Яков Черт – бедолагой оказался, не зря, знать, такое прозвание получил. По его словам, стал он сошлым крестьянином из-за того, что вынужден был сойти с земли стародомной, плохо уже родившей. Задолжал оброк боярину, по нечаянности (по его же словам) татем стал. За это из крестьян вольных определили его в холопы, а за повторное воровство (опять нечаянное!) уж и в неволю продали.