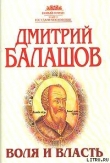Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
– Страшно, страшно умирать.
– Страшно жить, а не умирать. Что смерть? Это служанка наша и рабыня.
– Умру я сейчас, брат…
– Умрешь, но так, чтобы ввек живым остаться.
Игумен проводил Тебриза в тесную келью, а сам пошел к умирающему. Через открытые двери покоев доходило до Тебриза певучее увещевание старого игумена:
– Господь Бог – наша защита, и покуда будем на земле, будем прилежно строить храм державного Господа, со страхом Божиим памятуя о смерти, но не мечтая победить ее слабыми своими силами. Брат! Знаю по себе, что всякий человек в долгие ночи перед ликом Спасителя искушался горделивыми помыслами о победе над смертью, но всяк, по себе же знаю, смирялся. Все мы смиряемся перед неведомым и неизбежным. Придем к алтарю со словами покорства, все мы – рабы Господа Бога нашего…
Только сейчас понял Тебриз, как истомился он за время погони. Чувствовал, что в обители уже витает дух смерти и тлена, пытался слушать заупокойные молитвы игумена, но глаза смежались против воли его, и, сам не заметив как, он крепко уснул.
Очнулся, когда слюдяное окно кельи было уж синим. Выскочил во двор и сразу почувствовал что-то неладное. Ворота были распахнуты, игумен стоял сугорбившись, печальный.
– Что стряслось, отче?
– Уехал, не поклонившись…
– Верхом?.. На лошади?.. Этот, с серьгой?
– Нет. Тот, что с серьгой, переступил последнюю земную черту и навсегда оставил юдольную сию обитель.
– Когда он… оставил? Сейчас вот?
– Да нет, он одубел уже… Земля мерзлая, поможешь ли могилку отрыть?
– Поспешаю я… – заметался взглядом Тебриз, но тут же укрепился в намерении своими глазами увидеть, что задубел именно Маматхозя, а не кто-то иной. – Но, конечно, предать надо грешное тело земле.
Убедился: это Маматхозя отошел от сего света. И то еще ему стало несомненно, что рассчитаться с жизнью Маматхозе кто-то помог. Вот так бывает: скрадывает хитрый лис зайчонка, уж готов его сцапать острыми зубами, как вдруг неведомо откуда с высоты упал камнем сокол, и уж трепещет в цепких когтях его листопадник, а лису только и осталось, что бессильно гавкнуть вдогон да униженно опустить свою трубу, которую только что он готов был победно вскинуть вверх.
Чтобы хоть какую-то пользу-выгоду извлечь из похорон, Тебриз незаметно для монастырской братии выдернул из уха покойника золотую серьгу полумесяцем, которая теперь одна уж может быть неоспоримым подтверждением того, что никого уж Маматхозя не сможет обозвать донгузом.
Тебриз принес своей заиндевевшей во время неподвижного стояния на морозе лошади охапку сена, которую надергал из монастырского стога, скормил и округу хлеба. Стряхнул рукавицей иней со спины лошади, обсвистал, потрепал ласково гриву. Лошадь благодарно фыркала, косила на него свой агатовый глаз.
Оставшийся до Нижнего Новгорода отрезок пути он проделал еще более спешно, чем в прошлые дни. А куда торопился, зачем – не мог бы сказать и сам. Когда сослеживал Маматхозю, был он трезво-спокоен, действовал обдуманно и четко, а теперь, когда все, казалось бы, позади, пребывал в трех волнениях.
И в Нижнем Новгороде не мог обрести покоя. Оставив лошадь на постоялом дворе, что в овраге неподалеку от церкви Жен-мироносиц, побрел бесцельно в Верхний посад, а из него к кремлю. Увидев, что мосты надо рвами подняты, кремлевские ворота запущены железными решетками, а мытная изба возле Дмитровской башни заперта на замок, понял, что замерла в городе жизнь в ожидании каких-то важных событий.
Не решаясь сменить одежду, ходил в ненавистной черной рясе, плутал в улицах и межулках, которые тут то сужались, то расширялись, меняя свое направление, оканчиваясь тупиком. Удивился, что прямо возле кремля большущий пруд устроен, а в нем несколько дымящихся паром прорубей. Спросил у торговца харчем, зачем выкопали пруд, когда радом такие большие реки. Тот в свою очередь удивился, не подозревая под монашеским одеянием степняка, однако все ответил:
– На случай греховного пожарного времени.
Поднявшись на откос волжского берега, услышал вдруг над головой грай ворона, вскинул голову, залюбовавшись тем, как две крупные черные птицы кружили и кувыркались высоко над рекой. Подивился: в суровую зиму ворон не только не отлетает в теплые края, но играючи переносит стужу, тогда как воробьи коченеют на лету и падают замертво на снег, а ошалевшие галки лезут прямо в дымящиеся трубы изб. И подумалось Тебризу, что, сравнивая монахов с воронами, не прав он был в своей нелюбви к ним. Вспомнил, что в том монастыре, где нашел свой последний приют Маматхозя, иноки все сильные, рослые, говорят языком ясным и немного певучим, а лица у всех простые и чистые. А решают эти люди заточить себя в монастырь, наверное, в том состоянии, когда вдруг не знают, вот как сейчас Тебриз, что делать им, на что употребить свою силу…
Тебриз снова посмотрел на воронов, позавидовал их свободе и понял: нет, он не такой, как они, он не имеет своей воли, его жизнь в руках господина, которому он служит. И он понял, что делать ему сейчас: искать великого князя Василия Дмитриевича, чтобы получить новое задание и опять стать деятельным, ловким, грозным.
4
Василий Дмитриевич в этот момент тоже засмотрелся, как хороводились в стылом синем воздухе могучие вороны. Поначалу, услышав их крики, он подумал с удивлением, что это гуси. А когда понял, что обманулся, что кричат победно, будто весенние гуменники да белолобики, вещие вороны, вспомнил: говорил Боброк, будто живут они по триста и больше лет, а если так, то видеть могли эти птицы не только отца, но и прадеда Калиту, но и Невского и даже ведь – самого Мономаха!..
«Чур меня, чур!» – мысленно обратился он к своим пращурам и уже увереннее ступил на крыльцо княжеского дворца, где встречал его Борис Константинович в окружении своих бояр.
Нетрудно было представить себе, сколь нетерпеливо и беспокойно ждал Борис Константинович прихода великого князя московского с ярлыком на его владения. Но и гнев его, с трудом сдерживаемый, представить легко.
Боярин Максим, действовавший от имени великого князя, и царевич Улан, исполняющий приказ хана Орды, ничего не смогли поделать с упрямым нижегородским князем – ни убедить, ни застращать не сумели. Признались:
– Надо тебе самому, государь, приневолить его, только в твоей это воле.
И Киприан, всегда такой самоуверенный и чванливый, в беспомощности своей признался, что тоже на одного лишь великого князя уповает.
Весомость своего слова Василий успел осознать. Помнится, очень удивился, когда окольничий Вельяминов доложил: «Нашли Бутурлю». А Василий вовсе и не думал его отыскивать, просто так обмолвился, к слову пришлось. О Маматхозе лишь намекнул, а Максим днесь уж сообщает: «Примчался из монастыря садовник Антиох, сказывает, что Мисаил наш, не успев пострижения принять, дуба дал…»
Но то говорил он верным боярам своим, а ныне перед ним супротивник. Каким словом воздействовать на него? Василий понимал, что не может обмануть надежд Киприана, Максима, Улана и всех других своих людей, которые верят сейчас лишь в него одного, лишь в его державную руку. И казалось ему великим срамом как-то нечаянно обнаружить и свои собственные сомнения, неуверенность, слабость.
Поодаль от Бориса Константиновича стояли его супруга Мария Ольгердовна и сыновья Данила и Иван, по прозванию Тугой Лук, тот самый Иван, которому в Орде Василий в мальчишеской драке выбил зуб. Вспомнив ту свою победу над ним, а также и то, каким простофилей выказал себя Иван в Москве, когда приезжал на посажение, Василий внутренне приободрился и уж на самого грозного Бориса Константиновича посмотрел смело, самовластно. И тот сразу уловил перемену в его взгляде. Начальные слова у него давно уж были обдуманы и приготовлены, но высказывать их он не торопился, ждал, как поведет себя юный московский князь. Он понимал слишком хорошо, что гроза над ним собралась неотвратимая, а выжидательная политика была единственная пока для него возможная. Главное же решение его было такое: что бы ни произошло, не дать унизить себя! Оттого, может быть, он излишне грубо повел себя с первого шага.
– Видишь ли, кто пришел к тебе, сын мой! – вкрадчиво спросил его Киприан, выступая вперед со своим благословением.
Борис Константинович склонился к руке святителя, а затем встал, широко расставив ноги и запустив персты рук за золотой пояс. Ответил без намека на почтительность:
– Глаза у меня не бельмы, вижу!
– И ярлык, однако, видел? – Это уж царевич Улан подошел сбоку. А с другого бока подступил Максим, который в ответ на признание Бориса Константиновича о том, что и ярлык он видел, спросил уж очень требовательно, почти нагло:
– А когда так, почему не пришел к великому князю всея Руси челом бить?!
Борис Константинович против воли своей оробел, не готов был к тому, что разговор столь жестоко начнется. Однако, оглянувшись на бояр своих, на жену да сыновей, на челядь и домочадцев, таившихся в дальнем конце палаты, овладел собой и вымолвил не совсем в пору загодя заготовленные слова:
– Я ничего не боюсь!
– Совсем ничего? – это уж Василий Дмитриевич вступил в разговор.
– Совсем ничего! – с отчаянной решимостью подтвердил Борис Константинович. – Ни мора, ни огня, ни меча, ни ярлыка твоего, ни тебя самого, со всей твоей дружиной. Ни-че-го!
– А геенны огненной? – снова вкрадчивый голос свой подал Киприан, который решил как можно явственнее выразить свое единомыслие с Василием Дмитриевичем, чтобы склонить его потом к себе в помощники, – Суда страшного тоже не боишься?
Борис Константинович смотрел на митрополита озадаченно, молчал довольно долго. Нашел все же ловкий ответ:
– Божьего суда, владыка, – да, боюсь. А потому ничего противохристианского не совершаю… Ничего противосовестного, – при этом он укоризненно посмотрел на Василия, – Должен бить челом я ведь не кому-нибудь, а ярлыку?
– Да, верховному решению султана Золотой Орды и великого князя всея Руси не смеет противиться никто, разве что одно правосудие Божие.
– А вы, стало быть, решили помочь ему?
– Кому?
– Да правосудию-то Божьему.
Дерзок был Борис Константинович. На пришлых враждебных людей хотелось ему произвести впечатление сильного человека.
– Москву промысел Божий предназначил быть истинным сердцем не токмо Руси, но всего православного мира, – Киприан возвысил голос, – А ты противишься, двоить хочешь Русь, сам за ярлыком волочишься, хоть и противно тебе поклониться ему, когда не в твоих он руках.
– Эт-то так, не раз добивался я ярлыка, да отходил с убытком, – сокрушенно согласился Борис Константинович. И понял: видно, чтобы производить впечатление сильного человека, надо быть действительно сильным. Подошел с видом большого доверия к Василию. – Я боролся с ветром, шел против течения, но когда и ветер и течение на меня одного, то сдаюсь, бью челом, о милости прошу.
Царевич Улан, обрадованный искомым окончанием разговора, решил вмешаться, сказать свое веское слово. Был он юн, красив и осанист, да, на беду, не шибко умом силен.
– Понял все же ты, канязь, что так уже ведется: имеющий сто овец обязательно отнимет последнюю у имевшего одну овцу! – сказал с издевательской ухмылкой, и, может быть, не столько слова, сколько эта ухмылка вызвала новый прилив гнева у Бориса Константиновича. Взволновались и его бояре, которые до этого либо вовсе молчали, либо высказывались очень кратко и так, что от их слов пользы немногим больше было, чем от молчания. Впрочем, и теперь их суждения были вполне бестолковыми, Борис Константинович первым понял это, пресек несогласный шум, взмыв над головой десницу.
– Не мыслю я, что так можно мыслить князьям русским, – он вдруг совсем потерялся, стал говорить косно и многословно, – да и никто, я мыслю, так не мыслит, ибо невозможно так мыслить, – Сам чувствуя, что никак не может выбраться из пустых словес, умолк, собрался с мыслями, закончил вполне вразумительно: – Давай, Василий Дмитриевич, поговорим с тобой с глазу на глаз, не на таком вече.
Василий вглядывался в лицо Бориса Константиновича, пытался понять: притворство?.. Вроде бы нет: в глазах ни излишнего беспокойства, ни настороженности, ни скрытой враждебности, ни тайных помыслов.
5
Разговором с глазу на глаз был совместный обед у боярина Василия Румянцева. К нему, конечно, загодя готовились, только неизвестно, ради какого князя так расстарался нижегородский боярин, кому угодить хотел – прежнему своему господину или же будущему.
Обед можно было бы и пиром назвать, столь пышен и торжествен он был. Пиром на Руси веселились, пиром тешились, отмечали победы, семейные события – рождения, крещения, погребения, поминовения усопших, именины, новоселья; пиры непременно давались по случаю Пасхи, Рождества Христова, Троицы, Николина дня, Петра и Павла; устраивались пиры и при встрече знатных гостей хозяевами, желающими поддержать доброе о себе мнение. Вот и Василий Румянцев, хозяин дома, поддержал его, учинил обед силен, хотя повод для него был отнюдь не праздничный, да и шел на дворе тридцать седьмой день Рождественского поста.
Когда Киприан с архиепископом Евфросином, Василий Дмитриевич и Борис Константинович с ближними своими боярами, а с ними и царевич Улан заходили в дом Румянцева, из дальних покоев до них донеслись ребячьи голоса, дружно скандовавшие:
Завтра встанем,
Завтра скажем:
«Завтра праздник!»
Нетрудно заключить было из этого, что чада и домочадцы боярина строго блюли пост, нетерпеливо ждали разговения.
Василий Румянцев чувствовал себя несколько смущенно, приглашая к трапезному столу, уставленному яствами да медами с пивом.
Борис Константинович с новообретенным самообладанием пошутил:
– Постится весь дом, а старики сочельничают.
Киприан придирчиво осмотрел брашно стола, разрешил:
– Все сие разрешается в количестве умеренном. Скорома нет, а икорка…
– Добывается из холоднокровных тварей Божиих, а сие не грех, – повторил Василий слова, которые слышал от Киприана во время давней встречи с ним в Киеве. Киприан недовольно нахмурился, промолчал: не любил вспоминать те мятежные годы своего изгнания из Москвы. А Василий продолжал: – Да и то: грех не в уста, а из уст.
А Румянцев озабочен был тем, как гостей рассадить. По незыблемому уставу отцов и дедов передавался обычай гостевания: место по правую руку от хозяина – самое почетное, за ним другие нисходились по степеням.
Борис Константинович сразу занял высшее место – бездумно ли, просто по давней привычке либо же нарочито, чтобы насолить гостям и поставить хозяина дома в затруднение.
Киприан, придерживаясь евангельских слов, сел нарочно на самое низкое, третьеразрядное место, уверенный, что хозяин сведет его оттуда и посадит на то, какое следует. Румянцев так и поступил. Чтобы не было уж никаких недомолвок, он сразу же объявил нижегородскому великому князю:
– Господин князь! Не надейся больше на меня, я теперь уже не твой и не с тобой, а на тебя!
Борис Константинович не удивился и не опечалился – готов был к этому, покорно пересел на место второй ступени рядом с Максимом.
Василий Дмитриевич, усаживаясь на подобающее ему место и желая как-то сгладить неловкость, спросил:
– Шел я к тебе в кремль через ворота башни, которую Дмитриевской называют, это в честь кого же?
– Ее дед твой родной поставил, великий князь Дмитрий Константинович, – с явным удовольствием ответил Борис Константинович, счел нужным и добавить еще: – Отец Евдокии Дмитриевны, матушки твоей.
– И тот самый, который навел на Москву Тохтамыша, – вкрадчиво-ядовито дополнил Киприан.
– Нет, не он навел, а его шурья Василий да Семен, – стал торопливо оправдываться Борис Константинович. – Из безвыходности пришлось, хан принудил.
– Ведомо нам это слишком хорошо, – наставительно продолжал Киприан, уверенный в своем праве говорить и обвинять, – Дмитрий Константинович отнюдь не по нужде в услужение хану пошел, но сам первый погнал в Орду жениных братьев.
– Сам-то ты, святитель, бежал в тот август из Москвы к тверскому князю, – оборонялся Борис Константинович, – А надобно было бы тебе Москву блюсти в отсутствие великого князя.
– Меня с Евдокией Дмитриевной, Василием да малым братом его вече народное выпустило…
– Молву народа не надо предпочитать истине, ибо мнение народа часто бывает обманчиво, – кротко молвил архиепископ Евфросин. Киприан покосился на него, отповедал словами же Иоанна Златоуста:
– Но при беспрестанном испытании нельзя опасаться никакого обмана! – И, уже решительно беря разговор в свои руки, обернулся вновь к Борису Константиновичу: – Вот созываете вы третьеводни вече, горожане против тебя сказали. И бояре твои больше не верят в тебя. И хан Орды уж тебе не друг. А ты все упрямишься, на кого же надеешься?
Борис Константинович поднялся из-за стола, повернулся лицом к красному, восточному углу, где стояли в три тябла богато наряженные иконы, отыскал взглядом одну, с которой святой смотрел участливо и сострадательно, истово перекрестился и сказал с большой верой:
– Одна надежда на Николая Чудотворца, нашего нижегородского угодника.
Василий даже в лице переменился – столь неожиданно было признание: он ведь сам ехал сюда, больше всего уповая на заступу Николы, в честь которого отец монастырь поставил и икону которого брал с собой на Куликово поле. Образ этого святого был всегда перед очами Сергия Радонежского в его келье. И Стефан Пермский, великий просветитель народа, не расставался с иконой Николы. Небесный угодник искони сочувствует и содействует земле Русской, Москве как в больших ратных и трудных делах, так и в каждодневных – известно ведь всем, что однажды спас он ниву от града крестьянину, обратившемуся к нему за помощью, в другой раз помог мужику вытащить воз и не побоялся из-за этого замарать своего райского платья… Можно было принимать на веру, что когда-то, очень-очень давно, вершил он чудеса в иных землях: корабль от потопления спас, возвратил Вандалу похищенное у него имущество, а еврею золото, избавил отрока от утопления, освободил из темницы военачальника Петра, спас от плена Василия сына Агрикова, избавил Христофора от усекновения мечом, от потопления мужа по имени Дмитрий и много других услуг оказывал благочестивым константинопольцам, исцеляя расслабленных и ослепленных, выступая на защиту невинно осужденных, – да, все было это, было, но с той поры как пошла земля Русская, он «побеждает агарян, утешает христиан», как пели калики перехожие.
– С коих пор он вашим стал? – не утерпел и Максим, которого тоже задели слова нижегородского князя.
– А вот отче Евфросин поведает нам, пока мы будем снедать, – ответил Борис Константинович охотно и радуясь возможности как-то размыть и отсрочить опасный разговор, ради которого они все тут собрались.
Архиепископ суздальский едва притронулся к еде, сжевав единый капустный листочек, стал неторопливо повествовать хорошо известную всем нижегородцам историю:
– Как ни издевались татары-завоеватели над всем русским народом, над русскими князьями, над русской верой, как ни кичились они своей силой и властью, не могли они не видеть во многом явного превосходства христиан над ними, варварами. И вот один знатный молодой привратник-татарин в Сарае все сравнивал-сравнивал являвшихся к его хану на поклон в Орду русских со своими соотечественниками да и проникся против воли своей любовью к татарским данникам. А как стал узнавать их веру, жизнь, нравы и обычаи, вовсе привязался к ним сердцем и яснее стали ему дикость, невежество и безнравственность жизни единоплеменников. Стали разрывать его душевные муки, не выдержал он сознания своего нечестия и решился оставить свою степь и бежать в Русь. Тихо скрылся из Орды, притворясь утопленником в Волге, и поехал в Суздаль. Здесь он крестился и получил православное имя Клеопы, поступил на службу к князю. Очень он был рад, жил, служил и стал русским до неузнаваемости. Князь полюбил его за искреннее благочестие, доброту, честность. Он женился на русской; имел детей и стал истинным русским боярином. Когда великому князю Дмитрию Константиновичу нужен стал опытный посол в Орду, чтобы заполучить ярлык, Клеопа сам вызвался выполнить многотрудное дело. Да и кто мог быть опытнее здесь, как не прежний привратник царского двора, любимец хана? Князь благословил его, отправил с надеждой в ханскую ставку. Увидел Клеопа свои родные кибитки, степи, море Хвалынское, прослезился, однако теперь ему еще горше было видеть у своих единоплеменников неверие и варварство, порадовался он, что стал христианином, потянуло его скорее в Суздаль, на Русь – новую и дорогую родину. Поторопился он исполнить поручение великого князя, нетерпелив был, не так умело и успешно повел дело, как надобно было, и один старый придворный узнал его. Доложил хану, что это беглец, изменник и вероотступник. Хан в великий гнев пришел, велел заключить Клеопу в темницу. Стали его истязать и мучить, требуя, чтобы он во всем признался и вернулся в прежнюю веру. Клеопа отказывался. Его бичевали воловьими жилами, требовали отречения от православия. Клеопа стоял твердо. Тогда ему объявили от имени хана, что если он будет так упорствовать до следующего дня, то утреннее солнце своими лучами осветит только обезглавленный труп его, а затем в тяжелых оковах оставили его на ночь в темнице. Но исповедник Христов был непоколебим. Искал утешения и укрепления в молитвах к Господу и призывал на помощь святителя Николая. Господь услышал молитву мученика и прислал ему избавителя – своего угодника Николая.
Чудотворец, озаренный небесным светом, тихо явился Клеопе, разрубил единым своим прикосновением его оковы и сказал: «Иди за мной!» Неслышно прошли они через чудесным образом распахнувшиеся двери темницы, невидимо для стражи ушли из ханской ставки. Благополучно достиг Клеопа Суздаля, где уже были наслышаны о его злосчастии и не чаяли видеть живого. В память дивного спасения Клеопа написал икону святителя…
– Видел небось, Василий Дмитриевич, когда в кремль ехал, храм каменный на реке Почайне, где впадает она в Волгу, – пояснил Борис Константинович, – он как раз в честь Николы Чудотворца нами поставлен, там и образ его, написанный Клеопой, пребывает.
Василий слушал рассказ архиепископа с глухим раздражением, которое не хотел до поры выказывать, а благодушные слова Бориса Константиновича показались ему хорошим поводом для того, чтобы дать волю своему гневу.
– Я не только этот каменный храм видел, – начал он тихо, но с явной острасткой, которую почувствовали все, и все немедленно осмоктали бороды и усы. – Видел, что не на одного только Николая Чудотворца ты уповаешь… За ослонным тыном с опольной стороны ров копаешь, чесноку навез… Что, будешь берму из этих кольев устраивать?
– Так ведь, Василий Дмитриевич, известно же: умирать собрался, а рожь сей, – попытался Борис Константинович отвести в сторону разговор, но Василий вернул его в прежнюю стезю:
– Будешь оборонять город или подобру отдашь мне ключи от него?
Борис Константинович закорежился, как береста на огне. Как и всякому смертному, свойственны были ему горячность и обидчивость, повод вспылить был слишком ощутительный, но он однако сумел подавить в себе первое бездумное побуждение и произнес рассудливо слова, давно им обдуманные.
– Я ведь почему хотел с тобой с глазу на глаз говорить… Знаю я, Василий Дмитриевич, что ты глубоко чтишь предков своих, стараешься во всем следовать примеру пращуров.
Тишина настоялась такая, что слышно стало, как потрескивает фитилек лампадки на божнице, каждый задумался: куда это он гнет? Борис Константинович не долго томил.
– Когда Древняя Русь была не столь большой, один князь в ней управлялся. А разрослось Киевское государство, стало в нем два соправителя, помнишь Святослав Всеволодович владел Киевом самим, а в весях полным хозяином был Рюрик?
За столом произошло шевеление, все обратились взглядом к Василию Дмитриевичу. А тот сразу все понял, спросил насмешливо.
– «Весями» хотел бы ты считать нижегородскосуздальские земли?
– Ну да, по сравнению с Москвой наш Нижний все одно что село…
– А в чем же роль свою ты видишь?
– Выправлять кривду, быть заступой народу от врагов, помогать всем сирым и убогим.
– А я, значит, со своими князьями и боярами не управлюсь со всем и сирым да убогим не помогу?
Тут уж ясно прослушиваемое возмущение началось за столом, и скоро полностью обнаружилось, что Борис Константинович совершенно одинок во вчера еще гостеприимном, а нынче уж враждебном доме Василия Румянцева.
– Вот откуда, значит, это идет! – грозно и ликующе вступил Киприан. – А я-то все понять не мог, что это архиепископ суздальский надумал русскую митрополию расчленять…
– Это не я надумал, так испокон века было – слабо возразил Евфросин. – Но и то правда, где рука, там и голова.
Посчитал нужным свое верховное слово молвить и царевич Улан высокомерно повторяя слова хана:
– Как ни собирай кнутовые ремни в горсть, они будут расплетаться, если нет одного узла. – И добавил уж от себя. – Для Руси такой узел – грамота царя Тохтамыша.
– Имя мое, – произнес во вновь установившейся тишине Василий Дмитриевич, – значит по-гречески «царь», а разве же царь может иметь соправителей? – Он говорил спокойно и насмешливо, решив, что больше не должен ввязываться в споры и пререкания.
Борис Константинович, пережив сильное уязвление, сейчас вспыхнул:
– А мое имя нашенское, славянское… – Но вновь сумел подавить в себе гнев, понимая, что он может привести его лишь к окончательному надругательству над его великокняжеским достоинством. – Я почему, Василий Дмитриевич, осмелился предложить себя в соправители твои?.. Не потому только, что «сельцо» мое Нижегородское поболее любого европейского королевства будет, и не потому, что Нижний Новгород стал ловчее, чем Москва либо Тверь, Рязань, либо Верхний Новгород, не поэтому, а вот почему: сюда сходятся все пути – рязанский по Оке, московский по Клязьме, тверской и новгородский по Волге. Главное дело Руси – от них вот избавиться, – он небрежно ткнул перстом в царевича Улана, ударил во все тяжкие, надеясь хоть так вызвать сочувствие к себе, – Москва твоя уязвима со стороны Дикого Поля, а вокруг новгородских наших пятин заслон из лесов и болот. Но ты же не захочешь сделать стольным городом Нижний, в Москве будет по-прежнему голова Руси, а я стану ее верной рукой, стану голову эту оборонять.
– Полно, господин князь! Ты себя-то оборонить не умеешь, – грубо перебил своего бывшего властелина боярин Румянцев, давая этим знать, что он в своем решении непоколебим и что надеяться Борису Константиновичу больше вовсе не на кого.
– Молчи, холоп! – впервые вышел из себя окончательно Борис Константинович и ударил рукой по столешнице. Но был его гнев не страшен, но смешон; он только зашиб до боли мизинный палец, стал дуть на него, дрябло тряс рукой.
Василий Дмитриевич встал из-за стола. Поднялись разом и все остальные. Смышленые бояре Максим и Василий заняли место у входных дверей.
– Будешь в Нижнем, будешь, останешься здесь объявил Василий Дмитриевич, – однако не как соправитель, вообще не как князь, а как холопище! Данилу, Ивана, Марию Ольгердовну и всех еще, кто будет бунтовать, развести по разным городам.
Максим понятливо кивал головой, Василий Дмитриевич с опаской покосился на него, добавил:
– Развести, но без вредительства членов.
– С Евфросином бы тоже разом решить, – вставил Киприан.
Максим оказался догадливым излишне, брякнул:
– Ветх денми, встрясу не вынесет.
Василий Дмитриевич осуждающе посмотрел на верного своего слугу, решил:
– Архиепископ верно понял, что где голова, там и рука, однако, если пожелает, может ехать в Константинополь на патриарший суд.
Киприан охотно согласился с этим, поймав во взгляде великого князя уверенность в том. что суд этот будет и скорым, и правым. Понял все и Евфросин, произнес горестно:
– Казна патриаршая в Константинополе все скудеет, а я не имею серебра, чтобы хоть чуть пополнить ее…
– Вот, вот верно, отче, говоришь! Не правдою а златом да серебром добилась Москва права на Нижний Новгород! – Борис Константинович сорвался на крик. Он стоял у дверей и очень хорошо знал, что окружившие его слуги готовы сразу же за порогом заломить ему за спину руки и вести в поруб. – Сказано в Священном писании не всуе – «безумного очи конец вселенная», уж воистину конец света близится алчность да зависть не могут не довести мир до погибели. – Он что-то еще выкрикивал за дверями в сенях, но Василий не вслушивался он чувствовал себя уже за пределами тревог и напастей, мог теперь безбоязненно и спокойно заняться последками вершащегося действа по подчинению Москве обширного Нижегородско-Суздальского княжества. Были у великого князя московского земли вотчинные, наследственные, теперь заимел он еще и удельные – те, что самолично приобрел. Теперь имел он право послать в Муром, Городец, Тарусу, Мещеру своих наместников, данщиков, приставов, выдавать там жалованные грамоты, держать закладников и оброчников.
И, будто угадав ход мысли великого князя, Василий Румянцев обронил между прочим:
– В Москве рыбы много, однако не хватает все же… Надо везти ее и с Севера, и из Поволжья. У нас тут шибко богатые рыбные ловы и тони – не только в самой Волге, но и в речках Суре, Ветлуге, Унже, Керженце… Есть у нас такие рыбы, каких нигде больше не водится, белая семга-белорыбица, что вкуснее всякой красной, стерлядь особенная тоже, царская…
– Вот мы ее и попробуем у тебя, – решил Василий. – Здесь я жить буду, покуда в обратный путь не соберусь.
– Милости прошу, милости прошу! – обрадовался Румянцев.
Сделать дом боярина своим местопребыванием до отъезда в Москву Василий Дмитриевич наметил еще до начала обеда, сразу же, как только зашли сюда: был этот дом очень похож на поместье подмосковного боярина Красного-Снабди – тоже трехжильный, тоже с тремя крыльцами для троекратной встречи почетных гостей, тоже с навесами на кувшинообразных подпорках.
6
Когда Василий сказал Румянцеву, что намерен сделать своим наместником Красного-Снабдю тот поначалу опечалился: видно, втайне надеялся сам стать первым лицом в Нижнем, но сам же сейчас и понял, что нельзя ему этот пост занимать, ибо слишком много будет у него явных и тайных врагов. Он обещал по-прежнему быть надежным доброхотом Москвы, обещался негласно помогать молодому московскому наместнику. А Снабдя и сам тоже оробел – слишком большое, сложное и неизведанное дело принимал на свои плечи. И тогда Василий решил временно двух наместников-«соправителей» оставить: кроме Владимира Даниловича еще и Дмитрия Александровича Всеволожа.
Самолично ставил великий князь всех казначеев и дьяков, которые будут ведать прибытком, всех тиунов и посельских, доводчиков, приставов и прочих пошлинных людей.