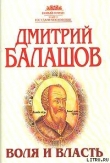Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
– Не можно сомневаться, что русский мастер писал… Верно изобразил братьев. Их образ навеки в памяти народа запечатлелся, передается от деда к отцу, от отца к сыну… И в летописи точное описание ликов их…
Феофан, прислушиваясь, сократил шаг и словно бы остановиться надумал, но лишь снова поднял высокий воротник и зашагал еще решительнее и злее.
Деревья на берегу Яузы были темными, молчаливыми, неподвижными. И кажется – они разобщены, словно бы общее горе не соединило их, а, напротив, развело, чтобы каждый в одиночку переносил зимние невзгоды. Но это лишь кажущееся разобщение – меж ними нет вражды, и уже это одно делает их едиными.
– Знаешь, Андрейка, – остановившись, заговорил Феофан голосом задушевным, растроганным даже, – знаешь, какую краску решил я положить для свода небесного?.. Я «Праздники» пишу, ты лицезрел небось?
– Да, да, лицезрел!.. Какую же? – Андрей не сомневался, что волшебник Грек сейчас раскроет ему один из своих секретов получения голубца, и не ошибся.
– Ни одна другая краска, Андрейка, не может передать так прозрачность неба и все его оттенки, как ультрамарин, краска лазуревая – нежный и высокий цвет у нее!
– Как же ты ее приготовишь? Истолчешь в порошок заморский камень лазурит?
– Я покажу тебе! – пообещал Феофан. – Видишь, уже огни за деревьями, моя слобода.
Греки, жившие в Таганской, слободе, готовили пищу под открытым небом на треножных подставках, которые называли по-своему, по-гречески, таганами, отчего москвичи и слободу их так обозначили.
При свете ближнего костра Феофан вытащил из кармана шубы нательный четырехконечный крестик, выточенный из синего с белыми прожилками камня. Крестик был старый, правый конец перекладины наполовину отбит.
– Вот смотри, Андрейка, ляпис-лазурь… Камень сей меди в себе нимало не содержит и из металла только несколько железных частиц в себе имеет.
– Откуда он у тебя?
– Был тут купец наш один… Ушел.
– Туда ушел?
– Да, в мир забвения ушел он, а когда заканчивал свои земные расчеты, отказал мне этот крест, который он выменял когда-то на прежний свой золотой у одного русского в Подолии – побратались они в какой-то тяжкий час жизненных испытаний.
– Как же можно, Феофан?
– Что такое, Андрея?.. Вот пойдем поближе к костру. Секрет сейчас тебе расскажу. Одному тебе, потому как только ты один и достоин…
– Так ведь крест-то нательный?
– Вэрно! На Божье дело и пойдет, куда как с добром! – Феофан оглянулся с подозрением на подходившего к костру кашевара, снизил голос до шепота. – Это, Андрейка, не просто сделать. Надо лазурит прежде на огне прокалить, отчего цвет его станет гуще. Дробить и отмывать надо в различных маслах и в воде, а только потом уж растирать, понял?
– Понять-то понял, но как же ты будешь калить крестик?
– Обыкновенно, в тигле.
– Да нет, не то… Ведь это же – крест, это – представительство жизни будущей, загробной и блаженной, а ты…
– Эка!.. Не восьмиконечный же, не православный, а латинский крыж.
– Все одно, его же два православных человека на груди носили… Купец твой с ним перенес страдание и смерть, ушел с верой в будущее счастье и радость, а ты – «в тигле» все это хочешь спалить! Не надо, не делай этого, Феофан!
– Э-э, кабы Бог послушал худого пастыря, так весь скот бы выдох!
– Я не браню тебя, взываю лишь, крест перейти – грех на душу.
Феофан смотрел на Андрея и не понимал его – это ясно было и по недоумевающему взгляду его, и по тем словам, которыми он бездумно отговорился.
– Много ума – много греха, а на дурне не взыщут.
Андрей помолчал, подождал, не скажет ли еще чего-нибудь Грек, а не дождавшись, молча повернулся и пошел прочь от костра. Дошел до дороги, и тут его догнал Феофан. Бежал по следу быстро, но не запыхался, задержал Андрея, схватил цепкими пальцами за рукав нагольного тулупчика:
– Слушай, Андрей… Я вот не видел чудного старца, святого Сергия… Он похож, я думаю, на тебя, такой же…
– Какой – «такой же»?
– Ну, как бы малахольный, что ли…
– Это вас, греков, дразнят малосольными! отшутился Андрей, но Феофан не отставал:
– Епифаний Премудрый говорит, что Сергий стяжал паче всех смирение безмерное и любовь нелицемерную равно ко всем человекам, и всех вкупе равно любляше и равно чтяше, как Епифаний говорит, не избирая, не судя, не зря на лица человеком и ни на кого же не возносяся, не осуждая, не клевеща, не держа ни на кого злобы, ни ярости, ни гнева, ни лютости.
– Да, я был в его послушании и знаю: правду пишет Епифаний про Сергия… Чудный старец, верно, исполнен смирения безмерного, тих и кроток так, что ему вовсе чужды гнев или ярость, жестокость и лютость Он незлобив без всякой примеси хитрости Знаешь, бывают люди себе на уме, а он нет он, как Епифаний говорит, имеет «простоту без пестроты», он исполнен любви не лицемерной и нелицеприятной ко всем людям без разбора…
А правду Епифаний рассказывает, будто Сергий в отрочестве, до святости, не брал с собой ни кнута, ни погоныча, а скот единого слова его слушался?
– Даже и медведи, приходившие к нему потом на Маковец, кротко трапезу из рук его принимали. Есть самовидцы этого.
Феофан зябко втягивал голову в волчий воротник, переступал ногами на хрустком снегу, но не уходил. Андрей чаял, что Грек затем догнал его, чтобы сказать о своем согласии не калить в тигле лазуритовый крестик, но Феофан, воздев очи небу, молча рассматривал холодные сгустки звездных сияний, изморозь Млечного Пути – невидимой глазу простого смертного, но ведомой каждому христианину дороги Богородицы ко Христу в рай. Но все же, видно, было что-то у Грека на уме, имел он что-то сказать Андрею. И сказал:
– А ты вот молитву в соборе тростил, мне вовсе не знаемую… Про то, что мы исчезнем, «как утренняя роса»?
Андрею приятно было, что Грек столь внимателен и приглядчив, что сумел оценить тонко и проникновенно выраженную в молитве терпимость и Божью снисходительность к людям, ответил с удовольствием:
– То обращение ко Господу первого митрополита из русских Иллариона.
– Видишь вот. и святые у вас свои, и молитвы тоже русские… Изографов ваших я тоже встречал и в Новом Городе, и в Суздале. В Москве тоже… А если еще и ты образуешься, когда съездишь в святые места Учись, только помни, что нельзя на доске или фреске допускать изображений, производящих воспламенение нечистых удовольствий.
– Разве же бывает такое? – искренне удивился Андрей.
И тут наконец раскрылся Феофан, сказал то, что так долго таил:
– Кирилл с Белого озера приезжал ко мне и не захотел икон моего письма брать – говорит, что излишне телесны, осязаемы у меня святые. Как, говорит, у латинян непотребство. Но какое же у меня непотребство, а-а? Ты вот в Рим попадешь – увидишь: византизм в живописи подвергается там гонению, вместо святых пишутся грешные человеки и грешного же обличья – фигуры тут и тут с выпуклостью, абы живая плоть, и даже одежда не простая на них, а в складках. Не в таких, как у меня, не светом да тенью, но многоцветьем усложненных, письмом многослойным углубленных, дабы телесность человечья сквозь них угадывалась. Один флорентийский изограф Варвару-великомученицу срисовал с лиходельницы, а в Деве Марии – подумать только, в Деве Марии, единственной женщине в мире, допущенной к трону Бога! – свою полюбовницу, известную блудницу изо-образ-ил… Нэ-эт, этому не учись! Бегом беги подальше от них, как я сбежал в вашу чистую, святую Русь. Вы любите, чтобы и в песнях, и в сказаниях, и в живописи все было пристойно, целомудренно. И это – я понял, я знаю! – не от глупости или отсталости, а от уважения святынь, вы даже ведь и что-то непотребное в жизни умеете обсказать со скромностью. И уж так это мне любо, что я Русь как родину приемлю. И обидно мне слышать, да еще от такого богоуветливого человека, как Кирилл, будто в моих досках непотребство имеется… Нэт, ты скажи, Андрея, рази есть непотребство у меня?
– Нет, нет никакого непотребства у тебя! – горячо заверил Андрей, – Зело смело ты пишешь, это – да, так смело, что иной раз я смотрю и мураши по телу… И то, конечно, видно, что не простые то люди на фресках и досках твоих – сильные и телесно, и духовно. – Думал Андрей, что этих слов ждет от него Феофан, но оказалось, что в душе Грека была еще одна потайная дверца, оказалось, что не просто отрицания непотребства желал он услышать, но нужна ему была похвала, нужно было признание его первым и единственным изографом – он спросил прямо:
– Скажи, писал ли кто-нибудь когда-нибудь иконы лучше, чем я?
Андрей не нашел вопрос Феофана ни смешным, ни дерзким, ни наивным: он слишком хорошо понимал душу этого художника, понимал, чувствовал, что в его обыкновенной, человеческой и хрупкой груди горит пепелящий огонь, держать который в затворе выше сил смертного; огонь этот то охватывает творца пламенем чудовищного по напряжению труда, то возносит его в славе и в счастье, то бросает ниц, как последнего изгоя рода человеческого, а то вот делает слабым и сомневающимся, тщетно борющимся со своими слабостями и требующим немедленного слова полного и безусловного ободрения.
Феофан ждал ответа, опять запрокинув голову, рассматривая Моисееву дорогу, состоящую из несчетной бездны звезд. Понужнул негромко, не очень уверенно:
– Ну-у, что же ты молчишь?..
И тут подумалось еще Андрею, что потому-то, наверное, и пишет лики Феофан так, потому-то, знать, убеленные сединами старцы на его досках не в силах преодолеть внутреннего разлада, вечного страха искуса и гордынности. Но это же ведь – страх искуса и гордынности – грех превеликий, которого не должно быть в душе божественного творца!.. Андрей сам испугался сделанного открытия и, конечно же, не посмел эту свою догадку высказать, а на нетерпеливый повторный вопрос Феофана сказал только:
– Ты пишешь так, как никто не писал. Я признаюсь, что ты потряс меня и перевернул во мне все представления об изографической хитрости. Ты великий живописец: все плоско писали, ты первый делаешь с выпуклостью и без непотребства. Я знаю, как ты это делаешь, я люблю смотреть на твою работу, но сам, если бы меня когда-нибудь вразумил Господь, не стал бы так писать – такими мазками, широкими и небрежными словно бы, с такими бликами, без ясных форм, зыбко так, призрачно… Нет, не стал бы!
– А почему ты никак не пишешь – ни по-моему, ни по-своему?
– Не знаю… Черти душу скребут… Но знаю: если когда-нибудь возьму кисть в руки, как ты – не стану.
– Нэ станешь, потому что нэ сумеешь, – опять с сильным акцентом стал говорить Феофан, как всегда в минуты волнения и глубокого самоощущения своего величия и своей изографической исключительности. Повернулся и пошел опять к огням таганов, а Андрей неспешно зашагал дальше по Владимирской дороге[50]50
Владимирская дорога – дорога из Москвы на Владимир, ныне шоссе Энтузиастов.
[Закрыть].
«Теперь уж, наверное, пустит он на краску побратимский крест», – с прежним огорчением подумал Андрей и, чтобы разогнать досаду, резко зашагал к стоявшему на расстоянии одного окрика[51]51
Окрик – мера длины, равная примерно тремстам метрам.
[Закрыть] на крутом берегу Яузы монастырскому подворью. Маковка церкви во имя Нерукотворного Христа была облита серебряным светом луны, а очищенные усердными монахами от снега лемешные и тесовые крыши келий и трапезной выделялись на заснеженном дворе черными квадратами. Ни лампадного язычка, ни огня лучины или фитилька в плошке с маслом – ни малого светлого проблеска не рассмотреть было сквозь затянутые мутными рыбьими пузырями крохотные оконца. И ни живой души окрест, но Андрей знал, что в тени частокола непременно таится, карауля его, несчастный Пысой, утешить которого нечем и нынче опять.
Андрей знал, что стоит ему сделать несколько шагов, как Пысой сразу приметит и признает его, кликнет по имени и побежит навстречу прямо через сугробы. Этого не избежать, но хотелось побыть одному, обдумать разговор с Феофаном, слишком значительный разговор, первый у них такой разговор, и, наверное, неповторимый уж.
Он запрокинул голову, как делал это Феофан, и увидел белесоватый широкий пояс Млечного Пути, тянущийся от земли к небу, от дуги овиди к самому зениту. Над мерцающей дорогой в небесной глубине ярко горят шесть звезд небесного Трона[52]52
Трон – так называли в средние века созвездие Кассиопеи.
[Закрыть]. Андрей с детства знал, что это престол Божий, а Млечный Путь – гигантская лестница, соединяющая землю с небом, человека с его Творцом. Но Феофан-то, может, не только это, что-то еще большее и значительное видел, когда смотрел так долго на находящееся превыше небес созвездие Трона?.. Кабы спросить об этом его? Но нет, как можно!..
Есть такие сокровенные вещи, о которых вслух никак говорить нельзя. Андрей корил себя и испытывал чувство стыда за то, что и великого князя уверял, и Феофану объявил, что не будет писать иконы и фрески, но сам-то про себя всегда знал: не сможет он жить без этого, как без хлеба и воды, как без воздуха и как без этих вот звезд.
Интересно, однако, почему так Сергий вдруг заинтересовал Феофана? А может быть, и не вдруг? И раньше замечал Андрей в заносчивом Греке не только гордынность и капризность, но и нечто вроде робости, застенчивости… Только возможно ли совмещение таких противоречий в душе?.. В обычной душе – нет, невозможно, но в душе титана, сложной и пониманию недоступной, выходит, возможно!.. О-о, Феофан Грек, потому-то, знать, непостижимо искусство твое, что и душа твоя непостижима столь же!..
4
«Разве же он еще не постригся?» – спросила Живана, и вопросом этим сказала: «Нет, не пойду я за Пысоя замуж, пусть поступает в монастырь, как и грозился сделать в случае моего отказа». И этот ответ надо было сейчас передать пришедшему из заречного села Воронцова и, может, давно уж караулящему Андрея возле монастырских стен Пысою.
Первый раз Андрей увидел его возле Андроникова монастыря с месяц назад. Тот слонялся перед монастырскими воротами, пытаясь заглянуть внутрь двора и не решаясь сделать это открыто и прямо. Андрей спросил его, стесняется тот или боится зайти. Пысой признался, что у него нет сил решиться. А решение его – идти в монахи или погодить? – зависело от того, оказалось, что не может Пысой понять, где лучше – у Андроника, что поблизости от родного села, или же, напротив, подальше податься ему от дома – в Крутицкий монастырь или даже в Симонов. Наивность парня сразу была видна, но Андрей не удивился ей и не осудил Пысоя.
Тот раз стоял солнечный и не очень морозный день, Андрей совершал свой обычный путь на Воронцово поле[53]53
Воронцово поле – село принадлежавшее знатным боярам Воронцовым-Вельяминовым, при Дмитрии Донском последний московский тысяцкий Вельяминов умер монахом и завещал село Андрониковой обители.
[Закрыть] до речки Черногрявки, откуда привозил, когда наступал его черед, на санках березовые дрова, заготовленные монахами – распиленные и расколотые, уложенные в поленницы. Пысой вызвался помочь, и на возвратном пути Андрей рассказал ему историю Андрониковой обители.
Монастырская лошадка была старой, с провислым брюхом. Одного уха у нее недоставало, знала она лучшие времена, участвовала в ратях да и пострадала от татарской сабли. Чтобы облегчить и как-то скрасить ей жизнь, Андрей всегда брал с собой куски хлеба, оставшиеся после трапезы, скармливал их лошади в многотрудном пути с дровами. И никогда не садился в розвальни, шел рядом. И на этот раз поступил так же. И Пысой шел рядом. Дорога была узкой, Пысою приходилось порой сходить на заснеженную обочину, и он, проваливаясь, спотыкаясь и даже падая иногда, старался не отстать от Андрея, слушал его рассказ.
Андроникова обитель основана самим митрополитом Алексием при памятных обстоятельствах. Возвращался он из Царьграда после поставления на русскую митрополию патриархом Филофеем. В море зеленые волны столь страшно разгулялись, что все плывшие отчаялись в живых остаться, каждый о себе молился. Алексий дал обет Богу: «Если пристанища достигнем, то церковь воздвигну и составлю монастырское общее житие». И, как записал летописец, «бысть тишина велиа, и достигохом в пристанище тихое месяца августа в 16 день; и по своему обещанию помыслих поставиги церковь нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и устроити общее житие». Пришел Алексий к блаженному Сергию и сказал: «Хощу ныне исполнити обещание свое». Сергий рече ему: «Добро убо и блаженно дело, еже хощеши сотворити; и аще что требуещи от нас, сиа убо вся невозбранна ти есть». Митрополит же рече: «Хощу ученика твоего Андроника в том монастыре начальником устроить», на что Сергий ответствовал: «Как хочешь, так и твори». Алексий дал монастырю милостыню довольну и братию учредил. Взял у Сергия инока Андроника, пришел с ним в Москву. Здесь на Яузе, при впадении в нее ручья Золотой Рожок, где было место, угодное к монастырскому строению, воздвиг церковь во имя Нерукотворного образа Христова, который с собою принес из Царьграда, золотом и бисером украшенный. Этот образ и доныне в монастырской церкви стоит.
Дорога от лесной делянки до монастыря была бы коротка, но извивалась и стала оттого вдвое длиннее. Она то берегом шла, то лесом, то спускалась на реку. Этой осенью Яуза долго не замерзала, долго тянулись и тянулись по течению куски льда, но в одну из ноябрьских ночей резко переменился ветер, погнал встречь течению, и они стали дыбиться, громоздиться, а тут прихватил реку мороз, получился покров льда торосистым. Но на многих излучинах, под прикрытием крутых и обросших берегов, лед все же был гладким, и тут-то дорога и сворачивала на реку, где тащить воз лошади было полегче. Когда выбрались на очередное гладкое место, передохнули, Пысой заключил: «Этот монастырь мне годится».
Снег скрипел под полозьями розвальней, а когда спустились по отлогому берегу на лед речки, лошадиные копыта забухали гулко, с протяжным, застывающим в морозном воздухе звоном.
«Пойду! Годится это мне!» – окончательно порешил Пысой.
Андрею пришлось охолонить парня: сказать, что главное не в том, годится ли монастырь Пысою, но подходит ли Пысой монастырю, что не всяк монах, на ком клобук. На вопрос же, очень ли он стремится послушником стать, Пысой ответил простодушно, что вовсе не стремится, а решил сделать это из-за того, что не может жениться на приглянувшейся ему девице по имени Живана.
Боярин, у которого Живана в холопках была, требовал за нее выкуп – двенадцать гривен, почти полфунта серебра. А Пысой такой суммы не только никогда в своих руках не держал, но даже не видел, чтобы кто-нибудь другой обладал такими деньжищами. Родом был он из боярской семьи, имелась у родителей вотчина немалая, жили не бедно, однако денег свободных никогда в доме не водилось. Как и все русские феодалы, они все продукты, производимые их холопами, смердами, сиротами, серебрениками, изорниками, старожильцами, использовали исключительно лишь для нужд своей семьи да многочисленной дворни, слуг, челяди. Полученные в качестве натурального оброка хлеб, мясо, рыбу, дичь, ягоды, лен, полотна, кожи, мед поглощались внутри вотчины, на продажу шла лишь малость, когда надо было заиметь какие-нибудь ремесленные изделия или редкие заморские товары. Никогда не было заведено у русских заготавливать впрок продукты; серебро шло на посуду, золото – на украшения; не принято было и деньги копить – этому постепенно научили пришлые из других миров люди. Родители Пысоя жили по старине: «Бог даст день, даст и пищу», а когда стряслась беда, остался Пысой гол как сокол.
Надо бы тогда Андрею поинтересоваться, только ли в деньгах дело, но он воспламенился желанием немедленно выручить парня, не стал вникать в подробности.
Сгрузили они возле монастырской поварни березовые напиленные дрова, распрягли лошадь, задали ей корму. Затем Андрей сходил в келью и вынес свою новую, ненадеванную шапку из соболей. Она, можно сказать, случайно оказалась у него: расписывали церковь в Звенигороде, после окончания работ получила вся дружина по уговору сполна, но князь Юрий Дмитриевич столь премного доволен остался, что наградил сверх меры еще и соболями вот.
Пысой шапку взять отказался, опасаясь, что его с ней сочтут за вора. Андрей посмотрел на его одежду, опорки, заячий треух, вытертый до шкурки, согласился, что да – не по Пысою шапка.
Пошли в Москву вместе. На Ленивом Вражке за Арбатом жил один резоимец. Это был притекший из Польши и быстро разжившийся довольно богатой усадьбой иудей. Иудей как иудей, обыкновенный иудей – с пейсами, в длинном хитоне, в ермолке, подбитой толстой кожей. Сначала был он ювелиром, отливал в каменных литейных формочках золотые и серебряные перстни, бляшки, нательные крестики, подвески, делал костяные гребни, прясла, браслеты из стекла, бусы. Даже из дерева он поделки готовил на продажу – коромысла, дуги, санные полозья. Однако разбогател он не на ремеслах, а на том, что давал в долг деньги под залог вещей.
Андрееву шапку хозяин усадьбы разглядывал презрительно, почти брезгливо, словно то были не соболя, а дохлые крысы. Сказал, что оценивает ее в два рубля, но после некоторого торга согласился дать четырнадцать гривен. «Дороже моей невесты твоя шапка!» – удивился Пысой, на которого ростовщик сделал долговую запись, уведомив, что через месяц шапка будет стоить шестнадцать гривен, еще через месяц – двадцать, а затем ее может побить моль. Пысой заартачился было, стал торговаться и оскорбил ростовщика, назвав его христопродавцем. Но тот не обиделся на слово, был он иудей умный и оттого покойный и печальный: понимал он трагизм своего положения, как и положение всех других евреев – вечных переселенцев[54]54
Слово «еврей» в переводе значит «переселенец».
[Закрыть]1. И он сказал Пысою очень толково и горестно, что у каждого народа есть пристанище, есть свой клочок земли, даже кочевые татары и монголы могут найти утешение в своих степях, даже дикие зыряне, у которых он скупал по дешевке мягкую рухлядь, имеют свою реку и свои снега, а у переселенца нет ничего, кроме этого вот кованого сундука, и чем полнее будет этот сундук, тем больше утешения получит его владелец. Пысой нашел эти слова вздорной отговоркой, но Андрей объяснил, что резоимец руководствуется Талмудом, который считается началом и концом мудрости человеческой, однако верить надо, что и он узрит свет истинный и главную божественную заповедь – любить ближнего, как самого себя; сидящий же на кованом сундуке достоин жалости и сострадания, а не гнева. Слова Андрея явно порадовали резоимца и даже на некоторое время вывели его из печали, он, вероятно, воскликнул при этом про себя: «А гуте идише коп!», как обычно делают еврейские ростовщики, если им удается удачно и ловко обтяпать какое-либо дельце, особенно если оно связано с надувательством христианина. Андрей заверил, что шапку выкупит, просил беречь ее от моли, в ответ услышал торжественную клятву: «Да чтобы я обнищал, как Иов!» – слова эти должны были свидетельствовать о том, что был он ростовщиком честным и порядочным. И он, конечно же, безошибочно угадал в Андрее добрую русскую душу, совершенно не зараженную безнравственностью национальной розни, а про Пысоя же подумал как о несчастном существе, лишенном природой сметливости, доброты и ума.
Поблизости от усадьбы ростовщика на берегу Черторного притока и тот боярин жил, у которого Живана была в невольницах. Андрею не хотелось идти к боярину, но поддался уговорам заробевшего вдруг Пысоя, о чем потом очень сожалел, потому что из-за этого совместного похода все, кажется, и приключилось.
Как выяснилось, Живана раз один лишь, и то мельком, в церкви видела Пысоя, вовсе не собиралась замуж за него идти, хотя и сказала, что хотела бы получить волю у боярина. Но Пысой из этих слов ее большие мечтания свои составил и сам в них поверил. Да, может, так бы оно и сталось, может, и глянулся бы он ей, не явись вместе с ним Андрей. Не то чтобы она сравнивала их, выбирала, капризничала, и не то чтобы Пысой проигрывал Андрею по обличью или был каким-то пыжиком – нет, и он, рослый, крупный, даже как бы и поважнее, позначительнее из себя выглядывал, нежели друг его в черной долгополой ряске. Загадочна душа человеческая, а душа женщины и вовсе не известно, чем руководствуется в своем выборе и в своих решениях. Почему показался ей Пысой непримечательным? Был Пысой вскидчив, резок, нетерпелив, а белое лицо Андрея, легкая осанка его являли пример спокойствия и устроенности, по взгляду его глубоко утопленных и потому не ясно какого цвета глаз нетрудно угадать было, как далек он от суеты будней.
Андрей раскаялся, что пришел, сразу же, как только Пысой рассказал о его соболиной шапке. Получилось, что Андрей против желания своего как бы нарушил заповедь Господню – «когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улице, чтобы прославляли их люди». А Живана с улыбкой, но вполне серьезно заявила, что раз ее выкупили за шапку Андрея, то она в таком случае становится его невольницей.
Сначала Андрей с Пысоем ее слова приняли как шутку, но Живана взяла их за незыблемое основание, неминучее начало, хотя скоро с несомненностью ясно стало, что словами этими она только лишь прикрывается, отговаривается.
Живану нельзя было, пожалуй, назвать красивой, но лицо ее сияло замечательной выразительностью. Она чуть подкашивала на один глаз, и этот порок вовсе не уменьшал ее дивной привлекательности, но, напротив, делал взгляд ее очень ласковым, лукавым и веселым – таким, какой может увлечь человека до болезненной страсти, что и произошло с Пысоем.
Он настойчиво преследовал ее, канючил: «Ну почему, почему ты не хочешь замуж за меня пойти?» Слышал в ответ: «Не догадываешься сам?» – «Нет». – «Что же, голова у тебя для того только, чтобы щи хлебать?» – смеялась она. «Нет, еще и меды пить, – надеялся он поддержать игривость общения, – да еще шапку носить». – «Вот-вот, дурень ты, Пыска!» – заключила она уже всерьез и с сердечной печалью.
Живана уехала от боярина, в рабстве у которого находилась с малых лет своих сиротских, стала жить трудолюбезно, кормясь тонкостным рукоделием. А когда поняла, что не может мирская судьба ее задаться, решила идти в монастырь, чтобы жить в постах и молитвах, в чтении божественных писаний, в умилении и в слезах. Иноческий идеал для оскорбленной женской личности был исключительным и самым высшим идеалом существования, ибо в нем одном только она и находила удовлетворение своим нравственным самостоятельным стремлениям: между семьей и монастырем ей не было места. Этим нравственносамостоятельным путем шли в основном вдовы, но и девицы немало постригались в монастырь – из тех, что увечны или стары, так что замуж взять их никто не хочет. И как редкое исключение были среди инокинь девицы и такой вот судьбы, как у Живаны.
5
Пысой, верно, ждал Андрея возле монастыря, но на этот раз не побежал ему встречь, видно безошибочно догадываясь, что и нынче обнадеживающих слов не услышит.
Андрей кивком головы позвал его за собой: еще утром уговорились, что вместе пойдут к игумену Александру, в послушание к которому хотел поступить Пысой.
В келью Александра войти без сугубого поклона было невозможно: дверной проем низкий, а Пысой, как и Андрей, росту преизрядного. Так и за порогом встали – в поясном преклонении. У Александра в келье в это время находились два монаха. Они стояли, сложив на груди в молитвенной кротости свои натруженные, крепкие руки, смотрели на вошедших приязненно.
Александра преемника основателя монастыря Андроника, знал Андрей много лет и любил его истинно по-братски. Если Сергий Радонежский был в Троице полным владыкой ума и сердца Андрея, то с Александром были они просто сотоварищи и сопостники. И судьбы жизненные у них были схожими. Александр тоже рано осиротел, тоже много поскитался по свету, тоже пережил горе, перевернувшее всю жизнь. Когда рассказывал Александр, как он в двадцать лет потерял сначала малютку-сына и как следом за ним ушла и двадцатилетняя жена, Андрею слишком понятны были его чувства: и в его жизни за одной страшной бедой последовала вторая, такая же неотвратимая. Оба они одинаково остались с сокрушенными и неутешными сердцами. В минуты особой откровенности поверял Александр самые тягостные свои воспоминания того, как он целые дни проводил на могилах жены и сына, друзья ходили за ним неотступно, боясь, что он с горя что-то сделает с собой, наложит руки на себя и тем тяжкий грех совершит против Бога. И совершил бы – это так было ясно Андрею! – ибо жизнь казалась совершенно бессмысленной, и не устерегли бы его друзья, не содрогнись он сам от мысли, что самовольный уход из земной жизни – это отступление от Бога живого и животворящего, это измена, нарушение присяги, данной Богу при крещении, это разорение святого, праведного и вечного Божьего закона, это оскорбление вечной и бесконечной Божьей правды, оскорбление Господа самого. И он сумел преодолеть великий искус – прервать своей рукой нить своей жизни, оставил себя пригвожденным к кресту страданий, хотя бесы и нашептывали ему советы насладиться свободой, подобно тому, как иудеи говорили Христу: «Сойди с креста – и уверуем». Не уклонился Александр от страданий, не позволил себе отделиться от Бога, а затем и всю свою жизнь без малого остатка посвятил одному Господу. Да и как было не сделать это ему, православному христианину, если даже начальник синагоги Иаир, когда умерла у него единственная дочь, презрев заповедь единоверных своих иудеев, при толпе свидетелей пал к ногам Иисуса Христа!.. Все это было слишком понятно Андрею, слишком близко и сокровенно.
И как кровь людская льется, оба они видели – один на Пьяне, второй на поле Куликовом.
Для обоих почти в одно время настала пора возмужания, пора гражданских тревог и душевных метаний, каждый чувствовал необоримую потребность выразить себя как сына своего времени, каждый понял, что как врага можно поразить мечом, так тьму можно разогнать делом, светлым, служащим добрым силам жизни. Александр переводил с греческого многие умные книги, а Андрею вложил Всевышний оружие более сильное, чем меч, – кисть изографа. И для обоих нормой жизни стал всепоглощающий труд: не только лес вырубать, дрова колоть, воду носить, огородничать, расчищать пашни, главное – ежедневные до изнурения труды ума и души.
К такому труду думал Андрей приобщить и Пысоя, с тем и ввел его в келью игумена. Сказал коротко, какая печаль подтолкнула Пысоя на иноческий подвиг, тот подтвердил, что да, в миру спастись ему не мощно, что там одни только мятеж да злоба. А когда Андрей сказал, что Живана в Хотьковский монастырь решила пойти, Пысой воскликнул:
– Тогда и я в Хотьковский! Я знаю, где это, буду с ней вместе[55]55
Хотьковский монастырь был тогда одновременно мужским и женским.
[Закрыть].
Александр с укоризной посмотрел на Андрея: мол, кого ты привел! Повернулся к поставцу – узкому ящику с полками без дверец, выбрал из пачки пергаментных свитков один лист.
– Аз, буки ведаешь? Чти вот здесь.
– Азбуку я ведаю… Умею, – похвалился Пысой и начал читать медленно, спотыкаясь, но все же верно передавая смысл написанного: «Песни песней Соломона… Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое – как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою, – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино… На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя…» – Пысой залился краской, рот растянул в улыбке.